 |
Кому ты опасен, историк?
Владимир Борисович Кобрин
Издательство "Московский рабочий" Москва 1992 г.
Снимки с сайта vivovoco.astronet.ru |
 |
 |
Кому ты опасен, историк?
Владимир Борисович Кобрин
Издательство "Московский рабочий" Москва 1992 г.
Снимки с сайта vivovoco.astronet.ru |
 |
Комментарии Асена Чилингирова (январь 2019 г.):
Книгата на Кобрин - чийто пълен текст и аз открих в интернет, но вече без придружителна статия към него - е интересен и дори особено ценен. Докато първите две части са "само" забавни и любопитни, третата част /според мене/ представлява НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНАТА АУТОПСИЯ на съветската и руската историография. Вчера се върнах за няколко часа отново на книгата, допълних я с няколко винетки и с мои маркировки (kobrin.doc, 1 Мб). А в допутинския период на гласността авторът е получил най-висока признателност за своята дейност - това може да прочетете във вече липсващата в интернет статия-послесловие. Затова закачам тук с втулка и новата версия на книгата при мене. С послесловието.
"С жълто маркирам лъжливите сведения, а със зелено - верните." - А.Ч.
2. По избам за книгами (Из записок собирателя)
- Наш сверстник Павлин Иванович
3. Гробница в Московском Кремле
- Полезное любопытство и любопытная польза
Андрей Львович Юрганов (2002): Владимир Борисович Кобрин (1930-1990)
1. ОТ АВТОРА
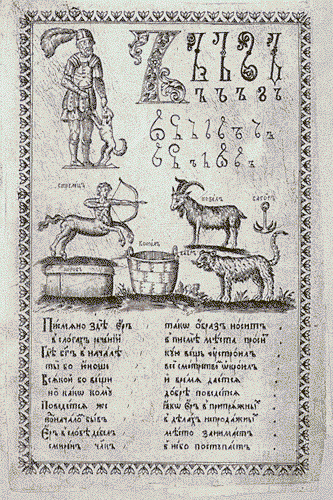
Эта книга посвящена труду историка. Состоит она из трех на первый взгляд не связанных между собою частей. Но связь эта все же существует. Первая часть - очерк "По избам за книгами" - рассказывает о том, как исторические источники попадают в архивохранилища (разумеется, это далеко не единственный путь). Очерк "Гробница в Московском Кремле" ставит целью на конкретном примере - изучении обстоятельств загадочной смерти царевича Дмитрия - показать, как историк анализирует источники. И, наконец, в эссе "Опасная профессия" автор решился поделиться своими мыслями о профессии историка, о ее светлых и теневых сторонах, ее опасности и притягательности.
Первый очерк нуждается в комментарии. Он был опубликован в № 12 "Нового мира" за 1969 год, одном из последних, подписанных Александром Трифоновичем Твардовским и его соратниками. Объясняю причины, по которым решаюсь через двадцать с лишним лет вернуться к уже опубликованному очерку.
Разгон редакции "Нового мира" (о его обстоятельствах сегодня написано уже много, в том числе близкими сотрудниками Твардовского - Ю.Г. Буртиным и В.Я. Лакшиным) был лишь заключительным аккордом идеологической реакции, наступившей после отставки Н.С. Хрущева. "Новому миру" всегда, в том числе и во времена хрущевской "оттепели", приходилось нелегко, но в последний год - особенно. Естественно, и главному редактору, и членам редколлегии приходилось идти на компромиссы: не публиковать ложь, но все же писать не всю правду. Думается, напрасно с высоты сегодняшней гласности такую линию поведения ставят иной раз в вину новомирцам: журнал мог бы прекратить свое существование и раньше, если бы его сотрудники пытались пробивать своими лбами сусловские стены. А даже в урезанном виде "Новый мир" играл такую важную общественную роль, какую не мог сыграть более радикальный и бескомпромиссный самиздат: сотни тысяч читателей легального журнала и в лучшем случае тысячи читателей самиздата.
С компромиссами пришлось столкнуться и мне. Но все по порядку. Свою рукопись я отнес как "самотек" в отдел прозы журнала и вручил замечательному редактору Анне Самойловне Берзер. На каком-то этапе очерк читала и Инна Петровна Борисова. Вообще, фильтров было немало: сначала рецензия (не только лестный для меня, но и давший своими критическими замечаниями пищу для размышлений и дальнейшей работы отзыв написала Елена Моисеевна Ржевская) и последовательное чтение заведующим отделом прозы Ефимом Яковлевичем Дорошем и фактическим заместителем Твардовского Владимиром Яковлевичем Лакшиным. Мнение Е. Дороша меня особенно волновало: его "Деревенский дневник" принадлежал к числу моих любимых книг, и очерк, несомненно, испытал на себе его влияние. Вероятно, эту некоторую созвучность почувствовал и сам Е. Дорош, вызвавшийся быть редактором очерка.
Ефим Дорош был своеобразным редактором. Он не менял в рукописи ни одного слова, не заменял неудачные обороты речи своими, удачными. На полях возле мест, вызвавших у редактора возражения, стояли цифры, а на отдельных листках были мелким и аккуратным почерком написаны перенумерованные замечания. Мне бесконечно жаль, что этих листков у меня нет: я возвращал их Е. Дорошу вместе со своими поправками. Замечания Е.Я. часто заставляли уточнить позицию, избавиться от некоторой легковесности, иногда побуждали к написанию целого нового куска или даже главки. Нет, Е. Дорош не советовал: "Напишите еще об этом". Просто, размышляя над его замечаниями, я ощущал внутреннюю необходимость высказаться подробнее.
С отдельными редакторскими замечаниями я соглашался неохотно, даже под легким давлением: сказывалась некоторая разница в литературных вкусах между Е. Дорошем и мною. Впрочем, эти поправки и вымарки не носили принципиального характера, и я шел на них, уважая право моего редактора стремиться к тому, чтобы в отредактированном им тексте не было того, что противоречит его взглядам. Часть этих текстов я позволил себе здесь восстановить.
Но были и другие поправки - из опасения запрета очерка цензурой. Правда, прямо Е.Я. мне об этом не говорил: наши отношения не перешли в особо доверительные, а сам Е. Дорош показался мне (может, я знал его недостаточно и ошибаюсь) человеком замкнутым, совершенно непохожим на традиционный стереотип журналиста. Он вписался скорее бы в академическую среду. Но сами вымарки в первую очередь касались того, что могло вызвать затруднения в Главлите.
Название "По избам за книгами" имело для меня особый смысл: автора интересовали не только древнерусские книги, а в еще большей степени избы (не случайно я поставил их на первое место), где они хранились, то есть люди, с которыми мы общались во время наших странствий. Так вот, при редактировании не уменьшалась часть, относящаяся к книгам, но заметно уменьшалась та, которая была посвящена "избам". Хотелось бы только подчеркнуть, что к покойному Е.Я. Дорошу я испытываю лишь чувство благодарности, а вынужденность части его правки я прекрасно понимал уже тогда. Добиваться же от Е.Я. небезопасной откровенности я считал для себя неудобным.
Казалось, мытарства рукописи кончились. По опыту я знал, что текст, согласованный с автором перед сдачей в типографию, обычно уже не меняется. А к осени 1969 года (точнее не помню) я уже прочитал и подписал в печать сверстанную корректуру. После этого оставалась только "сверка": проверка, все ли опечатки верстки исправлены. Техническая процедура, к которой автора даже не всегда привлекают. Поэтому я был удивлен, когда меня неожиданно вызвали к заместителю главного редактора Алексею Ивановичу Кондратовичу. Перед ним на столе лежала моя верстка.
Хотя Кондратович и видел меня в первый и в последний раз в жизни, он был предельно откровенен: - В вашем очерке пришлось очень много вычеркнуть. Я вас прошу посмотреть эту правку наедине с собой: соседний кабинет свободен. Там почитайте, успокойтесь, а потом приходите ко мне. Если что-то вам особенно дорого, подумаем, не сможем ли восстановить. Хотя заранее предупреждаю - шансов мало. Поймите, что у нас нет иного выхода. Пусть вас немного утешит,и он показал на карандашную помету в левом верхнем углу корректуры - "Хор. А.Т.". - Такое Александр Трифонович пишет редко. Не скажу, что тогда меня это особенно утешило. Мне показалось, что А. И. просто золотит мне пилюлю, проводит под наркозом сложную хирургическую операцию над моим очерком. Но сегодня мне приятно вспомнить об этой пометке. Тем более что с самим "А.Т." я не был лично знаком, а уважал этого замечательного человека безгранично.
Примерно через час я снова был у Кондратовича. На большую часть моих просьб ему пришлось ответить отказом. Было печально, но не обидно: это был не отказ начальника, а объяснение единомышленником обстоятельств, не зависящих от воли собеседников.
Помню, было вычеркнуто несколько строк, где я писал о том, что старообрядцев сегодняшние власти преследуют сильнее, чем верующих синодской церкви. Я попытался сослаться на то, что в главном атеистическом журнале "Наука и религия" недавно писали о чем-то подобном.
- Эка сравнили! Да за нами пригляд другой. Нас несколько (была названа цифра, но я ее точно не помню) цензоров один за другим читают. По поводу другого места А.И. сказал:
- У нас об этом два рассказа Борьки Можаева (прошу прощения у незнакомого мне лично прекрасного писателя Бориса Андреевича Можаева, но А.И. сказал именно так, быть может, чтобы подчеркнуть доверительность разговора) лежат, мы на них, как кот на сало, смотрим, а напечатать не решаемся. Так что, мы вас выпустим, затронем тему походя и испортим?
Может показаться странным, но недолгая встреча с А.И. Кондратовичем оставила в моей памяти удивительно теплый след.
Появившаяся сегодня возможность увидеть в печати свой текст неискалеченным побудила меня предложить издательству переиздать очерк в первозданном виде. Вместе с тем, читая его, я иной раз испытывал неприятное удивление: я считал себя тогда достаточно раскованным, прогрессивным, а сколько, оказывается, еще сидело во мне внутренней несвободы, как часто я оставался под влиянием стереотипов официальной идеологии. Но я не стал ничего менять. Во-первых, чтобы не показаться задним числом умнее и лучше, чем был. Во-вторых же (что еще более важно), мне кажется, что мои мысли конца 60-х годов - не только мои. Они достаточно типичны для гуманитарной интеллигенции моего поколения. Недаром они не вызвали тогда серьезных возражений у тех людей, с которыми я общался и чьим мнением дорожил. А раз так, то очерк превратился в нечто, над чем я уже не властен: в исторический источник, дающий материал для суждений о взглядах и настроениях определенных слоев общества. Моя типичность делает источник более репрезентативным: мысли выдающихся людей, обгоняющих свое время, ценнее сами по себе, но не несут той информации о типичном, как высказывания обыкновенных людей вроде меня.
Но источник источником, а как печатать от своего имени то, с чем сегодня не согласен или согласен не до конца? Потому-то я и позволил себе некоторые вставки (они выделены особым шрифтом), в которых я сегодняшний полемизирую с самим собой позавчерашним.
В очерке я намеренно не называл ни учреждения, где я работал, ни имен своих спутников (вернее будет сказать, что я был их спутником): этого требовала своего рода конспирация. Успеху последующих экспедиций могло повредить узнавание людей и ситуаций. Сегодня с удовольствием восполняю этот пробел. Я работал тогда в отделе рукописей Ленинской библиотеки, который возглавляла замечательный архивист Сарра Владимировна Житомирская. Нашей "древней группой" руководил ныне покойный Илья Михайлович Кудрявцев, очень интересный и своеобразный человек, у которого я многому научился. Именно он был главным инициатором экспедиций, хотя физическое состояние не позволяло ему самому в них участвовать. Первые экспедиции (еще до моего поступления на работу в библиотеку) провели ныне покойный Борис Александрович Шлихтер и Ярослав Николаевич Щапов, сейчас известный специалист по истории Древней Руси, член-корреспондент АН СССР. Б.А. Шлихтер, человек немолодой, отошел от экспедиций после прихода в отдел Николая Борисовича Тихомирова, блестящего знатока истории русского языка и совершенно неутомимого труженика. Вместе с ним и с Я. Н. Щаповым (а иной раз с кем-то одним из них) я и участвовал в экспедициях. Мы были тогда молоды, выносливы, веселы, одержимы поисками. Думаю, что все мы с удовольствием вспоминаем это время и друг друга.
Тогда, когда писался этот очерк, археографических экспедиций было еще мало. Еще до войны ленинградский Пушкинский дом начал свои поиски рукописей на Севере. Главным их организатором был Владимир Иванович Малышев. Вслед за Ленинской библиотекой развернули работу Археографическая комиссия АН СССР (В.Б. Павлов-Сильванский и А.И. Рогов), Московский университет (И.В. Поздеева). В самом конце 60-х годов в Новосибирске возник новый центр собирания древнерусской письменности во главе с Николаем Николаевичем Покровским, крупным ученым, замечательным организатором, не щадящим для любимого дела ни времени, ни сил. Сегодня же невозможно перечислить все научные учреждения и высшие учебные заведения, отправляющие экспедиции за древними книгами. Возник даже новый научный термин -"полевая археография". Понадобилась координация работ в этой области, которой занимается Археографическая комиссия во главе с Сигурдом Оттовичем Шмидтом. Продолжает экспедиционную работу в Ленинской библиотеке Юрий Дмитриевич Рыков. Ежегодно выезжают в сельские районы Ярославской области студенты Ярославского университета под руководством настоящего энтузиаста Аллы Александровны Севастьяновой... Всех не назовешь.
В нашей работе в те годы было и немало ошибок. На них порой обращали наше внимание. Так, из-за ведомственной неразберихи внутри библиотеки мы собирали только рукописные книги, игнорируя старопечатные. Наши цели были, к сожалению, только собирательскими: нам не удавалось заняться, как это делали, например, В.И. Малышев и Н.Н. Покровский, научным изучением крестьянской культуры. В этих недостатках вина не только наша, но и наша тоже.
И в заключение: я навсегда сохранил благодарность к "Новому миру" Твардовского - знамени всего, что было прогрессивного в те годы в нашей стране. Появление моего очерка в этом журнале было для меня радостью, несоизмеримой с чувством, которое я испытывал при публикации других своих работ. Может быть, это объяснит, почему я решился посвятить его памяти людей, близостью к которым не могу похвастаться.
2. ПО ИЗБАМ ЗА КНИГАМИ (Из записок собирателя)
Светлой памяти
Александра Трифоновича Твардовского,
Алексея Ивановича Кондратовича,
Ефима Яковлевича Дороша
посвящаю
- ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ЧУДО
Уже пять раз ездил я в экспедиции за рукописями, но до сих пор для меня это чудо: в простой крестьянской избе, ничем не отличающейся от остальных, лежит рукописная книга, писанная три-четыре века тому назад. Не занесенная в машинописные и печатные каталоги, не вложенная в ледериновый футляр с наклеенным номером-шифром, не поставленная на стеллаж системы "Компактус" за железной дверью хранилища, а вот в этой неприметной избе. Может, в старинном сундуке, может, на чердаке ("вышке" или "подловке"), а то на почетном месте, на полочке под иконами. В прекрасном состоянии, словно только вчера припорошил писец мелким песком бурые железистые чернила, или слипшаяся от многовековой сырости так, что плесень безвозвратно съела целые куски текста, а отделить один лист от другого невозможно без вмешательства реставратора. Где бы и какой бы она ни была, это все равно чудо.
Мы запланировали чудо, когда разрабатывали маршрут; оно было утверждено планово-финансовым отделом, включившим в смету "расходы на командировку для разыскания и приобретения рукописных книг". И все же чудо осталось чудом. А в чудеса мы верим. И даже сердимся, если они запаздывают.
Впервые я встретился с этим чудом, когда мы бродили по одному из заволжских районов. Мы шли из райцентра к бабушке Кате в деревню Малинцы.
Жилье бабушки оказалось чем-то средним между банькой и избушкой. От пола до потолка иконостас с огромным деревянным расписным распятием. Согнутая глаголем старушка в больших очках радостно несет нам "письменную" книгу.
Чудо? Не то, которого мы ждем: отпечатанное в конце прошлого века Обществом любителей древней письменности литографированное воспроизведение рукописной книги. Как попало это дорогое издание, рассчитанное на узкий круг знатоков, в избу на краю деревни? Тогда, у бабушки Кати, мы думали о другом - как долго мы здесь сидим! Ведь здесь ничего нужного нам нет, это уже ясно. Мы и так уже в пятнадцати километрах от своей гостиницы, время близится к вечеру, а мы все разбираем для полуслепой и глухой старушки надписи на "лицах" - миниатюрах.
- Это кто, сыночки? Праведники?
- Нет, бабушка, грешники.
- А это кто?
И так без конца.
Бабушка растрогана: невесть откуда явились три юноши, по-славянски читают, в "божественных книгах" разбираются...
- Как звать-то вас, за кого Богу молиться?
- И вдруг, совсем внезапно: - Благословите меня.
Нет, этого мы не ожидали, ответа не подготовили и, краснея, бежали, сделав вид, что не расслышали.
Мы уходили довольные. Пока, правда, ничего не получили, но не беда. Во-первых, мы завоевали доверие (стало быть, у старушки и в самом деле нет рукописей), а во-вторых, мы теперь знаем, что в соседней деревне, в Больших Холмах, есть "Лукиан Фатьяныч, божественный старичок". Догадавшись, что "Фатьяныч" - это Севастьянович, идем в Холмы.
Ну, конечно, старуха все напутала. К кому она нас послала? Городские кровати, полированная мебель, радиоприемник, свежая газета... На туалетном зеркале поверх кружевных салфеток висят награды хозяина: орден Ленина и медаль "За победу над Германией". Упавшими голосами спрашиваем, не осталось ли чего-нибудь от отца и дедов?
Фатьяныч усмехается - дескать, ну и занятие нашли себе эти молодые люди.
- Сам я давно от всего этого отстал.
Все усмехаясь, выносит тетрадные листки с переписанными семьдесят - восемьдесят лет тому назад духовными стихами. Что ж, и это мы приобретаем. Ведь такие стихи - своеобразный фольклор, в каждом же списке всегда есть разночтения.
Обязательный вопрос - у кого еще здесь могут быть книги? Любезный хозяин идет нас проводить.
- Тут у одной женщины есть, говорила мне.
Идем для очистки совести. Чуда больше не ждем. Но тут-то оно и началось. Не говоря ни слова, женщина пошла в дом и вынесла книгу.
- Вот, на подловке лежала. Я ее не читаю: она никонская.
В Москве, прежде чем написать в описи "рукопись втор. четв. XVI в.", мы постараемся на каждом листе разглядеть водяной знак, будем разыскивать точную его копию в толстых справочниках Лихачева и Брике, Тромонина и Хивуда. Здесь нам отпущены минуты. Глаз уже привык к особенностям почерков разных времен. И то, что это XVI век, мы увидели сразу. Боясь поверить первому впечатлению, смотрели на просвет и находили знаки, какие бывают только в XVI веке (иногда чуть раньше), - голову быка с длинным крестом, растущим из середины лба, щетинистого кабана и рыцарскую перчатку с покривившейся розеткой над средним пальцем.
Да, как же, "никонская"! Дед Никона был грудным младенцем, когда была переписана эта книга.
Книга была ценна не только своей древностью, хотя четыре века - немалый срок. Здесь была новая редакция Киево-Печерского патерика, сборника сказаний о монахах Киево-Печерского монастыря в XI- XIII веках. И с подловки избы на краю Больших Холмов рукопись перекочевала в витрину из оргстекла на постоянной выставке рукописей в нашем отделе, туда, где лежат несколько самых ценных рукописных книг из тридцати тысяч, что хранятся у нас. А "лист использования", где расписывается каждый исследователь, работавший над рукописью, за несколько лет заполнился почти до конца.
Всего этого мы даже и предположить не могли, стоя на пороге избы. Мы знали только, что эта книга нам нужна.
- Вы согласитесь продать ее нам для библиотеки?
- Да чего ж продавать! Коли нужная, берите так, Христа ради. Я ж ее не читаю, никонская.
Ай да бабушка Катя, ей да божественный Фатьяныч, который вроде и не божественный!
Через несколько дней в другой деревне мы случайно узнали, что Фатьяныч, ветеринарный фельдшер-орденоносец, выйдя на пенсию, стал главным старообрядческим наставником для целого куста деревень. Вот почему так беспрекословно послушалась его женщина и подарила нам "Патерик".
- НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
Нас часто спрашивают: откуда вы знаете, куда ехать? Почему бы вам не отправиться на Север - куда-нибудь на Мезень, Печору или в другой край с таким же заманчивым названием?
Отвечаю, что на Север мы бы и рады поехать, да ничего не поделаешь: туда уже давно ездят ленинградцы и сам Владимир Иванович Малышев, с чьим именем связано возобновление экспедиций за рукописями [*. Покойный доктор филологических наук Владимир Иванович Малышев возглавлял Отдел рукописей Пушкинского дома (Института русской литературы АН СССР). (В 7-ой книжке "Нового мира" за 1978 г. напечатан очерк Дм. Жукова "Владимир Иванович", посвященный В.И. Малышеву. Со временем он обязательно появится в нашем собрании - V.V.).] Надеемся же мы что-то найти в среднерусских перелесках, хотя они и не так урожайны, как северные реки, только потому, что и там и тут живут старообрядцы и их потомки.
В 1666-1667 годах Собор Русской православной церкви вместе с приехавшими в Москву "вселенскими патриархами" с Востока утвердил реформы патриарха Никона, который изменил сложившиеся в русской церкви обряды, приведя их в соответствие с греческими. Тем самым был окончательно закреплен раскол.
Ничтожными кажутся сегодня эти обрядовые различия: двумя ли "перстами" креститься или тремя - "щепотью", дважды ли петь "аллилуйя" или трижды, ходить священнику в церкви "посолонь" или против солнца, признавать ли наряду с исконно православным восьмиконечным крестом четырехконечный или считать его еретическим "латынским крыжом", писать Исус или Иисус... Право, и для религиозного человека эти расхождения должны казаться несущественными.
Так нет же, столетиями миллионы людей жертвовали благополучием, свободой, жизнью, только бы не отступиться от "старой веры". Отказ от новых обрядов стал лишь флагом, под которым выступал кто угодно. И фанатик-изувер. И мужик, стремящийся к освобождению от идущего рука об руку с полицейским урядником попа. И народный мыслитель, мечтающий об осуществлении идеалов христианства, но не находящий их в государственной церкви. Богатый купец, что выше церковного старосты в синодской церкви не пойдет, а здесь может и "свою веру" основать, и своего епископа поставить, и не думать о забастовках на своей фабрике, где работают его единоверцы. Знатный боярин, что не приемлет новин петровского времени. И даже - ближе к нашим дням - наследник славянофилов, философ-мистик, мечтающий восстановить через старообрядчество связь интеллигенции с народом. Вот почему "расколу" сочувствовали люди совершенно разные.
В декабре 1861 года в Лондон приехал кагульский купец первой гильдии Поликарп Петрович Овчинников. Он же - старообрядческий епископ Коломенский Пафнутий. Его видели с Герценом, Огаревым, Бакуниным. Велись долгие переговоры: об издании в Лондоне старообрядческих книг и газеты, об основании там старообрядческой епископской кафедры и строительстве собора. Герцен надеялся найти в старообрядцах союзников в борьбе с царским самодержавием. Но тщетно. Революционная пропаганда не привлекала, а даже пугала купцов-миллионеров, заправлявших делами на знаменитом Рогожском кладбище.
В те же годы старообрядчеством заинтересовались и при царском дворе. Наследника престола цесаревича Николая Александровича в путешествии по Волге сопровождал "знаток раскола" чиновник министерства внутренних дел Мельников. Наследник посоветовал Мельникову написать книгу о раскольниках. Когда через десять лет она появилась в свет, ставшему наследником после смерти старшего брата будущему царю Александру III она очень понравилась. В этой сложной и противоречивой дилогии государь, отпустивший мужицкую бороду и нарядивший генералов в кучерские шаровары, нашел и немало такого, что соответствовало его представлениям об истинно народном духе. Не случайно при Александре III было несколько облегчено положение старообрядцев.
Как трудно читая "В лесах" и "На горах", поверить, что друг старообрядцев писатель Печерский и чиновник Мельников, предлагавший отбирать у старообрядцев детей в кантонисты *, отправивший десятки людей в монастырские тюрьмы и в Сибирь за "совращение в раскол", - одно лицо!
* Мальчики в возрасте от семи лет, которых обучали в особых школах для подготовки к 25-летней солдатской службе. Больше половины кантонистов умирало еще в детстве: от недоедания, болезней и жестоких порок.
Свободное от пут "Святейшего правительствующего синода", старообрядчество раздробилось на множество ответвлений, "согласий" или "толков". Это и понятно - никакая сила не скрепляла принудительно его единство. Инакомыслящие могли спорить со своими собратьями и даже отделяться от них, не рискуя попасть за это в монастырскую тюрьму: ведь в глазах правительства и синода все старообрядцы были в равной степени еретиками. Может быть, поэтому старообрядчество стало своеобразной отдушиной для искателей философской истины, поэтому в идеологии многих старообрядческих согласий сохранился значительный пласт народного, крестьянского мировоззрения.
Различия между согласиями порой бывали так невелики, что разобраться в них было нелегко. Иные старообрядцы по нескольку раз "меняли веру". "Того толку, куда толкнут", - записал пословицу один из самокритично настроенных старообрядцев, а в скобках добавил: "о старовере". Вместе с тем все старообрядческие согласия - и "приемлющих священство от Белокриницкой иерархии" (или попросту "австрийцы"), и беспоповцев-поморцев, и беглопоповцев, и беспоповцев-федосеевцев, и спасовцев большого и малого начала ("большеначальники" и "малоначальники"), - всех объединяло одно: неприятие того, что вошло в церковные обряды и быт при Никоне и после него.
Существование или отсутствие того или иного обряда до Никона - один из основных предметов спора между старообрядческими согласиями. А споры эти были постоянными и жаркими. То внешне смиренные, но исполненные язвительности, то гневные, то даже просто оскорбительные послания и "вопросы и ответы" составлялись вплоть до начала XX века. И главным аргументом всегда была книга - Святое писание, творения "отцов церкви"... Чем древнее книга, тем больше гарантии, что она не "переделана никонианами", что описываемый там обряд, утверждающийся там обычай - "древлеправославный", существовавший искони. Как правило, это рукописная, "древлеписьменная" книга: книг дониконовской печати сравнительно немного. Если же рукопись на пергамене, "харатье", то такой харатейной древлеписьменной книге цены нет. Так интересы науки и старообрядческих полемистов совпали: и ученому и начетчику нужна древняя рукописная книга. Так старообрядчество стало хранителем русской рукописной старины.
У старообрядцев долго не было своих типографий, синодская цензура не пропускала в печать ни их богослужебных книг, ни тем более полемических сочинений. Приходилось забывать о печатном станке и браться за гусиное перо. В XVII веке рукописная и печатная книги на Руси сосуществовали потому, что еще было мало типографий. В XVIII-XIX веках, когда техника типографского дела перестала быть сколько-нибудь серьезным затруднением, русская рукописная книга - это, за редчайшим исключением, книга нелегальная или полулегальная. И основные создатели и хранители этой книги тоже старообрядцы. Так и получилось, что у старообрядцев пережила века и сохранилась традиция создания рукописных книг. Для многих из них рукописная книга и сейчас книга живая, а не памятник старины. Вспоминается пенсионер из старинного города на Владимирщине, владелец большого собрания рукописных книг. Он наотрез отказался продать нам сборник житий святых XVI века:
- Там ведь житие Александра Невского. Я его часто перечитываю: очень уж патриотично написано - слеза прошибает.
Сборник житий был для него такой же книгой, таким же чтением, как и взятый в городской библиотеке том собрания сочинений Луи Арагона, лежавший на тумбочке у кровати.
Без рукописных книг мы многого бы не досчитались в нашей культуре и истории. Летописи и "Задонщина", "Русская правда" и судебники Ивана III и Ивана IV, повесть о Петре и Февронии со сказанием о граде Китеже и украшенное Андреем Рублевым знаменитое "Евангелие Хитрово". Все это - рукописные книги. И найти их можно (кроме коллекционеров и государственных хранилищ) только у старообрядцев.
Потому-то прежде, чем поехать в экспедицию, нам приходится заниматься синодской статистикой конца прошлого - начала нашего века. Каждый сельский священник был обязан представлять по начальству сведения о том, сколько лиц. "уклоняющихся от православия", живет на территории его прихода. Статистика эта не точна. Большинство, чтобы доказать свое усердие, во много раз занижало число "раскольников". И все же это ориентир. Если в уезде показано пять-шесть процентов старообрядцев, туда можно ехать. Ведь на самом деле их было гораздо больше.

- ПРЫЖОК
Но бывает, что и статистика подводит. Вот хотя бы последняя экспедиция, в которой я участвовал. Перед выездом мы подготовились на редкость основательно: собрали не только данные по уездам, а даже знали, сколько старообрядцев было в каждом приходе. Только одного мы, оказывается, не учли: географических названий. Еще в Москве, рассматривая карту, мы дивились странным названиям: Кармалей, Размазлей, Журелейка... А потом мы ходили и ездили от одного "лея" до другого, подолгу беседовали со старообрядцами, с богомольными стариками и старушками, у нас проверяли документы бдительные оперуполномоченные и еще более бдительные служащие сельпо, мы перебирали печатные книги, вышедшие из нелегальных старообрядческих типографий, но нам почти не встречались рукописи. Мы радовались как подарку судьбы сборнику духовных стихов, переписанному незадолго до революции лиловыми ученическими чернилами: хоть не пустой день, одна "единица хранения" все же есть. Часто не бывало и такого утешения.
В чем же дело? История, география и стоящая на их стыке топонимика мстили нам за пренебрежение. "Лей" - слово мордовское, означающее овраг. Названия деревень были мордовскими. Крестьяне - русскими. Но их предки были мордвинами, принявшими в XVIII веке христианство и постепенно обрусевшими. Естественно, русских рукописных книг старше XVIII века у них быть не могло.
Полученный урок обошелся дорого: две с половиной недели потрачены почти напрасно - всего 13 поздних рукописей.
И тут мы совершили прыжок. Отправились совсем в другие края, за пятьсот километров от прежних. Без адресов. Прыжок отчаяния. И, как оказалось, удачи.
Мы снова в пути. Катером перебрались из города на противоположный берег Оки. Перед нами поросшие кустарником крепостные валы. Только они да название деревни, Старое Городище, - вот и все, что осталось от многолюдного града, разрушенного воинами Батыя.
Наша цель - село Корзенево. Там, мы это точно знаем, должны быть старообрядцы. Именно там синодские миссионеры устраивали диспуты и собеседования, чтобы вернуть "раскольников" в лоно православной церкви. Отсюда выходили знаменитые старообрядческие начетчики. "Раскол в селе Корзеневе", "Новые происки корзеневских расколоучителей", "Создание отделения Братства св. Петра-митрополита * в Корзеневе" - такими заголовками пестрят страницы "Епархиальных ведомостей" и "Миссионерских листков".
* Организация, созданная господствующей церковью для борьбы со старообрядчеством.
Но в этой прежней цитадели старообрядчества мы никого не знаем. Главный районный атеист, которого мы прождали часа два в кабинете партпросвещения, не мог назвать ни одного старообрядца:
- Мы больше баптистами занимаемся.
Он долго рылся в своих бумагах и наконец вытащил: цитату из статьи Белинского, восхищавшегося красотами здешней природы. Оставалось только... пить воду. В первой же избе Старого Городища мы попросили напиться. Бабушка Таня налила нам по кружке холодной и прозрачной воды.
- У нас вода очень сладка, а в том колодце, - показала рукой дальше, - уж очень груба. А сами-то вы по какому делу?
Этого вопроса мы как раз и ждали.
Старушка оказалась замечательной. Через десять минут мы знали, что "горы эти (валы) - для войны, по случаю", что на огороде у себя она "цапала цапкой" и нашла "грудь железную", которая теперь в области, в музее, что такие вещи здесь находят часто, вот и ее "хозяин был по мелочи, археолог", что домик стоял раньше ниже, на самом берегу Оки, но "река донимала нас, донимала, да и прогнала", и, наконец, самое главное, что в деревне Башенки, километрах в трех отсюда, умер полгода тому назад старик Курашев, а у него книг был "цельный сундук". Это было уже начало цепочки. Пришли в Башенки.
- Книги-то все, как дед помер, корзеневские забрали. Старик один приходил, читал над покойником, он и взял: тебе, говорит, ни к чему. Как старика звать? Не помню. А вот с Корзеневом рядом деревня есть, Антипкино, там Василь Васильич живет, Мархоткин, дом у него каменный, от больницы третий, он все и расскажет. Бывалый такой мужик и приимистый. Всех корзеневских знает.
Что ж, теперь можно и в Корзенево: адрес есть. Дорога идет валами. Потом между полями. Из нас двоих я играю роль оптимиста, мой спутник - пессимист. О книгах, которые можем получить, конечно, молчим: не сглазить бы. Но можно помечтать, как будем возвращаться в райцентр.
Я: Сейчас двенадцать. Встретим попутку - в час будем на месте. Четырех часов нам за глаза хватит. В пять идет катер. Час будем плыть по Оке, и даже в чайную успеем, в кино вечером попадем.
Он: Отопырьте-ка губу. Да, она у вас не дура. Никакой попутки не будет. Потом Василь Васильича не будет. Потом дадут адрес на другой конец деревни, а там - туда, где начали. Часов шесть проходим туда и обратно, обратно и туда. В кино он, видите ли, собрался. А в двенадцать вернуться пешочком не угодно?
Нет, оптимизм все же лучше. Попутка была, и даже "Волга", с шашечками и зеленым огоньком. К тому же (невероятно!) шофер категорически отказался от наших денег:
- Все равно по вызову еду. Рейс оплачен.
Честное слово, так и было! И мы приуныли: не может же везти во всем. Книг, видать, не получим. Мы не журналисты. Ограниченное время и задачи экспедиции искусственно сужают наш горизонт: основные наши собеседники - старики, уже не работающие в колхозе. И хотя нам, разумеется, интересно, как живут люди и как идут дела в колхозе, источники нашей информации слишком скудны, а наши знания потомственных горожан еще скуднее. Так что не мне писать об этом. Но все же мы с удивлением смотрели на сросшиеся Корзенево и Антипкино: очень уж они выделялись на фоне печальных деревень с покривившимися, а то и заколоченными избами. Здесь же стояли аккуратные, хотя и скучноватые (строенные по типовому проекту) кирпичные дома с палисадниками в цветах, а через каждые несколько домов - водоразборная колонка. Печально, что такая нормальная жизнь - исключение. Но слава богу, что исключения встречаются.
Василий Васильевич (его, кстати, мы таки прождали с час на крылечке) выслушал нас, снял с гвоздя картуз, односложно сказал: "Пошли", - и повел в Корзенево, к Порфирию Панкратьевичу, главе здешних старообрядцев. По дороге мы узнали, что еще больше книг у другого старика - Егора Аристарховича.
- Да тот раньше был не с нами: мы окружные, а он из раздорников.
Егор Аристархович недавно соединился с "окружными", но остальные "раздорники" или, вернее, раздорницы - несколько старушек - остались тверды в вере и не последовали примеру своего наставника. Все же, если надо отпеть покойника или окрестить младенца, делать нечего - идут к Егору, ведь он всю службу знает, а старушки - нет.
Впервые мы столкнулись здесь с тем, что живы следы этой старой внутристарообрядческой распри. Дело в том, что в 1862 году Собор старообрядческих епископов выпустил так называемое "Окружное послание", в котором заявлялось, что православная синодская церковь - не еретическая, разница между старообрядцами и "великороссийскими" лишь в несущественных обрядовых тонкостях, а вина синодской церкви только в том, что она без оснований отвергла и прокляла старые обряды.
Многие из ортодоксов возмутились таким кощунством. Среди старообрядцев-поповцев Белокриницкого согласия начался раскол. Кроме двух основных ветвей - сторонников и противников "Окружного послания", - появились и дополнительные ответвления.
Мы не встретили в нашей поездке ни одного старообрядца, включая самых "начетных", который помнил бы сегодня об "Окружном послании". Но каждый твердо знает, что у него "вера окружная" или "вера неокружная".
Изба Порфирия Панкратьича - просторная, старая, но крепкая. В большой комнате старуха укачивает в люльке внучку. Ах, как жаль, что не было портативного магнитофона, чтобы записать эту великолепную колыбельную, которой, верно, не одно столетие, со всеми особенностями местного говора, с этими "бау-баушки-бау", с предельно ласковыми и какими-то сказочными обращениями к малышу, с тонким и скрипучим старческим голосом. Впрочем, "неизбалованный деревенский ребенок" засыпал под старинную колыбельную так же плохо, как и "нервные и избалованные городские дети", которым поют более современные колыбельные.
Порфирий Панкратьевич был тот самый старик, который бывал в Башенках и отпевал Курашева. Мы пересмотрели все, что осталось от Курашева, все, что было у самого Порфирия Панкратьича, - увы, только две очень поздних и не слишком интересных рукописных книги удалось нам найти.
- Порфирий Панкратьевич, а к Егору Аристарховичу нам стоит сходить?
- Почему не сходить? Сходите. Вот есть ли что у него, не знаю. Мы же с ним только недавно соединились. А до того, извините, просто ненавидели.
Большой обветшалый дом. Старик в опорках на босу ногу, с хитрой усмешкой, бодрый - и не поверишь, что девятый десяток идет. На столе сразу появляются книги - одна за другой.
- Вот эта вам подойдет.
Именно такие старики нам нужны, таких ищем. Отец был попом *, а два дяди - даже епископами. (Через неделю в другом селе мы узнали, правда, от бывших врагов, "окружных", как стал епископом один из дядей Егора Аристарховича - старообрядческий священник отец Николай. Рано овдовев, он начал пить и хаживать к женщинам. Прихожане пожаловались архиерею на "соблазн", исходящий от их пастыря. Но архиереем был старший брат попа, владыка Варсонофий. Он быстро постриг распутного брата в монахи и "рукоположил во епископа", в вакантную епархию. Так отец Николай стал владыкой Никодимом.)
* Старообрядцы сами называют своих священников попами.
Пузатенькая книжка в "восьмерку" (один из самых малых форматов), которую нам показывает Егор Аристархович, оказалась "Уставом церковным". Датированный список 1620 года. Уже удача.
- А эта, не знаю, подойдет ли. Я ее одной старушке дал почитать, а та на чердаке положила, крыша протекла...
Действительно, вид у книги ужасный. Листы от сырости и плесени слиплись, с большим трудом находим наконец такой, чтобы можно было посмотреть его на просвет и разглядеть бумажный знак. Готическое Р! Значит, во всяком случае, XVI век, а может быть, и раньше.
Да и содержание интересно: это так называемый "Пролог", сборник кратких повестей, поучений, житий святых.
Мы наперебой показываем образованность - читаем то тот, то этот кусок текста, рассуждаем об особенностях разных "божественных книг". Пусть старик поймет, что книги просят у него люди знающие, не на посмех пойдут.
В седьмом часу выходим с драгоценной ношей. До райцентра еще километров двенадцать - пятнадцать. Дойти бы засветло. Парит. Тучи заволакивают небо. Женщины в поле удивляются:
- Куда вы идете? Разве не видите - гроза будет.
- А вы как же?
- Нам-то добежать домой недолго, а ты на кого свою дорогушу оставишь?
Действительно, вскоре началась гроза. С плащами, под которыми мы прячем и книги, это бы еще и не беда. Но вот пыльная дорога за какие-нибудь десять минут превратилась в скользкое месиво, а на обочину не сойдешь - поля. Неизвестно, сколько бы мы проковыляли до города, если бы нам снова не повезло с попуткой.
- НАШ СВЕРСТНИК ПАВЛИН ИВАНОВИЧ
Деревни Костровки больше нет. Есть Октябрьская улица на окраине большого города. Избы стоят прежние, деревенские, усадьбы те же, только жители работают не в колхозе, а на заводах и фабриках, в мастерских и магазинах.
Добраться в Костровку просто: от Горького до самых Вязников теперь ходит электричка, интервалы всего по часу, а Октябрьская улица выходит прямо к станции.
Мы приехали сюда к Матрене Филипповне Хренниковой. Что и почему у нее есть, не знаем. Дали адрес: к ней, мол, зайдите. И все.
Идем не без страха: как-то примет? Это очень важно - больше адресов в городе у нас нет. Мы не любим начинать свои хождения с женщины. Не из суеверия. Мужчины - отслужившие в армии, поездившие по стране - легко сходятся с незнакомыми людьми. С ними работать нам легко. Не то женщина. Перенесла, может, больше, чем иной фронтовик, но у себя в деревне. Тяжелая жизнь научила осторожности, часто недоверчивости. Наши цели для нее туманны, а потому и мы сами кажемся опасными гостями.
Войти в дом и то не всегда удавалось. Сколько раз хозяйка, не дав нам вымолвить и слова, не узнав толком, в чем дело, торопливо начинала приговаривать:
- Ничего у меня нет, мы люди темные, малограмотные.
- Да вы хоть послушайте, о чем речь-то!
- Да чего слушать? Все равно ничего я не пойму. Человек я неученый, что ж вам, ученым, со мной разговаривать?
Одна женщина, когда мы пришли к ней, перебирала картошку в подполе. Нам с большим трудом удалось уговорить ее высунуться до половины, но совсем расстаться со своим убежищем она не рискнула:
- Я, однако, опасаюсь.
Так и пришлось беседовать - сидя на корточках, с торчащей из подпола головой хозяйки.
И все-таки в Костровке нам повезло: Матрена Филипповна ничуть не напугана, спокойно-приветливая, говорит неторопливо, слушает внимательно.
- Что ж, книги-то есть, да показать не могу. Вот сын с работы придет, все вам расскажет. Он у меня хоть и с тридцатого года, а не обижаюсь - верующий. Да, Павлик вам все и покажет и расскажет.
- А как его полностью зовут?
- Павлин Иваныч.
- Что ж, посмотрим на верующего Павлина Ивановича тридцатого года рождения.
А пока мы отправились на другой конец города - в другую бывшую деревню, к трем сестрам-монашкам. Привычная неловкость от того, что незваными гостями мы приходим к чужим, недоверчивым, настороженным людям, здесь усугубилась: сестры молились. Вторжение в этот момент чужаков, "мирских", почти кощунственно. Мы хотели было уйти, но вежливые сестры нас остановили. Возможно, чтобы поскорее избавиться от гостей, они, едва узнав, в чем дело, дали нам рукопись. Позднюю, богослужебную (правда, нотную), но все же рукопись XVIII века. Мы даже не успели как следует разглядеть обрамленных туго натянутыми черными платками лиц старушек. Только обратили внимание, как просветлели они при одном упоминании Павлина, как согласно закивали, улыбчиво приговаривая: - Павлик, Павлик.
Это он лучше стариков знает божественную службу. Это он, когда горсовет запретил было молитвенные собрания на дому, написал письмо в Москву, Брежневу *, и им теперь никто не мешает молиться.
* В I960-1964 гг. Л. И. Брежнев первый раз занимал до.1Ж-ность Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
Да, завоевать доверие Павлина, заручиться его поддержкой для нас сейчас важнее всего.
Хотя мы и знали, что Павлину за тридцать, мы все же почему-то представляли его себе немного не от мира сего, слегка нестеровским отроком, любимцем старушек... И вдруг нас встретил здоровеннейший мужчина с повадками и речью секретаря сельсовета или председателя сельпо, с важным и даже несколько торжественным ликом. В углу сидел щуплый паренек с тонким лицом, и впрямь немного нестеровский. Сын. Кончил в этом году восемь классов, собирается в техникум.
Своей огромной ручищей Павлин погладил мальчика по голове: вот, навестил отца. И, не стесняясь сына, начал рассказывать.
Два месяца тому назад от Павлина ушла жена с двумя детьми. Вся беда пошла с того, что она поступила на работу. Самому Павлину не работать нельзя. он и служит где-то агентом по снабжению. Но жене-то к чему? Хозяйство ведь большое: две коровы, парники. Одной помидорной рассады несколько тысяч корней в год продает; из других районов за десятки километров приезжают.
- Говорил ей: не ходи на работу. Не послушалась, там ей и напели. А я от Бога отказаться не захотел. Вот теперь и мучаюсь. Спасибо, сын пришел. А дочка, ей тринадцать лет, мимо проходила - соседи говорили, - а не зашла. Ведь знает, что огород пора полоть, а я на работе, один не справлюсь. Так нет, не зашла...
Хозяин повел нас во внутренний дворик. Пройдя в незаметную для чужого взгляда дверь, мы спустились на десять - пятнадцать ступенек и попали в большую комнату без окон - вероятно, бывший погреб. С потолка свисала ничем не прикрытая стопятидесятисвечовка.
Здесь было все, как полагается в моленной: иконостас, огромные медные подсвечники, аналой с напрестольным Евангелием, сшитые из разноцветных лоскутков коврики-подушечки, которые старообрядцы подкладывают под колени во время земных поклонов. Благолепие храма нарушал только старый велосипед хозяина в углу.
Книги лежали на полке, идущей по низу иконостаса. Много книг. Большие и малые, в переплетах из досок, обтянутых кожей, и в бумажных обложках. Одно для нас плохо - все печатные. Хозяин сокрушался:
- И эта не подойдет? Что ж поделаешь, у меня все такие.
Наконец попалась рукопись - "Обиход" церковного пения на крюковых нотах, "солях", как их здесь называют. Эти древнерусские нотные знаки до сих пор в ходу у старообрядцев.
- Я ведь тоже умею по солям петь, - говорит Павлин и, открыв рукопись, затягивает.
Мне только один раз раньше приходилось видеть подобное: Ираклий Андроников рассказывал, как ленинградский актер Певцов играл Павла I и внезапно стал похож на шубинский бюст императора с курносой коротышкой между пухлых щек. И сейчас - огромный Павлин Иванович сразу показался меньше ростом, плечи сузились, даже фигура стала почти щуплой.
Пение кончилось, и мы снова увидели прежнего Павлина Иваныча - гордого и даже самоуверенного.
- Так подойдет?
Я бы, вероятно, сильно преувеличил, если бы сказал, что этот "Обиход" был нужен библиотеке позарез. Да, самая древняя система нотного письма - кондакарная - до сих пор не расшифрована, мы не знаем, как пели на Руси в XI и XII веках. Путь этой расшифровки пролегает через тщательное сравнение рукописей с кондакарными нотами и рукописей с другой системой нот, тоже крюковых, но более поздних. Для этого надо внимательно изучить все сохранившиеся древнерусские нотные рукописи. Даже и поздние. Но их сохранились сотни, а наша очень уж поздняя. Конечно, пригодится, но это совсем не первоклассный материал.
- Подойдет! Мы были бы очень рады, если бы вы...
Чтобы понять наш ответ, нужно себе представить, как мы будем дальше работать в этом районе. Каждый старообрядец спросит нас:
- А у Павлина Ивановича были? У него, чай, книг побольше.
И недоверчиво поморщится, услышав наш ответ:
- Смотрели мы его книги, да они все печатные, нам не подошли.
Чтобы у самого Павлина Иваныча не было таких книг, каких надо этим людям, он себе представить не может. Значит, не поверил им Павлин Иваныч, не открылся.
Мы вернулись в избу. Павлин Иваныч протянул нам книгу:
- Самому нужна, да уж гостей надо принять как следует. Вам надписать?
Об этом мы заикнуться не смели: вещественное доказательство того, что Павлин Иваныч нас принял.
Сын подал авторучку (только гусиное перо раньше прикасалось к этим листам), и Павлин Иваныч четким, немного витиеватым почерком вывел: "Дар в Государственную библиотеку от Павлина Ивановича Хренникова".
Почему Павлин стал старообрядческим деятелем? Ведь, как правило, среди верующих старообрядцев нет людей моложе пятидесяти, а большинству перевалило за шестьдесят - семьдесят.
Дело здесь, уверен, вовсе не в каком-то материальном расчете. Конечно, Павлин - не бессребреник. Но не религия, а рассада, коровы - вот, что его кормит и одевает. К тому же не приходилось встречать (кроме редких официально зарегистрированных священников) старообрядческих служителей культа, которые жили бы на доходы от этой профессии. Главный источник их существования либо основная работа (например, один наставник-поморец работал комбайнером, другой - поваром), либо пенсия. Да и живут они обычно небогато.
Но ведь не хлебом единым жив человек. Где же получить Павлину свою порцию духовной пищи? Читать он не привык, да и мало что поймет в светской книге: как закончил перед войной три класса, так и не пришлось больше сидеть за партой. Надо было кормить мать, и Павлин в одиннадцать лет начал работать на колхозной конюшне.
Из-за плохо сросшейся сломанной ноги Павлина не взяли в армию: вот еще одна школа, которая оказалась для него закрытой. Религия говорит с ним на языке более понятном, чем современная культура. Она проще, в ней его духовная жизнь.
Конечно, дело далеко не только в этом. Между необразованностью и верой нет неразрывной связи. В понятие "не хлебом единым" входит еще одна немаловажная деталь. Человек должен знать, что его уважают, что не зря он топчет землю. И здесь религия помогла Павлину. Надо видеть, с каким гордо-неприступным видом шагает по улице Павлин Иванович, как властно разговаривает он со старушками, чтобы догадаться, почему он "от Бога отказаться не может".
Не знаю, не ошибаюсь ли я. Но мне кажется, что именно гордыня привела Павлина к религии смирения.
Мы еще часа с полтора сидели у Павлина Иваныча, вели светские разговоры, пили домашнюю бражку, закусывая, увы, только солеными зелеными помидорами (ничего другого нельзя - Петров пост). И с печальным любопытством смотрели на худощавого подростка, в чьей голове должны уместиться и подпольная моленная отца, и ушедшая из дома, где "полная чаша", мать, и химический техникум.
Перечитал свои рассуждения о Павлине Ивановиче и через два десятка лет готов к спору с самим собой, тогдашним. Да, мне тогда казалось, что вера и интеллигентность несовместимы, по крайней мере, у людей моего поколения. Более того, молодой человек, принадлежащий к определенной религии, воспринимался мною как аномалия, как забавная диковина. В искренность тех, кто и тогда шел учиться в духовные семинарии и академии, становился проповедником, я не верил (хотя, должен сознаться, иной раз и обоснованно).
Я не стал за эти годы верующим, не принял ни одну из религий в мире, но понял, что мой вариант мировоззрения - не единственно возможный. И если такие люди из моего поколения, как Александр Мень или Глеб Якунин, стали священниками, то, должно быть, имели на то серьезные основания. А ведь у них за плечами не три класса сельской школы, как у Павлина Хренникова, а такая философская эрудиция, до которой мне, увы, далеко, слишком далеко. И если у архиепископа Луки Войно-Ясенецкого органически совмещались профессорская и епископская кафедры, амвон и операционная, а у Павла Флоренского - глубокие занятия естественными и техническими науками и богословие, то удивляться ли, да еще печатно, совмещению моленной и химического техникума?
И в самом ли деле религия проще современной культуры? Смотря какая религия (имею в виду весь спектр религиозных представлений - от привычного посещения храма и знания нескольких основных молитв до высот богословско-философской мысли) и какая культура. Масс-культура для своего понимания порой не требует и трех классов.
И еще один мотив, проскользнувший в этой главе и сегодня режущий мне ухо фальшью: взгляд как бы свысока на будничные заботы владельца хорошо налаженного трудового и вместе с тем товарного хозяйства.
Не знаю, заметно ли это в тексте, но помню, как я внутренне стал хуже относиться к своему собеседнику, когда понял, что он оскорблен не просто тем, что дочь прошла мимо отцовского дома, а тем, что не помогла прополоть огород. Боже мой, сколько же в нас было барства, как мы были испорчены магией слов: слава труду, но только на общественном поле, а "мелкому хозяйчику" - в лучшем случае снисходительное понимание.
Если прочитают эти строки Павлин Иванович Хренников (и через двадцать с лишним лет не называю его подлинного имени: зачем выставлять на всеобщее обозрение его семейные дела?) или его дети или внуки, то пусть примут мои искренние извинения.
- ПО ЦЕПОЧКЕ
В Клязьминец мы приехали рано утром. Оставив в гостинице рюкзаки, мы вышли в город. Куда идти? Адреса ни одного.
По пыльной площади, мимо собора XVI века, мимо великолепно сохранивших свою планировку жилых домов XVII века (их фотографии можно видеть в любом альбоме по истории древнерусской архитектуры) идем в райисполком. Стоя на высоком крыльце из белого камня, грузная, женщина лет пятидесяти поносит соседку:
- Приворожила твоя Танька моего Кольку, приворожила. Ты меня еще узнаешь. У меня верный человек есть, он всему учен, он уж мне точно скажет. Я-то и сама собой понимаю: собой не видна, хозяйства никакого, чего ж Колька к ней ходит? Приворожила, испортила... Ладно, подожду, что тот человек скажет. Если правда приворожила, он на твою Таньку порчу наведет, ты не думай, наведет...
Кстати, вечером в гостинице зашел разговор о наших делах с соседями по комнате. Они - бродячие фотографы, принимающие заказы на увеличение портретов - безмерно удивлялись, что кто-то еще бережет "божественные книги". Их спокойный и бездумный атеизм (раз в школе говорили, что "бога нет", стало быть, и нет), не вызывал сомнений. Я рассказал им о подслушанном разговоре и после паузы услышал спокойный ответ:
- Ну, этого вы еще не знаете. Это просто вам встречать не приходилось. Бога-то нет, а Это (большая буква ясно слышалась) есть.
И целый ворох историй об изгнании бесов, о несчастных, которых заворожили в день свадьбы брошенные любовницы...
В исполкоме нам дали адрес местного краеведа, учителя истории на пенсии Аркадия Герасимовича Кривогубова. Он жил неподалеку от местного дома инвалидов, на стенах которого кто-то развесил плакаты с призывом покупать облигации трехпроцентного займа и хранить деньги в сберкассе.
Несколько лет спустя, я узнал, чем еще был примечателен этот дом инвалидов: в нем жил, после отсидки в ГУЛАГе, причем тогда же, когда мы ходили мимо, лидер правого крыла Государственной думы Василий Витальевич Шульгин.
Аркадий Герасимович - высокий бодрый старик в красной в белую полоску косоворотке, с острой бородкой клинышком и подкрученными кверху усами - лицо испанского гранда. На тумбочке стоит граммофон с огромной трубой (точь-в-точь как на рекламе в газете начала века). На стене фотография молодого человека в пенсне и фуражке с кокардой, в крылатке - Кривогубов в молодости.
- Чем могу служить?
Мы объяснились.
О многом мог рассказать нам Аркадий Герасимович: и когда и как войска Батыя подходили к Клязьминцу, и как молодым московским учителем он узнал, что умер отец, учить детей в городском училище в Клязьминце некому, бросил все, уехал сюда и остался навсегда. И как он написал книгу об истории Клязьминца. да издать никак не удается.
- А ведь она имеет и патриотическое значение. Может быть, прочитав о своем прошлом, клязьминцы станут немного лучше?
Обо всем было рассказано, но вот о старообрядцах у Аркадия Герасимовича было, увы, весьма смутное представление. Знание округи у него было книжным. И потому визит оказался для нас почти бесплодным.
Нам не раз приходилось встречаться с такими краеведами. Люди они в основном книжные, всю литературу о своих местах знают великолепно, но среди крестьян окрестных деревень у них почему-то совсем нет знакомых, сведения же о старообрядцах у них обычно почерпнуты из книг Мельникова-Печерского.
Разумеется, есть и другие. Иван Петрович Кравченко из Курокши, совсем еще не старый учитель географии, исходил со школьниками весь район. Нет в округе интересного старика, которого бы он не знал. И хотя Кравченко не историк и не словесник, хотя его предмет дальше отстоит от книжной старины, мы получили от него много ценных адресов.
И в той же Курокше мы встретили двух других учителей. Павел Анисимович Богословский и Георгий Николаевич Делекторский уже давно на пенсии, живут в одном доме. Когда их бывшая ученица - заведующая районным отделом культуры - привела нас туда, старики возились в саду, каждый на своем участке: Павел Анисимович и Георгий Николаевич и старые друзья, и старые соперники: кто вырастит лучшую розу или гладиолусы покрасивее.
Павел Анисимович кончил перед первой мировой войной юридический факультет Петербургского университета, был эсером, и, говорят, видным, а потом уехал в свой родной город Курокшу, где о его политической деятельности знали смутно, а потому и угроза жизни и свободе была поменьше. Стал словесником. Поколения сельских священников, сидевших на земле, своими руками ее обрабатывавших, наложили на него свою печать. Широкий, кряжистый, с окладистой бородой, в старом ватнике и просторных резиновых сапогах, похожий на мужика.
- А что ж свинью не заведете, Павел Анисимович? - спрашивает наша спутница.
- Так ведь не разрешают.
- Что вы, теперь разрешено.
- Как-то не верится. Свинью подложить, это у нас могут, а разрешить...
Подошел и Георгий Николаевич. Худощавый, небольшая староинтеллигентская бородка и даже, несмотря на ватник, при галстуке.
- С кем имею честь?
Не решаясь прервать разговор с Николаем Анисимовичем, мы ответили не сразу.
- С кем имею честь? - повторил он уже немного обиженно и даже как будто с вызовом.
Георгий Николаевич - тоже словесник. От него мы ждали больше, чем от его друга. В самом деле, кончил он Петербургский археологический институт, а там давали солидную подготовку как раз по истории письменности, по палеографии и архивному делу. Потом Георгий Николаевич заведовал в одном из древних русских городов музеем губернской ученой архивной комиссии. Но уже больше сорока лет он в Курокше и даже не верит, что у местных жителей могут быть рукописи. Когда мы приобрели в этом районе две рукописные книги - XVI и XVII веков, - Павел Анисимович воспринял это спокойно, а Георгий Николаевич был вне себя. Ведь до сих пор он только слегка подсмеивался над нами, и вдруг... Разве не мог он сам найти эти книги? Ведь он тоже знает в них толк.
- В самом деле? Павел Анисимович ничего не напутал? С вержерами и понтюзо *? - обеспокоенно спрашивал он.
* Вержеры и понтюзо - видимые на просвет поперечные и продольные полосы от сетки - основы на старинной тряпичной бумаге.
Беда была в том, что показалось Георгию Николаевичу: кончилась с отъездом в Курокшу прежняя полная жизнь, началось доживание. С высоты бывшего столичного жителя и бывшего ученого презрительно смотрел старый учитель на маленькую захолустную Курокшу.
Да и для Аркадия Герасимовича, который и дал повод вспомнить об учителях из Курокши, жизнь в Клязьминце была подвигом отказа от столичной жизни, пусть добровольной, даже жертвенной, но ссылкой. А человек должен, видно, жить, а не подвизаться.
Тогда, у Аркадия Герасимовича, нам было не до причин, по которым он не смог, не сумел... Было ясно, что: потерян уже целый день, а к цели мы не приблизились ни на шаг.
Мы не бездельничали, ходили по улицам, ждали в учреждениях, с горя решили даже посмотреть, нет ли чего-нибудь в заброшенной церкви. Мы, конечно, знали, что еще в XVIII веке из всех церквей изъяли рукописные книги, да и впредь держать запретили: ведь они не прошли духовной цензуры. Но чем черт не шутит! Тем более что и Аркадий Герасимович, и старичок - смотритель памятников Сергей Иванович, и работники исполкома говорят, что там что-то есть. -
Вместе с Сергеем Ивановичем и сотрудником райфо идем на кладбище, где стоит церковь. Мы так до конца и не поняли юридического статуса этого здания. Среди закрытых церковь не числится: не было заявления на сей счет. С другой стороны, церковная "двадцатка" распалась. В общем, ключи в райфо. Старуха сторожиха напугана. Финотделец подозревает (и кажется, не без оснований), что за небольшую плату она пускает в церковь отпевать покойников.
В церкви среди голубиного помета лежали старые, грязные книги. Да еще маленькие листки, исписанные почти современными почерками - поминания "за здравие" и "за упокой". Ни эти книги - поздние и широко распространенные синодские издания, ни тем более поминания нам не были нужны. Но грустно было не только оттого, что мы ничего не достали для библиотеки.
Только к вечеру среди полной безнадежности что-то начало проясняться. От случайного прохожего мы узнали, что во Взвозе есть Авдотья Макаровна, женщина пожилая, но бодрая. Она, говорят, кулугурка.
Кулугуры - местное презрительное прозвище старообрядцев. Интересно, что происходит оно от греческого слова "калугер", означающего монаха, старца, человека святой жизни. Калугерами торжественно называли себя первые старообрядцы в здешних местах. А в результате - насмешливая кличка.
До Взвоза недалеко, всего километров пять. Изба Авдотьи Макаровны стоит в самом начале. Дверь, ведущая на остекленную террасу (редкость для здешних мест), на замке. Возле дома покуривает слегка подвыпивший старик в полувоенной одежде. Ему не терпится узнать, кто мы, а мы не спешим удовлетворить его любопытство.
Наконец все темы от погоды до урожая исчерпаны. Замок висит по-прежнему. Делать нечего, мы рассказываем старику, кто мы.
Наше долгое нежелание воспользоваться его помощью связано не с особенностями нашего характера. Нет, мы просто боимся его помощи. Бритый подбородок, папироса, защитная гимнастерка - все обличает в нем "местного работника". Такой, конечно, может рассказать немало, да вот прийти к старообрядцу с рекомендацией от него - значит натолкнуться на стену недоверия и погубить дело. Если бы такой местный работник только рассказывал, беда была бы невелика: мы можем и не говорить, от кого получили адрес. Но ведь местный работник обычно приходит в восторг от нашей миссии и любезно соглашается нас сопровождать. Из вежливости не удается отказаться достаточно твердо. И начинается:
- Здравствуй, тетка Марья! Принимай гостей. Из самой Москвы люди - старух забирают.
Старушка, может, и догадывается, что начальство шутит, да ведь ждать-то можно всего, а потому она пугается, и наши интеллигентские улыбки и бормотанье, дескать, зачем же так, проходят мимо нее.
Не успеваем мы начать объяснять, кто мы и зачем приехали, как следует прямой вопрос нашего спутника:
- У тебя книги божественные есть? Вот люди их собирают.
И у напуганной и без того старушки "собирают" превращается в "отбирают", "забирают". Тем более что на памяти наших старушек так уже бывало. Нет, лучше по наитию, лучше пить воду, чем пользоваться такими услужливыми помощниками.
Наш собеседник оказался, к счастью, умнее и в провожатые не навязывался.
- Да, хорошо, что теперь за старину взялись. Поздно только. Сколько раньше книг этих пожгли-то! Не понимали. Я и сам не понимал. Вот как в тридцать первом году моленную закрывали, так все книги и иконы пожгли. Я тогда секретарем сельсовета работал, глуп был еще. Сам жег. Бабы в голос ревели, отдать просили. А мы в поле вынесли, окопали, чтобы пожара не было, и в костер.
Мы слышали много подобных рассказов. И о директоре дома отдыха, который выложил древними иконами дорогу через грязь. И о том, как в сельсоветскую печку было брошено такое множество книг, что они вывалились, и сельсовет чуть не сгорел. И как подводы с книгами целыми обозами подходили к воротам картонажной фабрики.
И думалось: что же это такое? Ведь не злодеи, а простые, обыкновенные мужики правили лошадьми, впряженными в подводы с книгами. Ведь обычные отдыхающие (дом отдыха вовсе не привилегированный) ходили по иконам, которым молились их отцы, деды, прадеды и кто знает сколько еще "пра"-деды...
- Я вам людей укажу. Тут у нас кулугуров много. Старички упорные. Книги почитывают. Указать укажу, а пойти, извините, не смогу: ничего у вас со мною не получится. Помнят меня кулугуры. Я и потом в активе был. Перед пенсией пожарной командой заведывал.
Пожарник, жгущий книги! Оказывается, такое бывает не только у Брэдбери. И весь он был такой будничный, домашний, и рассказывал с приличной времени долей сожаления, но вместе с тем тоже как-то буднично. Так что до нас даже сразу не дошло, в каких зловещих делах участвовал наш собеседник.
Мы узнали от него об Иване Семеновиче Бородине и Венедикте Константиновиче Тучкове.
- Их тут кулугурскими попами зовут. Венедикт-то сейчас уж очень стар, не служит. А Иван Семеныч - тот пободрее.
И вот мы у ворот Ивана Семеновича. Неужели этот высокий старик с аккуратно подстриженной бородкой (а бороду ведь нельзя не только брить, но и стричь), в майке (видели бы этот соблазн не только калугеры конца XVII века, но хотя бы истовые наставники начала XX) и есть Иван Семенович? Оказывается, да.
Дом полон молодежи: два сына - инженеры, один из Горького, другой из Новосибирска - с женами, с детьми приехали в отпуск к отцу. Нас усаживают за стол, угощают ледяным, прямо из погреба квасом с изюминками (долго нам вспоминались запотевший стакан и сознание неприличия того, что мы никак не можем остановиться), наконец появляются книги. Пузатые, объемистые, почти в пуд весом каждая, в новехоньких переплетах из желтой тисненой кожи, со стандартной надписью вязью: "Книга глаголемая"... Мы уже издали узнаем поздние печатные издания "единоверцев" и старообрядческих общин.
Молодежь тоже смотрит. Об этой стороне жизни отца сыновья совсем забыли, а внуки видят эти книги впервые.
- Разве это русскими буквами написано? - любопытствует шестиклассник.
И радуется, что, оказывается, русскими и даже можно узнать почти каждую. Мы тоже радуемся - случаю ненавязчиво проявить эрудицию.
Вот появляется еще одна книга. Хозяин предупреждает:
- Ну, уж эта такая, как вам надо, - рукописьменная.
Увы, снова издали видно, что это не так. Конечно же, печатное издание конца XIX века.
Никогда не надо смотреть только издали. Мы не могли прийти в себя от изумления, когда раскрыли книгу. Перед нами была рукопись - "Великое зерцало" в списке конца XVII века.
Люди, далекие от занятий древнерусской письменностью, часто путают "Великое зерцало" и "Юности честное зерцало" - наставление по правилам хорошего тона, переведенное при Петре I. "Великое зерцало" тоже переводное произведение, но совсем другого рода. Оно возникло в Германии в XV веке как пособие для проповедника.
Проповедь без примеров скучна. И вот для каждого из моральных правил церковных догматов были найдены или сочинены короткие истории. В сборник "Спекулюм магнум" вошло несколько сот нравоучительных историй.
В XVI веке в одной из польских типографий был отпечатан его перевод под названием "Бельке зверцядло". В XVII веке книгу дважды перевели на русский язык. Появилось "Великое зерцало".
Переходя из страны в страну, потом на Руси - из рукописи в рукопись, "Великое зерцало" менялось. Переписчик и редактор совмещались в средние века в одном лице. Авторское право еще не появилось. И ничего зазорного не было в том, что переписчик выбрасывал те повести, которые ему не нравились, а взамен вписывал новые. Постепенно из пособия для проповедника "Великое зерцало" превращалось в занимательное чтение, в средневековую нравоучительную беллетристику. Читатель не только размышлял над нравоучениями. Его волновали сам сюжет, часто острый и динамичный, необычность ситуаций, мистическое вмешательство потусторонних сил.
Вот, например, содержание одной из таких повестей. Рассказывается, что в одном городе жила вдова с единственным сыном, которого она "не в меру любяще". Сына по ложному навету посадили в тюрьму. Несчастная мать почти каждый день приходила теперь к статуе Богородицы и молила ее спасти сына. Тщетно.
И однажды мать обратилась к Богородице с кощунственными словами:
- Ты мне не помогла, сколько я тебя ни молила. Забираю у тебя твоего сына и не отдам, пока не вернешь мне моего.
С этими словами вдова сняла с руки статуи небольшое изваяние младенца Христа, отнесла домой, спрятала в приготовленную коробку и заперла на замок.
В ту же ночь к несчастному узнику явилась Богородица, открыла перед ним все двери и привела домой.
- Скажи матери, чтобы вернула мне сына, - напутствовала она юношу.
Что-то глубоко народное есть в этой короткой повести. Да и мораль мало подходит для проповеди.
А повестей, и самых разнообразных, здесь, повторяю, сотни.
Чтобы исследовать "Великое зерцало", как и всякий памятник древнерусской письменности, нужно изучить как можно больше списков: ведь они отличаются друг от друга, иной раз весьма значительно. Вот почему мы так обрадовались, когда Иван Семенович показал нам рукопись. К тому же список был на редкость полным - больше восьмисот повестей. Письмо четкое, ясное. Первые тридцать три листа заняты оглавлением: названа каждая повесть. А после той же рукой аккуратно выведено:
"Конец оглавлению книги сея Великого Зерцала. А трудивыйся и писавый книгу сию Нижегородцъкаго уезду вотчины бояр князь Петра Ивановича да князь Бориса Ивановича Прозоровских села Лекеева церкви Рождества Иоанна Предтечи поп Димитрий в лето 7205 года месяца септеврия в 9 день".
Итак, 9 сентября 1696 года кончил поп Димитрий переписывать эту книгу.
В меру расхвалив, почитав кое-что вслух, заводим разговор о продаже.
- Да что вы! Я ж ее не покупал. Так, знакомая старушка дала. Ее теперь уж и на свете нет.
Жена неожиданно нас поддержала:
- Отдай людям, коли им надо. Ты-то ее теперь и не читаешь.
И обратившись к нам:
- Совсем перестал божественные книги читать: как начнет, так и заснет сразу. Все больше теперь за романами сидит.
Старик смущенно улыбается:
- Да, эту книгу почитаешь - и жить не хочется.
Короче, книга была получена, получена в дар, но с твердым предписанием Венедикту Костантинычу не говорить:
- А то вы-то уедете, а он меня со свету сживет - зачем святую книгу отдал.
С Венедиктом Константиновичем у нас, как нам показалось, ничего не получилось: старик за восемьдесят сидел возле дома в теплых валенках, несмотря на июльскую жару. Из-за каких-то двух прохожих он, конечно, не захотел идти в избу. Значит, и книг не смотрели. Так, поговорили и разошлись. Да адрес на всякий случай оставили.
Мы не знали, что уже осенью придет к нам трогательное письмо с торжественным обращение "Многоуважаемая чета" *, где Венедикт Константинович Тучков сообщит о желании принести в дар библиотеке для науки рукописную книгу - Евангелие толковое (то есть с толкованиями) Феофилакта Болгарского. Венедикт Константинович писал, что книгу можно взять у его сестры в Ростокине, а нам советовал приехать к нему следующим летом.
* Сейчас уже забылось, что слово "чета" применялось не только к брачной паре, а означало всякую пару. По Далю. чета "двоица, пара, дружка".
Итак, на будущий год мы сидели в избе Венедикта Константиновича как старые знакомые. Тучковы - род популярный среди местных старообрядцев. Дядя нашего хозяина жил в Нижнем и был там главным наставником на всю губернию. Сам Венедикт, когда был помоложе, езживал далеко от родной деревни наставлять братьев по вере. И сегодня его изба - странное смешение старого уклада и веяний времени.
Как водится, все стены в фотографиях. Мы видим и самого хозяина молодым стройным солдатом с "Георгием" на груди ("В японскую получил, под Мукденом. Сам его превосходительство генерал Линевич вручал"), и группу участников старообрядческого собора, и девушку в лихо заломленной пилотке, в гимнастерке с тремя кубиками старшего лейтенанта и крылышками в петлицах. Вот та же девушка сидит рядом с молодым военным, вот она же в летном комбинезоне и шлеме... И тут же на стене лестовка - старообрядческие четки из кожи. Отрывной календарь самого современного вида. На листке с карикатурой на стилягу красными чернилами старинным полууставом написано: "Мученицы Агриппины, мучеников Евстохия, Гаия и с ними отроков: Урвана. Провия, Лоллия, преподобнаго Иосифа, Иоанния..." На одном гвозде с лестовкой - термометр, на столе - поздравительная открытка к Первому мая с надписью карандашом: "Епитимия - 20 кафизм". Иконы тщательно-занавешены, чтобы не осквернил чужой взгляд.
Венедикт Константинович остался очень доволен, что мы прислали ему благодарность на красивом и внушительном бланке библиотеки.
- Я этот ваш отзыв берегу. Он для меня теперь как охранная грамота. Есть еще старички, они у меня ваш отзыв видели. Тоже хотят иметь. У них и книги есть, какие вам надо. Только вот далеко они живут, ноги у меня больные, не добраться. А без меня вам ничего не дадут - очень уж они пужливые.
Меня осенило:
- А вы дайте нам к ним письмо. Ведь они знают ваш почерк?
У меня и сейчас хранится копия этого необычного рекомендательного письма:
"Здравствуй, дорогой брат Никодим Сергеевич. Шлю Вам мое глубочайшее почтение и прошу принять моих уважаемых знакомых. Имъ нужны рукописныя книги, а посему прошу Вас передать Окуневу, Александру Логиновичу, чтобы он был знаком с ними: может быть, он продаст имъ, если окажется для них полезным и нужным. И я Вас предъ упреждаю, что еты * люди очень хорошие, и они собирают древние книги для библиотеки. Если у вас найдутся таковые, продайте без сомнения или отдайте бесплатно, ето ваше дело, но не бойтесь ничего. С почтением к Вам, Ваш доброжелатель Венедикт Конст. Тучков".
* Это не неграмотность: старообрядцы не признают буквы "э".
Но все это было потом, на будущий год. А пока мы ходили и ходили по Взвозу. Мы побывали у Аграфены Кузьминичны, женщины, как нам сказали, "очень уж нотной" (после часа бесплодных разговоров с ней мы без лингвистических разысканий определили значение этого слова), получили в дар у Авдотьи Макаровны (с нее, как помнит читатель, мы собирались начать свои хождения по Взвозу) книжечку с пророчествами о втором пришествии Христа, поговорили на завалинке с десятком бабушек, каждая из которых назвала нам, по меньшей мере, еще троих (все видели, что с нами говорил сам Венедикт Константинович, а потому и доверяли нам), и убедились, что завтра во Взвоз надо будет прийти снова.
Было часов пять-шесть вечера. Конечно, мы могли успеть до темноты побывать еще в нескольких избах, но язык уже плохо слушался нас. Мы иной раз подолгу молчали: каждый надеялся, что другой произнесет обычные начальные слова: "Мы сами из Москвы".
К тому же в руках у нас уже было "Великое зерцало": одно из лучших приобретений экспедиции.
Мы со спокойной совестью могли растянуться на поляне в соседней роще и начать рассматривать полученную рукопись. Самый блаженный момент.
Пройдет еще несколько недель, и только в читальном зале отдела рукописей, под бдительным взором дежурного можно будет читать эту книгу. Даже внутри библиотеки ее не выпустят дальше лаборатории гигиены и реставрации, да и то под конвоем хранителя, снабженного специальной картонкой: "Пропуск на право переноски книг по библиотеке".
А пока... Пока мы ее листаем, лежа на траве. А потом будем рассматривать, сидя на кроватях в тесном гостиничном номере. И в самом этом дозволенном кощунстве есть особая сладость запретного плода.
Как раз в лесочке мы углядели главную особенность нашего списка. После оглавления шла не повесть, а "Предисловие трудившагося писанием честныя книги сея", предисловие писца. Значит, подлинник?
Мы читали вслух, читали о том, как поп Димитрий давно мечтал "написать книгу сию", как искал ее "от многих убо лет, желая улучити ея, но не возмогох", ибо владельцы отказывали ему, "нас лишали сих благ". Наконец, писал Димитрий, я нашел братолюбивого мужа и "скоро желаемая улучих". С заветной книгой поп не шел, а бежал - "с радостию скорым течением под кров дома своего притекох", - долго трудился над ней.
Мы были рады не меньше, чем за 265 лет до того поп Димитрий. Это была настоящая находка.
- НАСЛЕДНИКИ
Из Клязьминца мы съездили в Бочково. Сообщение хорошее: всего пятнадцать километров по отличному шоссе, где днем и ночью во всех направлениях ходят машины. Когда-то Бочково входило в Клязьминский уезд, а потому мы и собирали о нем сведения вместе с Клязьминцем. Теперь же из Клязьминца туда можно проехать только попутной машиной, а автобусы не ходят: это не только другой район, но и другая область.
В огромном селе (здесь еще совсем недавно был райцентр, а обширная усадьба РТС * стояла и при нас) мы не знали никого, хотя кое-какие фамилии здешних старообрядцев начала века у нас были записаны. Дело в том, что у Аркадия Герасимовича Кривогубова нашелся губернский адрес-календарь, выпущенный в 1906 году, вскоре после провозглашения свободы вероисповеданий (мы зря ругали себя, что не посмотрели его в Москве: потом оказалось, что у нас в библиотеке его нет). Там были указаны и имена руководителей старообрядческих общин в некоторых селах. В Бочкове их было трое: священник церкви старообрядцев, приемлющих священство от Белокриницкой иерархии, отец Константин Павлович Прозоров, наставник молитвенного дома Поморского согласия Михаил Иванович Бутусов и председатель общины Спасова согласия Филарет Яковлевич Перепелицын. В сельсовет мы шли с некоторым волнением. Во-первых, не дай бог, старики увидят. Примут за "власть", и пиши пропало. Во-вторых, как в сельсовете встретят?
* Теперь РТС - ремонтно-тракторные станции - уже забыты. Их создали при Хрущеве на базе прежних МТС после того. как сельскохозяйственная техника была продана колхозам.
Бдительность нам мешала часто. Молодые люди, ищущие общения с верующими стариками, казались подозрительными. Помню случай в одном райцентре. У нас было несколько имен здешних старообрядцев, но адреса мы получили слишком уж приблизительные: "...от магазина третий (а может, пятый) дом, такой - с нахлюпочкой, вроде зеленый? А то и перекрасили - лет десять тому назад там был".
Мы решили упростить поиски и отправились в адресный стол при местной милиции. Молодая женщина в лейтенантских погонах встретила нас любезно, но попросила предъявить документы. Внимательно рассмотрев наши паспорта, она положила их в ящик своего стола и попросила зайти минут через пятнадцать, пока она все найдет по картотеке. Мы не возражали. Вскоре она сама вышла к нам и сказала, что с нами хотел бы побеседовать ее начальник. Он пока занят, но часа через два освободится.
Что ж, погода прекрасная, город новый, есть что посмотреть. Конечно, жаль терять время, но вдруг да в милиции что-то знают о старообрядцах. Документов у нас было немало: и командировочные удостоверения, и обращение ко всем учреждениям с просьбой "оказывать содействие" на импозантном библиотечном бланке, украшенном орденом Ленина. Так что мы могли гулять по городку, спокойно подсмеиваясь над радостью чинов милиции, предвкушавших поимку подозрительных.
Через два часа мы сидели в кабинете начальника милиции. Рядом с ним сидел не представившийся нам человек в штатском. Он держался хозяином, и майор сразу передавал ему все бумаги, которые мы показывали. Минут через пять сотрудник КГБ убедился в нашей безвредности, приказал милиционеру: "Отдай им документы" - и стал сам снабжать нас адресами. Впрочем, местные недреманные очи, видно, подремывали: почти все адреса оказались ложными - кто умер, а кто переехал. Как они сохранились в картотеках двух могущественных учреждений? Нас это не волновало.
Такая проверка - самая безвредная. Подумаешь, потеряли два с половиной часа да слегка позабавились. Но ведь никто из стариков не видел ни как власти нас задерживали, ни как освобождали. Хуже бдительные добровольцы. Раз пьяненький мужичок шел за нами по сельской улице и громко голосил: "Знаем мы вас!" В конце концов мы добрались с ним до начальства, нашего бдительного конвоира жестоко обругали, перед нами извинились. Но деревня-то была для нас испорчена: сначала боялись связываться с людьми, которых преследуют власти; а после того как нас отпустили, убедились, что мы - агенты власти.
Не было экспедиции, чтобы у нас не проверили документы два-три раза. Как-то в избу, где мы только начали устанавливать контакт с хозяйкой, вошел капитан милиции. Наша собеседница сразу перестала с нами разговаривать и подобострастным голосом стала уверять офицера, что с самого начала почуяла в нас что-то неладное. Капитан быстро сообразил, что нас не за что арестовывать, но на всякий случай постарался поскорей выпроводить из деревни: даже любезно проводил до шоссе и помог сесть на попутку. Да что толку: все равно в этой деревне нам уже было нечего делать.
Наши опасения перед визитом в Бочковский сельсовет увеличивало еще одно обстоятельство. Нам не раз случалось, отметив командировку в одном районном центре, забредать на территорию другого района: ведь цепочки адресов редко совпадают с административным делением. При проверке документов это часто вызывало недовольство:
- Почему же это вы в нашем районе не отметились? Разве можно без согласования с нашими работниками здесь находиться?
А тут не в другой район, а другую область попали. Ничего, обошлось. Женщина председатель сельсовета отнеслась к нам спокойно. Беда другая: она сама человек новый, стариков не знает. Прозоровых по спискам оказалось в селе около пятнадцати семей - у всех не побываешь. Зато Бутусовых и Перепелицыных нет совсем.
- Вот разве вам к Рыкунову зайти, к Игнатию Васильичу? Я сама-то не знаю, но люди говорят: отец его лавочником был. Перед раскулачиванием уехал с семьей, а дом заколотил. Сын уже тогда бухгалтером на заводе работал. Дом за ними и остался. Старик помер, а Игнат Васильевич на пенсию вышел года три тому назад, да в старый дом и вернулся. Он человек грамотный, развитой, всех стариков знает. Гордый, правда, очень, все не просто говорит как-то, с подковыркой. Сразу и не поймешь. Да ничего, вы с ним поладите.
И впрямь мы поладили с Игнатом Васильичем. С нами он горд не был; напротив, был рад случаю отвести душу. Обо всем говорили: с кого Крамской писал "Неизвестную", получится ли у Бондарчука "Война и мир" ("У американцев мне не понравилось - разве это Пьер?"), о том, что в здешних местах бывал Достоевский...
По подчеркнуто старомодным оборотам интеллигентной речи, по упоминаниям о реальном училище, где наш собеседник изучал в числе прочего "академический рисунок", о музыкальных вечерах у местного помещика и земского начальника, где ему довелось бывать молодым реалистом, а главное - по тому, как об этом говорилось, мы поняли, почему в сельсовете его считают "гордым".
- Вот вы изволили спросить о Прозоровых. Нынешние Прозоровы к староверскому батюшке отношения не имеют. Более того, атеисты. Бутусовы же все были раскулачены, так что опять-таки ничем не могу быть вам полезен. Остаются Перепелицыны. Как вы имя-отчество назвали? Филарет Яковлевич? Помню его, помню. С сыном его, с Иваном Филаретовичем, учился два года в реальном. Потом же Филарет Яковлевич его забрал из училища: испугался шаткости в вере. А то у другого наставника сын в последнем классе социал-демократом стал.
- А где же сейчас Иван Филаретович?
- Умер в прошлом году. Немного запоздали. Я, когда вернулся в родные Палестины, его еще застал. От отца по наследству настоятель был (так неожиданно прорвалась у Игнатия Васильевича просторечная форма "настоятель" вместо "наставник").
Мы выяснили, что родных у Ивана Филаретовича не осталось, выморочный дом продан инженеру из РТС Ивану Ивановичу Лесукову, да он, верно, еще с работы не пришел. Так что можно не торопиться, а выпить чайку с домашним вареньем.
...Мы долго стучали в дом к Лесукову, пока не появился заспанный хозяин. От него сильно пахло водкой. Он повертел в руках наше удостоверение, явно ничего не понял, кроме того, что у людей удостоверение есть, присел, подперев лоб рукой, - видно, сильно болела голова, - и стал нас слушать.
Наконец, что-то разобрав из наших объяснений, Лесуков поднялся, сказал: "А, книги", - махнул рукой и повел нас на чердак. Здесь в пыли и грязи лежала стопка книг. Мы перебирали, а Иван Иванович пока приговаривал:
- Теперь немного осталось. Я как дом купил, их тут полно было, не повернешься. Ну кой-что богомолкам отдал, приходили. А остальное пожег. Что не возьмете, тоже пожгу. Мне они ни к чему.
Мы извлекли из хлама и пыли настоящее произведение искусства. Это был объемистый фолиант поучений Василия Великого - византийского проповедника, одного из тех, кого называли отцами церкви. Рукопись была переписана на больших листах лощеной александрийской бумаги изящным и четким полууставом. Таким четким, что Лесуков, уже слегка протрезвевший, долго не мог поверить, что это рукопись, а не печатная книга.
Поучений было около сорока. Перед каждым вверху листа была помещена заставка из переплетающихся кругов - орнамент, который очень любили в XVI веке в книжных мастерских Троице-Сергиева монастыря. Мягкие, тускловатые цвета - желтый, голубой, салатовый - кажутся особенно нежными рядом с рыжей густотой чернил. Все заставки одного стиля, но не найдешь и двух одинаковых - часами можно рассматривать эту книгу. Оставим это удовольствие на вечер.
- Неужели вы в самом деле жгли книги?
- Что, я обманывать буду? - обиделся Лесуков. - Никому это барахло не нужно. Это я вам точно говорю. Я сперва богомолкам отдавал. А они здесь трех вер. Так переругались из-за книг. Наговаривают мне друг на друга, еретицами обзываются. Я и плюнул. Главное, пришли бы да и забрали все, и дело с концом. А то они все хлипкие, по одной таскают. Ну, думаю, пока вы все перетаскаете, мне на пенсию выходить. Взял да и пожег. Эти вот забыл на ваше счастье.
Простой расчет: из оставшихся шести книг одна была рукописной, причем редкой ценности. Из сожженных пятидесяти книг рукописных могло быть приблизительно восемь. Кто знает, какой ценности.
А сколько разошлось по старухам! Страшно подумать.
Конечно, мы опоздали. И не в первый раз. Помню, как до слез было обидно, когда мы узнали, что внук одного умершего наставника буквально за неделю до нашего прихода отдал все книги в новую моленную.
- Да знал бы я, ничего бы этим богомолам не дал. А то лежат, место занимают, - говорил нам искренне расстроенный наследник.
Но, увы, и в Бочкове момент, когда мы могли получить книги, был, вероятно, слишком краток. Вряд ли Иван Филаретович при жизни отдал бы их нам. В лучшем случае сказал бы, что самому нужны, а то бы еще и не показал. Ведь говорил же нам один из наставников:
- Вам мои книги неинтересные.
Нас огорчает в таких случаях не только то, что мы не смогли пополнить фонды библиотеки. Мы слишком хорошо знаем, что из книг, которые не удалось собрать сейчас, в том числе из тех, что ушли в руки верующих, через десять лет сохранится не более половины. Старообрядческая религия постепенно умирает, умирают ее служители, умирают верующие. Их наследникам не нужна старинная книга. Но они не представляют себе, что, кроме культового значения, у нее есть и другое - научное. Как, впрочем, не представляет себе этого и большинство верующих старообрядцев. Что не переходит к другим верующим (гибель отсрочена, но опасность не ликвидирована), обычно уничтожается.
То сам владелец, чтобы книга после смерти не пошла "на посмех", чтобы не играли ею дети, раздергивая по листику, чтобы не скручивали из ее листков парни папироски-самокрутки, уничтожает книгу: сжигает, топит, завещает зарыть с собой в могилу.
То наследники избавляются от того, что считают старым хламом.
То книги оставляют в покое: уносят подальше, с глаз долой, туда, где они гибнут от сырости, от плесени. от мышей. Да мало ли от чего. От того, от чего гибнет все, брошенное на произвол судьбы.
И кто может сказать, что уже погибло, каких памятников литературы, каких произведений искусства мы уже лишились навсегда, чего никогда не прочитаем и не увидим?
В наши дни, характеризующиеся явным религиозным возрождением, странно звучат слова: "Старообрядческая религия постепенно умирает". Давно не бывал в старообрядческих селах и потому не могу утверждать ни что оказался прав, ни что ошибся. Но вместе с тем заверяю читателя, что именно такое впечатление не могло не сложиться в конце 50-х - начале 60-х годов: кроме Павлина Ивановича, нам ни разу не встретился верующий старообрядец моложе пятидесяти лет, а в возрасте от пятидесяти до шестидесяти - редко.
Впрочем, была заметна и другая тенденция: люди, которые всю свою сознательную жизнь были далеки от религии, в возрасте пенсионном или близком к. нему возвращались к своему детству и к вере предков.
В этой связи вспоминается агроном Мария Петровна, с которой мы познакомились в избе у одной старообрядки. Муж Марии Петровны, тоже специалист (не помню, член партии или нет), незадолго до смерти возвратился к вере и завещал похоронить себя по христианскому обряду. Жена выполнила последнюю волю мужа и была тут же исключена из партии. А поскольку ее должность считалась руководящей, то и снята с работы. Когда Мария Петровна хоронила мужа, она как будто еще не была верующей. Сейчас же в своей беде она нашла сочувствие только у старообрядческой общины и совершенно естественно тянулась туда, ходила на молитвенные собрания.
Запомнилась растерянность Марии Петровны, обезоруженной внезапной переменой всей ее жизни; те люди, которые столько лет были своими, с которыми она сидела на собраниях и заседаниях, к которым ходила в гости и которых принимала у себя дома, внезапно оттолкнули ее. А те, кто, по ее прошлым представлениям, жил как бы на обочине, кого она и ее круг воспринимали только как рабочую силу, которую надо постоянно воспитывать, освобождая от религиозных пережитков, окружили ее трогательным и ласковым вниманием.
И все же: есть или нет будущее у старообрядческой религии, все равно книгам, находящимся в частных домах, а не в больших хранилищах (государственных ли, при крупных ли молитвенных домах, в частных ли коллекциях), угрожает гибель. Не только от небрежения, но и от элементарного пожара. Как часто мы слышали от наших собеседников: "Книг-то у меня много было, да горел я". Рукописи ведь все же горят, и, увы, легко и быстро.
- ТРАЕКТОРИЯ ОТКЛОНИЛАСЬ
Вряд ли стоит мне браться за описание того, что мы видели по дороге к деревне Дубровке. Могу только сказать, что таких дубрав, тянущихся без примеси других пород на несколько километров в длину, такой игры света, таких лесных озер и таких далей мы (по крайней мере, так нам казалось) никогда не видели.
Мы перебирали другие красивые места, попадавшиеся нам в экспедициях.
- А помните, как мы шли с Никодимом к Окуневу?
Эта приятная прогулка принесла нам два евангелия XVI века. И к Никодиму Сергеевичу, и к Александру Логиновичу Окуневу у нас было рекомендательное письмо от Венедикта Константиновича. Никодим вел нас в соседнюю деревню к своему старинному приятелю.
- Вот говорят, что Бога нет. А я спрошу: неужели такая красота сама собой возникла? Кто картину без художника видал?
Мы давно обратили внимание, что в наши дни многие старообрядцы стремятся доказывать не правоту только своего согласия или старообрядчества или даже всего христианства, а просто само существование Бога. И аргументы приводят чаще эмоциональные, с остроумными сравнениями, как Никодим Сергеевич. Или как другой старик:
- Теста без закваски не бывает.
Мы еще не знали, что разговор с дубровской наставницей Варварой Павловной Серегиной напомнит нам по другому поводу Никодима Сергеевича.
Опасно представлять себе заранее того, к кому держишь путь. Если не угадаешь, то первое время стоишь ошеломленный и никак не можешь настроиться на нужный тон разговора. А ведь это в нашем деле главное.
Мы думали, Варвара Павловна - крутая неразговорчивая старая дева лет семидесяти, с подозрительными глазками, по-старушечьи повязанная черным платком.
А ей не больше пятидесяти. Красивая, большая, сильная, с открытым и умным лицом.
Перестроиться было нелегко, но мы все же разговорили нашу хозяйку. Мы даже получили у нее и рукопись и адреса. Но запомнили ее не столько этим евангелием, сколько ее биографией.
Оказывается, еще до войны Варю Серегину знала вся область. Поездки лучшей доярки на Сельхозвыставку в Москву, портреты в газетах, сидение в президиумах совещаний... И ничего неестественного не было в том, что Варе предложили вступить в партию. Рекомендации были собраны, заявление написано, и колхозная парторганизация уже приняла решение о приеме в кандидаты в члены ВКП(б) тов. Серегиной В. П. Казалось, жизненная траектория должна была довольно точно привести Серегину к постоянному месту в районном активе, к должности председателя колхоза или, по крайней мере. заведующей фермой. Но траектория неожиданно отклонилась.
- Ездила я в райком на собеседование. Возвращаюсь - изба заперта, никого. Соседи говорят: всех в больницу отправили. Брюшной тиф. Неделю я все из больницы на кладбище ездила да с кладбища в больницу. Маму схоронила, мужа схоронила, дочку... Один сын остался, сейчас в Павлове на заводе работает, техникум кончил.
Я тогда сразу и поняла: это Господь мне путь указал, чтобы я от суеты отказалась, душу спасла. Значит, видел он, что не совсем я пропащая, смилостивился.
Не будь этой невероятной вспышки брюшняка, пошла бы Варвара Серегина по протоптанной дорожке. Фанатизма у нее - хоть отбавляй! И небось шумно негодовала бы, что бабки ходят друг к другу молиться, и, не утруждая себя аргументами, сердито выговаривала эы им, что "давно пора оставить эти глупости", сидела бы в жакете полумужского покроя в президиумах совещаний. Заряд фанатизма остался прежним, только знак перед числом переменился.
А пока в сельсовете с неодобрением нам рассказывают:
- Ничего поделать не можем. Шляются и шляются бабки к Варьке Серегиной. За попа она у них.
Никодим Сергеевич много старше Варвары Павловны. Но и у него судьба похожа. Во время коллективизации ему было уже лет сорок.
- Вы не глядите, что я сейчас с бородой. Я не всегда такой был. Смолоду я веры не придерживался.
(Кстати, о бороде: Никодим Сергеевич рассказал, как он встретил друга молодости, с которым он когда-то вместе "не придерживался". Друг стал коммунистом, напустился на бороду Никодима Сергеевича, как на признак религиозности:
- Что же ты так свою личность испортил?
А я спрашиваю:
- Ты в кого веришь?
- Как в кого? В партию.
- Партия не человек. Небось в этих - в Маркса да во Фридриха? А они с бородами жили и с бородами в гроб легли.
Вот как я его пред всей деревней оконфузил!)
Было у Никодима Сергеевича хозяйство в деревне, работал он и на заводе в соседнем городе.
- Стали у нас колхоз делать. Я говорю: "Хочу пролетаризироваться". А мне: "Иди в колхоз". Я как в колхоз пойду? Самого негодящего мужика председателем поставили. Он свое хозяйство управить не мог. Как же он с сотней управится? Я так прямо и сказал на собрании, при секретаре райкома.
Назавтра ко мне из конторы приходят:
- Последний раз спрашиваем: пойдешь в колхоз?
- А я и в первый раз, и в последний тоже вам скажу: при таком председателе мне в колхозе быть нет расчету. Хочу пролетаризироваться.
- Ну, смотри, плакаться потом будешь, да поздно.
По их и вышло. Раскулачили меня. Дом отняли, все хозяйство разорили. Хорошо, до Сибири дело не дошло.
Ехал я на Выксу, на завод. Через год к себе приехал в отпуск. Встречает меня секретарь райкома:
- Извини, говорит, Никодим Сергеевич, твоя была правда: развалил колхоз наш председатель. Что можно было пропить, пропил. Чего нельзя - все равно испоганил. Принимай колхоз, Никодим Сергеич!
- Нет, теперь поздно. Ты бы мне тогда предложил, я бы и в колхоз вступил, и председателем стал. А то, вишь, боязно середняка в председатели: мол, бедняков разве нехватка? Как же это понимать: вчера - враг, раскулачим его, а сегодня - в председатели? Нет, говорю, до такого позора я себя, секретарь, не допущу.
На том и расстались.
Я задаю себе вопрос: имею ли право я, родившийся тогда, когда происходили эти навсегда вошедшие в историю события, писать о них сегодня, когда живы их современники и участники, да еще так бегло, по чужим рассказам? Конечно, нет. Но я и не о них пишу. Я пишу, что сегодня вспоминает о них умный, много видевший на своем нелегком веку крестьянин.
И еще пишу, что думаю я, когда слушаю его рассказ. Ведь снова траектория: будь секретарь райкома в тридцатом году не таким решительным и чуть поумнеё, быть бы сегодня Никодиму Сергеевичу в районном активе, числиться ветераном колхозного движения, а не старообрядческим деятелем, которому благодарность библиотеки нужна как охранная грамота.
Чтобы перевести орудие с одной цели на другую, хотя бы они были за много километров друг от друга, достаточно изменить наклон ствола всего на несколько градусов.
Разумеется, я не все, что думал, написал тогда: надеялся (хотя и тщетно) опубликовать эту главку. Конечно, дело не только в уме и решительности секретаря райкома. И все же. Даже в рамках жестокой сталинской коллективизации для человека оставались пусть минимальные, но возможности для выбора. Давно сказано, что если время учит подлости, то не обязательно становиться первым учеником в этой школе. Уверен, что иной поворот судьбы был не исключен для Никодима Сергеевича. Правда, впереди его ожидали бы новые опасности: немало председателей колхозов не дожило до начала войны. Но ведь мог и уцелеть!
- ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛЕТОПИСЦА
Четыре дня мы без толку ходили по Курокше и окрестностям. Где мы только не побывали за это время! У родственниц старика переплетчика, умершего лет двадцать тому назад, - дряхлых старушек в не менее дряхлом домике. У директора городской школы, солидного молодого мужчины со значком отличника Министерства просвещения. Сын старообрядческого наставника, он был неприятно напуган, что кто-то вспомнил о его происхождении, и нарочито бюрократически-усталым голосом сетовал, что "к сожалению, ничем не может помочь товарищам". У тех самых старичков учителей, о которых шла речь в главе "По цепочке". В десятке окрестных сел и деревень. Но ни одной рукописи не прибавилось в списке наших приобретений. Казалось, пора переезжать на новое место. Все же приходилось еще поработать в Курокше: нельзя оставлять необследованных деревень. Вдруг там и лежит то, что нам нужно.
У нас оставалась последняя надежда: Чибисово. Там нам называли двоих - Наума Григорьевича Староверова и однофамильца деревни Ивана Ивановича Чибисова. В Чибисово мы и пришли на пятый день нашей курокшинской жизни.
Наум Григорьевич, старик лет восьмидесяти, с отрешенным видом сидел на крылечке. Мы долго и тщательно объясняли, зачем нам нужны книги, для какого доброго дела они пойдут. Мы сыпали именами знакомых старообрядцев, рассказывали, как книги гибнут после смерти стариков, читали наперебой избранные места из рукописного Жития Евфстафия Плакиды, которое мы носили с собой как наглядное пособие...
Лицо старика оставалось каменным. Мы начинали снова и снова.
Часа через полтора мы облегченно замолчали. Пауза длилась минут пять. Наконец старик поднял голову, усмехнулся и бесстрастным голосом спросил:
- И что же вы теперь будете делать?
Здесь дело было кончено.
Страшно было подумать, что надо начинать снова. Но что поделаешь!
И вот мы у избы Ивана Ивановича. Нас встречает замок. Вскоре прибегает миловидная женщина лет тридцати - тридцати пяти.
- Вам папу? Он во Владимир уехал, маму в больнице проведать. Завтра утром вернется. А на что он вам?
Мы замялись. Наше правило - не рассказывать о своих целях домочадцам. Путь даже они станут союзниками, все равно: то, что сказали мы, они передадут хозяину книг сами. Конечно, неточно, а потому и не так убедительно. Хозяин заранее примет решение (обычно неблагоприятное для нас), и нам уже трудно будет его переубедить.
- Мы все Ивану Ивановичу расскажем.
Нет, от любопытной дочки так не отделаешься.
- Да ведь он мне все равно потом расскажет. Не таитесь. Какие у вас могут быть к нему дела, и не придумаю. Он ведь у меня теперь туго соображает. Чуть что - в магазин уйдет. А если еще копейка заведется, сразу конфет накупит. Уж я от него пенсию прячу.
Стало ясно: такую дочь стоит заранее привлечь в союзницы. Мы все рассказали.
- Что ж, книги у него какие-то есть. Приходите завтра. Вы в котором часу придете? В три? Он никуда не уйдет, ждать вас будет.
И в ее голосе звучало железо.
Итак, пятый безрезультатный. На завтрашнюю удачу и не рассчитываем.
Назавтра ровно в три мы были в Чибисово. Старик нас действительно ждал: в белоснежной косоворотке, тщательно расчесанный, с промытыми до голубизны седыми кудрями и бородой, весь тихий и благостный, он сидел за столом. В избе все блестело: дочь тоже готовилась к приему гостей.
- У меня книг немного, я хоть и грамотный, да не очень начетный. Вот у брата моего родного, у Петра Ивановича Захарова, у того сундук книг был. Да теперь их нет. В пожар сгорели.
(Не удивляйтесь двум родным братьям с разными фамилиями: когда Иван Иванович в 1906 году был призван в армию, в роте оказалось два Захарова.
- Ты какой деревни? - спросил новобранца ротный. - Из Чибисова? Впредь будешь Чибисов.)
Не помню, сколько и каких печатных книг, вплоть до букваря издания 1937 года, мы перебрали, пока появилась рукописная книга. Хороший семнадцатый век. Не евангелие, не триодь *, даже не жития. Мы и надеяться не смели - летописец. Вязью выведено заглавие: "Временник русский от Рюрика Варяжска по степеням".
* Триоди - постная и цветная - сборники церковных песнопений соответственно на дни Великого поста и на пасхальную и послепасхальные недели.
Похоже на какую-то переработку Степенной книги - обобщающего труда по русской истории, созданного митрополитом Афанасием при Иване Грозном.
- Эта нам подойдет. Продайте нам.
В разговор вступает дочь:
- Папа! Продавать не смей! Коли тебе не надо, отдай так. А продавать не позволю. Мы - не нищие.
И, выходя из комнаты, грозит отцу пальцем:
- Смотри у меня, не продавай.
Старик смущен, но, только дочь из комнаты, заговорщически шепчет:
- Ну, вы мне все-таки что-нибудь дайте.
Быстро достаем деньги (сколько было на поверхности) и как раз успеваем буквально всунуть старику, пока нет строгой дочери.
- Небось уже взял?
- Да что вы! Мы ничего не давали.
- Смотри, папа! Мы - не нищие.
"Веселыми ногами" возвращались мы в тот вечер домой. И не знали мы тогда, какой ценной окажется рукопись, что купили мы у Ивана Ивановича Чибисова. Только в Москве удалось изучить наше приобретение.
"Временник русский" был известен лишь в четырех списках. Наш - пятый. Нет, это не переработка Степенной книги (хотя принцип построения тот же - по "степеням", то есть по княжениям и царствованиям), а оригинальное произведение XVII века, созданное тогда же, когда и наш список. Он древнее и исправнее всех известных. Один из его владельцев, еще в XVII веке, читал сразу две летописи - нашу и еще какую-то. И на полях отмечал разночтения. Например, летописец говорит о событиях в Золотой Орде: "Тогда же убиен бысть злочестивый Бердибек царь, а на царьство сяде Нулпай". А на полях читаем: "В ином летописце Кулпа".
Таких записей множество. Они часто пространны. То поправляют деталь. То даже излагают новую версию события. И самое любопытное - часть этих приписок вошла в других списках в основной текст. Не был ли чибисовский летописец источником для них? Заманчивая мысль. Но, чтобы ее подтвердить или отвергнуть, надо еще много покопаться. Увы, на все интересные темы времени не хватает.
В наших ученых записках мы поместили подробное описание рукописи, дали фотографию... Пусть исследователь летописания займется этим сочинением. Мы свое дело сделали.
- НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Чибисовская удача была добрым началом. Кроме книги Иван Иванович дал нам с десяток адресов по району. Уже на следующий день в Пискунове мы набрели на листок, где выцветшими водянистыми чернилами были записаны решения Собора "христиан поморского законо-брачного согласия" из окрестных сел и деревень - из Чибисова, Пискунова, Мокрушина, Зверева... А сам собор состоялся "в богоспасаемом граде Курокше лета 7430-го", то есть в 1922 году!
Многое волновало в те бурные годы отцов-наставников. И "можно ли ходить в чайныя для питья горячей воды, хоша и со своею посудою", и как быть с девицами, которые водят хороводы, и с вернувшимися со службы красноармейцами, "принявшими камуниста", и можно ли употреблять сахарный песок и карамель. Кстати, ответ на последний вопрос был категоричен: "Песок принять, карамель - под запрещением". А в чайные тоже ходить нельзя - за это положено наказание: триста поясных поклонов. Мы никак не могли взять в толк почему. Чай старообрядцам, понятно, пить было нельзя: его при Алексее Михайловиче на Руси еще не было. Но ведь речь идет только о горячей воде. С иноверцами сообщаться в еде и питье было нельзя. Но ведь люди идут со своей посудой. И все же суровый запрет.
Не знаю, как в других местах, но в центральной России сейчас от этой средневековой фанатичности не осталось и следа. И чай пьют (сами видели), и карамель едят, и в чайные ходят. Кстати, и сообщение в еде и питье с иноверцами бытует. Свои собственные дети и внуки - иноверцы, "мирские". А ведь с ними и едят и пьют.
И не только с ними. Как нас предупреждали! К кержакам идете, к староверам, кружки воды не подадут, обмирщить побоятся... Может быть, лет тридцать - сорок тому назад так и было, но сейчас мы ничего подобного не встречали. Только иногда отказывались, старательно при этом извиняясь ("закон не позволяет"), поздороваться с нами за руку.
Вероятно, в большинстве домов есть для гостя "мирская" посуда, но когда тебя сажают за один с собой стол, любезно угощают, то не все ли тебе равно - отдельно или нет будет потом мыть хозяйка твою чашку.
Более или менее твердо сохраняют старообрядцы два запрета: брить бороду и курить. Но и здесь возможны разные отклонения. Например, Павлин Иванович бороду бреет. Он с большой завистью смотрел на мою:
- Вот вы в рай с бородой попадете. А мне пока нельзя: на работе смеяться будут. Потом придется отмаливать.
Да, горожане-старообрядцы бороды обычно отращивают уже на пенсии.
- Разве мог я в литейном с бородой работать? Всю бы попалило. Только два года, как отпустил, - говорил нам один рабочий-пенсионер.
Некоторые и покуривают, но стесняются. Тот же пенсионер, когда я застал его слегка хмельного и с папироской, смущенно повертел головой:
- Табашник я, мне по старому ноздри вырвать надо.
- Да, да, по Соборному уложению царя Алексея Михайловича, - любезно подтвердил я.
А в одной из деревень старообрядческий наставник, выходя на улицу, чтобы вести нас в моленную, привычным движением положил в карман пачку "Прибоя"...
Листок с соборным решением был для нас не менее ценен, чем рукописи XVIII века: от старообрядчества XX века, особенно времен революции, осталось так мало, а это интереснейшее явление еще ждет своего исследователя.
Мы внимательно вглядывались в подписи под листком. Вдруг знакомое имя: "Наум Староверов из Чибисова". Да, понятно, что тот, кто сорок лет тому назад запрещал карамель, сегодня презрительно молчал, пока мы рассыпались мелким бесом.
Впрочем, дело не кончилось листком с соборным решением. Две встречи были у нас в том же Пискунове. На краю деревни стоял дом Матвея Захаровича Соколова. Я плохо помню сейчас внешность старика, смутно припоминаю ход наших бесед. Но результат был у нас в руках: сборник поучений XVII века, извлеченный из сырого подвала, где разместилась тайная, в буквальном смысле этого слова подпольная, моленная.
И еще: Матвей Захарович советовал зайти к соседям - Кутыриным.
- Иван Герасимович плох очень, паралич у него был весной: почти совсем не говорит. А жена его, Анна Петровна, очень уж злая. Тяжело вам с ними будет. Да все ж сходите. И про Курокшу их порасспросите: дочь их там замужем. А тесть у нее Василий Прокопьич - такой уж начетный человек. Вот с ним вам бы поговорить!
Наша беседа с Кутыриными - самое тяжелое воспоминание об экспедиции. Анна Петровна перебивала нас на каждом слове:
- Ничего у нас нет. Мы люди темные, по крестьянству, этим не занимались.
Иван Герасимович же, напротив, смотрел на нас умными, живыми глазами, согласно кивал головой и повторял без конца с разными интонациями:
- Во-во-во, - единственное, что мог произнести после паралича.
Увидев, что старуха не дает нам даже посмотреть книги, он забеспокоился, заметался.
- Во-во-во!
Умоляюще смотрел на жену, тянул руку, показывал. И снова:
- Во-во-во!
Анна Петровна раздраженно отмахивалась:
- Не пойму, что ты говоришь. Ничего у нас нет.
И хитро подмигивала нам: дескать, что с несчастненького спросишь.
Хотя мы и уходили из Пискунова не пустые, настроение у нас было вконец испорчено.
Вечером нам предстояло еще поработать в Курокше: адрес дочки мы все же получили у Анны Петровны. Но. рассказывая, как пройти к дочке, она почему-то усмехнулась.
Дочки не было дома, но муж объяснил, что отец живет отдельно, показал дом.
Встреча была не из теплых. Тщетно мы щеголяли именами других старообрядцев, рассказывали с сочувствием о болезни Ивана Герасимовича... Василий Прокопьевич, красивый старик с тонким лицом человека, привыкшего к умственной работе, стоял, загораживая вход, и повторял одну и ту же фразу:
- Малограмотный я, товарищи.
Прислушивавшаяся к разговору соседка добавила:
- Нашли от кого прийти! Его ж Кутырина сноха из дому выжила!
Так вот чему усмехнулась Анна Петровна! От Ивана Ивановича у нас был еще один адрес: в Маркове, к Порфирию Павловичу Синюхову. На следующее утро мы и отправились туда. Сначала нам везло: автобусом доехали до Козьмодемьянского, а оттуда до Маркова рукой подать. Порфирий Павлович растрогался до слез:
- Думал уж, не нужен никому. Спаси Христос Иван Иваныча, вспомнил обо мне, последнем во человецех, первом во грешницех.
Но книг, увы, не было. Лет десять тому назад Порфирий Павлович горел, книги спасти не удалось.
- А кроме меня, тут християн нет, одни церковные.
Правда, старик дал нам новый адрес. Километрах в пятнадцати от Маркова, дальше от Курокши, а в Привалове живет старушка одна, Авдотья Николаевна, с ней он в Курокше на базаре разговорился.
- Ведь как в святых книгах все предвидено было! И что птицы железные полетят, и проволокой все опутают, и в церквах овощехранилища будут. Я ей это толкую, а она все знает. Очень умная женщина, християнка.
- Спасибо, Порфирий Павлович.
- А уж это вы не по-нашему. "Спасибо" говорить - нечистого тешить. Во - ведь это идол такой был, языческий. "Спаси Христос" говорить надо. Или - "покорнейше вам благодарю".
Извините, Порфирий Павлович. Покорнейше благодарим.
И снова везло.
Пройдем немного по дороге в лесу, попьем водицы из колодца в деревне (благо складная кружка всегда с собой), глядишь, и попутная подвернулась. Проехали с ветерком минут десять, отдохнули, опять пешком. Часа за полтора до Привалова добрались.
Здесь везение кончилось. В магазин как раз привезли хлеб (что бывало нечасто), возле него стояла толпа женщин с мешками. Среди них, должно быть, была и Авдотья Николаевна, да не спросишь, и все равно: пока она не купит хлеба, с нами она говорить не станет. Да и отвлекать ее было бы с нашей стороны неэтично. Оставалось только сидеть на бревнышках у избы и разглядывать гигантских свиней - главных потребителей того хлеба и почти единственных прохожих на улице села.
Приход Авдотьи Николаевны ничем не помог. Стоило добираться за тридевять земель, чтобы узнать, что она и не старообрядка вовсе, книг, а особенно рукописных, дома не держит, да к тому же в Привалове "столоверов нынче вовсе нет. Какие и были, те все примерли". В довершение бед последний автобус на наших глазах ушел за десять минут до срока. До курокшинской гостиницы, где мы остановились, оставалось тридцать пять километров...
Мы пошли. Рассчитывали, что в Козьмодемьянском найдем если не автобус, то хоть попутку. В десять вечера мы проходили по Маркову. Дочка Порфирия Павловича увидела нас и предложила заночевать. Мы отказались: ведь завтра с утра предстоял путь в другую сторону от Курокши. Молодая женщина вбежала в избу и тотчас выскочила с двумя свежими батонами в руках:
- Возьмите на дорогу.
Мы отказывались. Но тщетно:
- Что вы! Вы люди прохожие, в Курокшу придете - магазины закрыты будут.
В Козьмодемьянское мы вошли в одиннадцать вечера. Темень полная. Куда идти? Пешком в Курокшу? Еще пятнадцать километров, а ноги уже не слушаются. Ночевать здесь? Где? У кого?
То и дело появлялись яркие огни фар. Шоферы аккуратно останавливались, спрашивали, куда нам ехать, отвечали: "Нет, мы только до повертки" - и уезжали.
Мы съели один из двух батонов и уже твердо решили стучаться в первую же избу. когда (было уже начало первого) возле нас остановился самосвал с дровами. Его шофер сегодня подвозил нас на пути из Маркова и не взял денег.
- А вы, товарищи, сами откуда?
- Сейчас из Привалова, а вообще из Москвы.
- Из самой Москвы? Нет, тут я вас не брошу. Я сам кандидат партии. Не оставлю москвича на дороге.
Тесно уплотнившись, мы забрались в кабину. Наш новый знакомый вез домой дрова.
- Вот сгружусь только и доставлю вас, куда надо. Не беспокойтесь.
В час ночи мы были в какой-то деревне. Помогли выгрузить дрова. Потом поехали на бензосклад. Там наш благодетель подошел к одной из машин, перелил из нее бензин в свою, и мы тронулись.
По крепко убитой, но все же достаточно ухабистой грунтовой дороге мы мчались со скоростью шестьдесят километров в час в полной темноте. В два часа ночи машина остановилась у подъезда гостиницы. Мы написали на библиотечном бланке послание председателю колхоза, чтобы он не ругал нашего спасителя за самовольную поездку и слитый, как оказалось, без спросу бензин. И с холодной водицей (кипятку уже, конечно, не было) и колбасой уничтожили второй батон.
Мы не получили в тот день ни одной рукописи, но все равно было приятно, что свет и впрямь не без добрых людей.
- В НАГОРСКЕ
В этот живописный городок мы могли попасть тремя способами: автобусом, "Ракетой" за сорок минут и, наконец, обычным рейсовым катером за три часа. Мы сразу отвергли автобус - раз можно прокатиться по реке, зачем пылиться в душном автобусе? Не прельщала нас и "Ракета" - река располагает к неспешному передвижению. Мы даже огорчились, что катер пришел на место на полчаса раньше срока и мы недостояли на палубе законные тридцать минут.
Как обычно, весь первый день ушел на визиты к начальству и устройство на ночлег. Узнав, что в доме приезжих мест нет и не предвидится, мы по совету секретаря горисполкома отправились по школам. Но в одной шел ремонт, в другой не было на месте директора.
Тогда мы спустились обратно к пристани по деревянной лестнице в двести с лишним ступенек (мы с моим товарищем разошлись в подсчетах: у него получалось 208, v меня - 216) и постучались в интернат для слепых детей. Почти все они разъехались на каникулы, а из персонала остались только директор и две нянечки. Как только наши внушительные удостоверения и слезные уверения, что, когда в гостинице будут места, мы немедленно уберемся, сломили сопротивление директора, ее почти враждебная недоверчивость сменилась настоящим гостеприимством. Нам отвели великолепный изолятор, правда, со стойким запахом аптеки, но уже через час с небольшим мы принюхались. Вечером мы искупались в прекрасной бане (и были там только вдвоем). А назавтра с печалью узнали, что в гостинице появились места). С интернатом расставаться было жалко, да оказалось, что и директор была бы не против, чтобы мы пожили еще.
Адрес в Нагорске у нас был только один: учитель русского языка и литературы Евгений Александрович Сыромятников. Одна сельская учительница, которая до замужества работала два года в Нагорске, рассказывала нам, что Евгений Александрович, ее "первый завуч", - большой любитель и знаток истории.
- Когда я со своими ребятами в Нагорск на экскурсию приезжаю, их Евгений Александрович всегда водит.
А приятно попасть во время экспедиции в дом к учителю, увидеть на стене не иконы, а Пушкина, поговорить, не заботясь ни о доходчивости, ни о тактичном отношении к вере, без дипломатии с интеллигентным человеком.
Я понимаю, что сегодня эти строки могут шокировать читателя. Не скрою, шокируют они и меня, сегодняшнего. Но оставляю их: ведь не шокировали они тогда ни меня, ни моего спутника, хотя его предки были священниками, ни Твардовского, ни Дороша.
Первым таким интеллигентным человеком в Нагорске оказалась жена Евгения Александровича, учительница-пенсионерка.
- Евгений Александрович в школе. Вы его легко найдете. Пройдите вверх по площади, поверните направо, а через три квартала увидите старый купеческий дом. Это и есть наша школа № 1. А то спросите - где тут Бугров дом? Вам всякий скажет. Этот дом у Мельникова-Печерского выведен.
По школьному зданию, заляпанному известкой и купоросом, раздавались зычные, хорошо натренированные голоса педагогов. Только ребячьих голосов не было слышно. Школу ремонтировала в свое личное время бригада учителей.
Мы никак не могли взять в толк, почему они должны в свой отпуск малярничать, пока их достаточно великовозрастные питомцы загорают на пляже. Трудно себе представить что-либо более антипедагогичное. Вечером Евгений Александрович у себя дома, где стоял аромат десятков роз, росших в палисаднике, снабжал нас адресами. Нам очень повезло: родители Евгения Александровича были старообрядцами. В отличие от некоторых выходцев из старообрядческих семей, ставших интеллигентами, Евгений Александрович не стыдился своей родни и не смотрел свысока на тех своих сверстников и сверстниц, которые не получили образования и остались верующими. И это его симпатичное качество было полезно нам: его знали и уважали повсюду. Привет от Евгения Александровича действовал почти магически. Неделя, проведенная в Нагорске и его окрестностях, - одна из лучших в нашей экспедиционной жизни. Нас всюду принимали без недоверия. Книги и показывали и отдавали охотно.
Почему-то больше всего нам попадалось "солевых" - нотных рукописей. Одна милая старушка долго и сокрушенно глядела на свой "Октай" *, сама с собой рассуждала:
- Уж я одна только в деревне и могу по солям петь, а одной - что за петьё? Отдам уж, что ли? Спою в последний раз.
Старуха запела. Мы было огорчились, что лишаем ее книги, но тут заметили, что она только делает вид, что поет по книге, а сама переворачивает страницу через каждые два-три слова.
* Правильнее "Октоих" - восьмигласник, сборник церковных песнопений.
Другая - старая дева из купеческой семьи, верховодящая среди местных старообрядцев (нас долго предупреждали: "К ней так просто не придешь, а придете - ничего не получите"), оказалась веселой и ироничной.
- Вас и солевые интересуют? Не перевелись любители гнусавого старообрядческого пения?
- Вот если бы вы, Мария Дормидонтовна, дали нам эту книгу...
- И что тогда бы было?
- Хорошо бы было, - ответили мы единственное, что оставалось ответить.
Старушка улыбнулась и отдала нам рукопись.
Лучше всего нам запомнилась бабушка из деревни Нижний Голец, вошедшей в городскую черту. У нас есть правило: даже если нам уже показали, куда идти, мы спрашиваем дорогу у всех стариков и старушек: иначе можно разминуться. И, увидев согбенную бабушку, которая шла от родника с бидончиком (на ведро уже не было сил), мы сразу подумали: не она ли?
- Не скажете, где здесь Авдотья Михайловна Бирюкова живет?
- А я она самая и есть. А вы чьи ж будете?
- После расскажем.
Мы помогли старушке донести ее небольшую ношу. Вросшая в землю и покосившаяся избушка в два оконца, дверь, которая так перекосилась, что ее ни открыть, ни закрыть как следует, вместо кровати - сундучок, покрытый каким-то тряпьем, две колченогие табуретки; вся посуда - стеклянные банки из-под консервов...
- Чем же мне угостить вас, сыночки? А вы к кому взошли? А то могу и к себе пригласить. Верно, палаты у меня не царские, да все же как хорошим людям не услужить. А, вы в номерах. Ну, там, чай, лучше, чем у меня. Да вы садитесь, садитесь, вот грамотку то почище подстелю, - приговаривала Адотья Михайловна, суетясь и застилая табуретку газетой.
От нашей помощи старушка наотрез отказалась и с большим трудом залезла на полати, где в каких-то коробочках лежали книги. Одна из них была нам нужна. Небольшая, в "восьмерку", изящная нотная рукопись XVII века с элегантной заставкой так называемого старопечатного стиля. В ней поражала соразмерность всего: почерка, полей, скромных, неброских, сплошь черно-белых украшений. В избушке Авдотьи Михайловны она выглядела бы случайно залетевшей гостьей, если бы не сама хозяйка: очень уж милая и по-настоящему благородная женщина.
- Возьмите, сыночки, коли вам нужно. Я уж стара, не читаю.
Нет, нельзя у этой старушки брать книгу бесплатно.
- Бабушка, мы вам заплатить хотим.
- Что вы, что вы, грешно святую книгу продавать.
- А вы и не продаете. Вы нам очень помогли, и мы хотели бы отблагодарить вас, купить что-нибудь, да времени у нас в обрез и боимся не угадать, что вам нужно. Вот мы и хотим дать вам деньги, чтобы вы сами себе, что пожелаете, купили.
- Да я все же опасаюсь, как бы греха не нажить.
С большим трудом мы буквально всунули деньги. Прошло три дня, и мы снова шли мимо Авдотьиной избушки. Было солнечно. Авдотья Михайловна стояла в дверях и грелась. Мы поздоровались. Она заулыбалась:
- Я так рада, так рада, что вижу вас. Я ж еще нашла книги-то. Не знаю. подойдут ли.
Мы увидели несколько разрозненных листочков. Здесь были "духовный стих" об осаде Соловецкого монастыря - "Как во славном было царстве, во Московском государстве, не из царского-де роду выбирали воеводу..."; список любимого старообрядцами Слова Ипполита, папы римского, о втором пришествии Христово и небольшая тетрадка с каким-то поучением о поминовении душ умерших.
Мы уже заранее решили взять все, чтобы только не обидеть бабушку. Но, посмотрев внимательнее, убедились, что эту тетрадку надо не просто брать, а умолять отдать. Перед нами было оригинальное произведение старообрядца XIX века.
Плоть от плоти именитейшего российского купечества (ведь именно из старообрядцев вышли Морозовы, Гучковы, Рябушинские), автор нашего поучения говорил о делах загробного мира языком биржи.
Страшную картину рисует проповедник: к престолу Божьему стекаются души тех, за кого не молятся их родные. Они грозно требуют отмщения: "О Господи, накажи их! Если у них есть нива, побей ее, если у них есть капитал, отними". Потом те же обездоленные души обращаются к тем, за кого молятся: "Дайте нам взаймы вашея милостыни. Аще за ны будут молитися, и мы вам отдадим".
Да, за такую тетрадку не грех и заплатить. Но бабушка тверда:
- Что вы, мне и так боязно. Слишком уж много вы мне заплатили.
Мне стыдно написать, какая сумма показалась слишком большой Авдотье Михайловне.
Как правило, мы получали в дар большую часть рукописей, в том числе и очень ценные. Но редко их хозяева жили в такой бедности, как бабушка Авдотья.
Впрочем, если уж брали деньги, то легко. Иногда торговались. Покупка книги - дело всегда сложное и тонкое.
Начать хотя бы с того, что обычно мы не можем сговориться, сколько платить. Только один раз за все экспедиции хозяин книг - отпрыск старинного купеческого рода - разложил перед нами рукописи и вышел, чтобы не мешать нам спокойно обсудить цену. Верх коммерческого такта! Но обычно-то так не бывает. И нам пришлось разработать нечто вроде условного языка офеней, где вместо цифр фигурировали фамилии авторов справочников по водяным знакам. Только так мы могли согласовывать при хозяине цену: - Эти знаки, пожалуй, у Брике можно найти. - Не знаю, как насчет Брике, но у Тромонина они уж наверняка есть.
А какова эта цена? Нетрудно определить, сколько стоит пара ботинок или пиджак. А как можно сказать, сколько стоит рукопись XVI века? Есть ли у нее вообще цена? Как только любую, самую высокую цену вы приведете в соответствие с ценами на "ширпотреб", получится вопиющая нелепость. Нельзя же в самом деле приравнять украшенное заставками Евангелие XVI века к шевиотовому костюму, а сборник поучений XVIII века - к нейлоновой рубашке.
Когда писались эти строки, еще не вспыхнул интерес к старине, еще не стало массовым коллекционирование икон и старинных книг. А потому и цены были во много раз ниже, чем в наши дни.
Увы, можно негодовать по поводу этой нелепицы, можно смеяться над ней (получится даже остроумно), но ничего нельзя поделать. За рукописи приходится платить теми же денежными знаками, что и за пиджаки и ботинки. И цена эта, конечно, только условная по соотношению с другими рукописями.
Впрочем, в экспедициях приходится платить иначе, чем в Москве. Сами поездки стоят государству немалых денег. Вместе с зарплатой получается, что на одну экспедицию расходуется на двоих что-то около пятисот - шестисот рублей. Эти деньги нужно оправдать, значит, и платить дешевле, чем дома. Но главное не в этом.
Сегодня, например, мы купили за большие деньги рукопись XVI века. Это был сборник русских житий в интересных редакциях. Но это книжица малого формата, без украшений, без переплета, невзрачная на вид, в плохом состоянии. И если завтра в той же деревне мы будем покупать роскошно и безвкусно украшенную нотную богослужебную рукопись XIX века, то с нас потребуют в лучшем случае столько же, сколько за рукопись XVI века. Разговоры да убеждения ничем не помогут. Это тоже надо учитывать.
Увы, слишком часто не удается посокрушаться, что не так платим - нет книг, деньги не расходуются.
- ИЩЕМ НАСЛЕДСТВО
Осенью 1957 года в нашу библиотеку пришло короткое письмо: "Тот человек умер. Приезжайте немедленно и забирайте все".
Командировочные были выписаны как никогда быстро - в два дня. Двое сотрудников уже на третий день были в Окатьеве. Сойдя с автобуса, они прошли на окраину этого старинного городка. На обрывистом берегу одного из многочисленных здесь оврагов стояла изба Прасковьи Тихоновны, где и умер "тот человек". Заметили, как быстро отодвинулась занавеска, мелькнуло старушечье лицо в платочке, снова задернулась занавеска. На стук никто не откликнулся.
Трижды в этот день командированные стучали в окна и двери избы у оврага, трижды стучали назавтра и уехали назад, не достучавшись. Автор таинственного письма совершил ошибку: приезжать, пока не отметили сороковины, пока не минуло сорок суток, как преставился покойник, - верх бестактности. Увы, и библиотечные работники в своем нетерпении забыли о сороковинах.
"Тот человек" - это печник Авдей Иванович Жарков. И где бы в окрестностях Окатьева ни побывала экспедиция, всюду слышалось примерно одно и то же:
- Что были книги, так верно - были. Да все их Авдею Иванычу отдали. Их у него, чай, цельные сундуки. - Печку мне Авдей Иваныч клал. Его печки всякий узнает - нет ладней жарковских. Я ему деньги, а он мне: "Не нужны они мне, меня и так добрые люди прокормят. (Пока печь кладет, его уж всегда кормят.) А вот книгу я у тебя видел древнюю. Вот ею благослови меня, добрый человек, коли не жалко". Так и отдал.
- Хворала я. Авдей Иваныч приходит, лекарство приносит, помолился со мною вместе. Глядишь, и поправилась. А совсем плоха уже была. А потом посмотрел на меня и говорит: "Отдай мне, Марья, книгу одну. Гранограф. Она у тебя праздно лежит. И сын ведь у тебя коммунист, того и гляди божественную книгу порвет". Что поделаешь, жалко было, конечно, - отцово благословенье, да как хорошему человеку откажешь.
Авдей Иванович, разумеется, знал о сотрудниках библиотеки, но встретиться с ним не удавалось: на месте он не сидел, в своей главной квартире в Окатьеве бывал лишь изредка, да и избегал к тому же своих соперников. К избе Прасковьи Тихоновны подходили и тогда, раз даже видели на окне початую бутылку водки, но стук всегда оставался без ответа. Стало ясно, что при жизни Авдея Ивановича у него ничего не получить. Пришлось договориться с одним из местных жителей. Так появилось загадочное письмо.
Все это рассказали мне еще в Москве мои спутники, уже бывалые участники экспедиций. Теперь нам надо было отыскать Авдеево наследство.
Мы начали с единственного сына Авдея - Архипа. Профессию он унаследовал отцовскую, дома потому бывает редко, и застать его мы смогли только на второй раз. Живет Архип Авдеич бобылем, жены никогда и не было. Изба огромная, просторная, но вся в упадке. Странно обрублена стена - большой крытый двор Архип сжег в печке: однажды не запасся дровами на зиму. Только у него одного из всей деревни горит керосиновая лампа: пожалел денег на электричество. Хозяин нас встретил мрачный:
- Я сам вам ничего не скажу. Надо к дяде Петру сходить.
Петр Иванович - брат покойного Авдея - живет рядом. Мы слегка побаивались этого непредвиденного осложнения. Но с дядей оказалось проще, чем с племянником. Старик был просто вне себя от радости, что о его брате помнят, интересуются его делами.
- Чем же мне вас угостить, ребятушки? Вот смороды не хотите ли? Красная, сладкая. С медком. Да вы кушайте, кушайте.
Начинаются воспоминания о брате. На глазах у Петра Иваныча слезы.
- Очень уж хороший человек был. С Архипом он давно не жил. Поссорился. Книги тогда Авдеюшка дома держал, а Архип их на подловке положил. Крыша прохудилась, книги дождем замочило. Увез тогда Авдей Иваныч книги, почти все увез. Только два сундука оставил - некуда положить было.
Он ведь большой любитель был! Последнее продаст, а книгу или икону купит. В том сарае - до потолка икон. Помню, давно дело было, еще до тридцатого года, двух коров на базар свел, продал, потом лошадь запряг, поехал в Петровское. Назавтра назад едет, на телеге образ Спасителев, большой, чуть не во всю телегу. Такой и в избе поставить негде. А он все деньги, что за коров получил, за образ промены дал. Уж как жена убивалась! Ведь у них никогда ничего лишнего не было. Все на иконы шло, на книги. Еще вот: раз приходит ко мне радостный: - Смотри, Петр, какую книгу достал: на коже, княжеских времен. Ей, - говорит, - больше пятисот лет.
Мы с волнением слушали рассказ о старом печнике, энтузиасте-собирателе, восхищались его страстностью и бескорыстием. И тут же размышляли о его наследстве. "Книга на коже" - значит, пергаменная. А книги на пергамене обычно не моложе XV века. В XIV веке на Русь проникает бумага и к концу XV века полностью вытесняет более дорогой пергамен. "Княжеских времен" - значит, по крайней мере, до 1547 года, до принятия Иваном Грозным царского титула. Опять сходится. Да и сам Авдей называл такой же возраст. Только здесь ли она, кожаная книга княжеских времен? В тех ли двух сундуках, что остались у Архипа?
Возвращаемся в избу Архипа. Пока хозяин возится с замками и отпирает кладовку, Петр Иванович продолжает рассказывать о брате:
- Очень он верующий был. Таких и нет теперь. Только у татар остались. Вот я в заключении был. Грешил по слабости: вечером в барак придешь, даже Христовой молитвы не прочитаешь. А татары - не то. Хоть тут самый главный начальник будет, время пришло - расстелил коврик и молится. И Авдей - он такой же был. А объяснял как хорошо. Ведь как он про святых всем хорошо разъяснил. Я, конечно, не так хорошо скажу. К нам представители приезжают, говорят: у вас не один Бог, а много. Николай Угодник - Бог, Иоанн Предтеча - Бог, Иоанн Златоустый - Бог, Василий Великий - Бог. Вы ж не Господу молитесь, а святым. А Авдей таким отвечал: "Не-е-т, не так дело обстоит. Вот возьми, к примеру, надо тебе в суд идти. Что ты судье? Знает он тебя? Как к нему подступишься? Боязно. Ты в городе, где судья живет, и поищешь земляка. Он и тебя поймет, и судья его знает, и с судьей он говорить умеет. Так и святые: люди они, слабость твою поймут, тебе перед ними не так страшно, как перед Богом. А молитва их Господу внятна. Мы ж не святым молимся. Мы так говорим: "Святый преподобный отче Сергие, Радонежский чудотворче, моли Бога за нас. грешных". Мы земляков своих перед Господом заступиться за нас просим". Вот как объяснял.
Трудно поручиться, что в те "княжеские времена", когда писались "кожаные книги", автора подобного благочестивого и одновременно поэтического объяснения не сожгли бы торжественно как еретика.
В конце рассказа Петра Ивановича Архип уже стоял, нерешительно переминаясь: все это он наверняка слышал не впервые, а сейчас ему хотелось скорее покончить с хлопотным делом, получить деньги и выспаться как следует.
Рукописных книг оказалось двенадцать. Да, не зря бродил по деревням Авдей Иванович, не зря мы искали его наследство: книги были сплошь редкостями. Два Евангелия XVI века с великолепными заставками, хронограф - своеобразный курс всеобщей и русской истории, составленный в XVII веке, сборник оригинальных русских житий святых... Всего не перечислишь. В цене мы сошлись без спора, даже получили в придачу мешок, куда сложили книги.
Вечером в гостинице мы говорили о покойном Авдее Ивановиче. Нам так и не довелось повидать его. А жаль. Это была фигура, редкая среди нынешних старообрядцев. Судя по всему, для него древняя рукопись и старинная икона были одновременно и святыней, и памятником старины, шедевром искусства. Синтез религиозного экстаза с благородной страстью коллекционера дал богатые плоды. Но собирать их нам было нелегко. Мы не знали, где же остальные книги Авдея Ивановича, где кожаная книга княжеских времен. Дорога снова вела нас в Окатьев, к домику Прасковьи Тихоновны.
После ночевок в маленьких "заезжих дворах" сельпо, после странствий по проселкам Окатьев показался нам столичным городом. В ресторане - столики с накрахмаленными скатертями, эскалоп с тонко поджаренной картошкой, в гостинице - вода, текущая из крана, на улицах - даже киоски с газировкой.
Город очень колоритен, весь изрезан оврагами, и все время идешь то по лестнице, то по мосткам. Резьбы на домах много больше, чем в деревнях, да. она и позатейливее. А набережная Волги выглядит даже торжественно.
Вот особенно живописный овраг. Я уже достаю аппарат, начинаю выбирать кадр. И вдруг - строгий голос моего спутника:
- Здесь не о фотографировании, а о божественном пора думать. К избе Прасковьи Тихоновны подходим.
Мы просидели у нее три часа. Снова слышали о том, каким провидцем был покойный Авдей Иваныч (например, за два года знал, что будет война!), как изо всех сел собрался народ на похороны старого печника-коллекционера, какой плохой и беспутный у него сын - Архип... Мы слушали на скрипящем патефоне выпущенные перед первой мировой войной хриплые пластинки с записями церковных хоров, с некоторым изумлением воспринимали случайную обмолвку хозяйки:
- Я тогда инструктором по культмассовой работе в райисполкоме работала.
На стене висела ее фотография, вероятно, тех времен - наведенные ресницы, жеманная улыбка, платье кокетливо приспущено с одного плеча.
Мы стали для Прасковьи Тихоновны совершенно своими людьми. Она даже советовалась с нами, как лучше написать заявление о пенсии. И мы вполне поверили, когда услышали:
- Верно, хотел меня Авдей Иваныч своей святыней благословить. А я ему сказала: "Нет, недостойна я. Сын у меня - безбожник, икону топором порубил. Боюсь, не порвал бы книг".
- А кому ж он все отдал?
- Не знаю, не спрашивала. Слыхала, что в Ильинское. старушке одной, по покойникам читает. Катей, кажись, зовут.
Что ж, в Ильинское так в Ильинское. Путь для одного из нас знакомый, побывал там три года назад в первой экспедиции. Но раз уж мы попали в Окатьев, надо поработать немного и здесь. Мы идем не без страха к спасовской наставнице Аграфене Кондратьевне.
Высокая и широкая старуха с одутловатым лицом, Аграфена приняла нас за проповедников веры. Ее маленькие глаза-щелки увлажнились. Она радостно сообщила, что сама отдала в соседнюю деревню Селезневе "святую книгу".
- Вы сходите, сходите, вам дадут, там християне хорошие.
Наученные опытом с Венедиктом Константиновичем, мы попросили у нее рекомендательное письмо. Недоверчиво повертев в руках мою авторучку, Аграфена Кондратьевна вывела:
"Евдокия Дмитривно, пишу вам, Петрова Агрофена Кондративно. Ест ли у вас сборник дома, которой у меня был, то покажите етим людям. Ити люди по нонешнему времю очень дороги. Можити и дать им навсегда для душевнаго спасения. Петрова Агрофена Кондративно".
- Да, как же, для душевного спасения, - иронически сказала Евдокия Дмитриевна, прочитав послание. - Чай. в музей отдадите, а там, в гляделище том, в шапках ходят, книги божественные да иконы на посмех выставляют.
- Да мы не в музее работаем, в библиотеке. У нас зал читальный. Туда люди эти книги читать ходят.
- Ну, полно.
- Да мы правду вам говорим. У нас там ведь много таких книг. Будете в Москве, приходите, посмотрите.
- Ну, полно.
Мы совсем отчаялись. Главное, книгу нам уже показали, мы знали, что там есть и повести, и духовные стихи, и заговоры. И заговоры замечательные. "Пойду спрошу у мертвых, у мертвых зубы и десны болят? У мертвых зубы и десны не болят. И у меня, раба Божьего имярек, зубы и десны не болите же". Или "Заговор от бед-напастей, от злых человек, от колдунов-волхунов, от разбойников, от урошливых заугольников (кто они? не те ли, что живут в "урочищах" и нападают из-за угла?), от ущильников, от двоезубов, от троезубов, от бабы-самокрутки, от девки-простоволоски". Как же получить книгу?
- Да вы посмотрите. - И мы даем хозяйке оттиск с описанием новых поступлений в отдел рукописей. - Вот видите, мы же о каждой книге пишем, чтобы ученые люди узнали, пришли, почитали.
- Ну вот я и говорю: чай, все спишете, да и потом смеяться будете.
Наконец Евдокия Дмитриевна начинает поддаваться. И тут, на нашу беду, в избу входит высокая старуха, истово крестится на иконы и к нам:
- А это чьи ж?
Мы начинаем сызнова. Старуха недоверчиво смотрит на нас:
- Молодые люди, я вас по-стариковски прошу: оставьте нам эту книгу. Нужна она нам очень. В том дому счастье, где эта книга живет.
Мы узнаем о книге удивительные вещи: ею и больных отчитывают, и беса изгоняют, она всегда по людям ходит.
Три часа мы уговаривали бабушек. Когда шли от них, даже не верилось, что книга с нами.
Назавтра выходим в Ильинское. Дорога идет через Столково. Заглянули к старому знакомому - Герасиму Захаровичу Коноплянникову. Это человек ищущий. Был старообрядцем, разочаровался, ушел к единоверцам *.
* Единоверцы - небольшая группа; придерживаются старых обрядов, но не считают еретическими новые и признают власть церковных иерархов.
Проходим через большие, почти как на Севере, не то сени, не то крытый двор в комнаты. Мрачно, темно, беспорядок: жена ушла.
- Почему так, Герасим Захарыч?
- Да вот, федосеевцы соблазнили, безбрачники. Дом разделили. Готовит только себе, со мной и не говорит даже. Тридцать лет прожили, а теперь...
Разговор идет беспорядочный, сразу обо всем. Герасим Захарович намолчался и рад слушателям.
- Вот на днях с Еннафой Феофановной поругался. Совсем наши староверы заплутали. Я ей толкую: клятвы Московского собора 7174 года отменены, и по правилам Третьего вселенского собора и собора иже во Анкире...
Мы с трудом следим за нитью богословских рассуждений нашего хозяина.
- Я ей так и сказал: "Прах твой с ног моих отрясаю. Проклята буди еси и ныне, и присно, и во веки веков по правилом святых отец!" И ушел. Теперь скучно: поговорить не с кем. Спасибо, вы пришли. А скажите: книжку я читал про космогонические теории ("космогонические" он выговаривает с особым удовольствием), у академика Шмидта - одна космогоническая теория, у академика Фесенкова - другая, да ведь еще Канта - Лапласа есть! Не могут ученые люди договориться: все космогонические теории разнствуют. Так почему же не принять еще одну космогоническую теорию - из святой Библии? Молчите? То-то!
Открывается дверь, и в избу робко входит женщина:
- Дядя Герасим, я насчет косы, обещал отбить.
- Обещал - отобью, а сейчас занят. Не видишь - с людями говорю. Я, видите ли, один здесь косы отбивать умею, вот и ходят. Ты подожди, подожди, часа через три зайдешь. А с матерью ее, с бабкой Лушей, что в тридцатом году было!
Он радостно подхохатывает, предвкушая новый рассказ.
- Колхоз у нас организовали. Ну, человек с пять вступило. А я жду. Опасаюсь. Приходит из района представитель: "Ты почему, товарищ Коноплянников, не вступаешь? Или ты против? Ведь, на тебя глядя, и другие ждут". А я ему: "Мне и так хорошо, от добра добра не ищут. А у других и своя голова на плечах есть: я никому не указ". При народе сказал.
Хорошо. Завтра приходит Степка-милиционер: "Давай, Герасим, собирайся". Взяли нас, пять мужиков, повели в район. Камера большая, из всех деревень собрали. Сидим ждем. Водку пьем: Степка-милиционер носил. Вызывают к следователю: "Вы почему, гражданин Коноплянников, вели агитацию против колхоза, по чьему заданию?" Молчу. Что с им говорить? Ему сказали, он и говорит.
Завтра снова: "Вижу я, Коноплянников, зазря ты сидишь, а отпустить права у меня нет. Бумажка мне нужна. Напиши, что в колхоз вступаешь, смогу отпустить". И тут я написал, что я теперь осознал все удобство этой жизни.
Пришел домой, свел лошадь. Назавтра бабка Луша приходит: "Слушай, говорит, в районе была, хороший человек сказывал, у товарищев закружение в голове, из колхоза выписываться можно. Верно говорю, закружение, хороший человек говорил". Это она про Сталина статью. Я тогда и выписался. Потом налогами стали прижимать, землю на неудобьях отводить. Пришлось снова вступать, в тридцать пятом.
Разговор хорош, но время-то идет. Пока солнце все выше, а потом, глядишь, пойдет все ниже. А дела еще нет.
Об Авдеевом наследстве Герасим Захарыч ничего не знает.
- Только вот что. Вы как в прошлый раз у меня были, книгу я вам дал. А потом мне сосед Лука Семеныч пенял: зачем, мол, ко мне не послал, у меня тоже книга есть. Я-то на него, признаться, и не думал: совсем уж не грамотей, аза в глаза не видал. Небось от кого по наследству досталось.
Лука Семеныч столярничал на улице возле избы. - Хорошо, что пришли. Книга есть, а мне ни к чему: я все больше по столярной части.
Рукопись оказалась растрепанной, богослужебной, но зато древней - XVI века. Надо же нам было, уже получив книгу, согласиться на любезное предложение попить кваску! Только вылез Лука Семенович из подпола с большой бутылью в руках, как в избу влетела разъяренная девица лет двадцати. И сразу хвать за книгу. Мы держим, не выпускаем.
Это что здесь такое? Ты как это, папа, книгу отдаешь? Что мамынька скажет? Не дам на посмех!
Такого еще не бывало, чтобы старик отдавал, а девушка комсомольского возраста ставила палки в колеса. Лука Семенович стоял несколько растерянный. Защищать свое приобретение пришлось нам: ведь упустить рукопись XVI века - преступление перед наукой. Мы так искренне возмутились (с девушкой мы не считали нужным говорить особо тактичным почтительным тоном, как со стариками и старухами), что гневная дочка отступила. А мы поскорее ушли, крепко прижимая к себе драгоценную ношу.
В Ильинском мы были часов в пять. Жара уже спала. Вся деревня - на улице. Во главе одной из групп стариков и старушек, устроившейся на бревнах, торжественно восседал Игнатий Артемьевич, старый знакомый экспедиции, последний единоличник.
Да, этот старообрядческий наставник так и не вступил в колхоз. Мне рассказывали, как в прошлый раз он провожал участников экспедиции до следующей деревни. В поле работали женщины.
- Здравствуй, дядя Игнатий!
- Здравствуйте и вы. Работаете? Ну-ну, работайте. Авось вам чего и заплатят. А я человек вольный. Вот ко мне гости пришли. Провожаю их.
И шел дальше, исполненный достоинства. И сейчас, на бревнах, он не сидел, а именно восседал почтенным патриархом, в окружении стариков и старух. У "прогона", что вел в деревню, висела явно написанная им табличка: "По деревне на улицахъ не курить".
Нет, Авдей Иваныч не бывал никогда в этой деревне. Это, верно, другое Ильинское.
- Мы с ним в сообщении не состояли. Они ведь Спасова согласу, а мы - поморцы. Нам с ними сообщаться нельзя, они еретики.
Мы показываем наше приобретение. Старики оживляются, внимательно рассматривают, охают, удивляются, когда мы говорим, что книге этой лет 370-380. Каждому хочется подержать в руках такую редкость. Маленькая беззубая старушка радостно шамкает:
- А меня татая же есть.
- Да откуда же у тебя книга, Прасковья? Ведь отроду ты неграмотная, и отец с матерью у тебя неграмотные.
- Говорю, татая же. Как моленную разоряли, я ночью подобралась - мне тогда еще только пятьдесят было, помоложе была да посмелее - да и десяток книг-то унесла. Потом ко мне многие приходили, брали християне - и в Столково брали, и в самый Окатьев, и в Перуново, всюду брали. А одну-то не взяли: говорят, не очень внятно писана, связно как-то, не прочитать. А мне помирать пора. Боюсь, после меня на посмех пойдет. Хотела уж сжечь. Да вот, как свет проводили, монтеры у меня жили. Так они говорят: "Ты, бабушка, эту книгу береги, она старинная, может, кому и пригодится". Как думаешь, Игнаша, отдать им книгу-то?
- Дело твое, Параша.
- Ну коли так, на твоей душе грех. Отдам.
Спасибо вам, неизвестные монтеры, что сохранили для нас рукопись XV века, самое древнее, что мы привезли из экспедиции. Спасибо вам, хоть и подшутили вы над бабушкой Прасковьей. На двери в ее покосившееся жилье прибита табличка с трансформаторной будки - череп, кости и "не прикасаться, смертельно". Сами ли вы догадались, прельстилась ли старушка "святым" изображением, не знаю. Спасибо.
Домой мы шли, когда уже темнело, тщательно огибая на всякий случай избу Луки Семеныча.
Кожаную книгу мы не нашли. Ее еще предстоит отыскать. Кто знает, кому и когда, но хочется надеяться, что предстоит. А две другие, неожиданные, - с нами. Так что не зря ходили в не то Ильинское через Столково.
- ОТКРОЙТЕСЬ
- Мне ваша цель теперь ясна, - важно и отчетливо проговорил семидесятилетний Феодул Савинович. Помолчал и повторил: - Ясна мне ваша цель. Это - атеистическая пропаганда.
Стоило нам два часа сидеть в его избе, растолковывать, кто мы и откуда, чтобы нас приняли за маскирующихся пропагандистов.
Это было в одной из самых тяжелых наших экспедиций. В официальном отчете дирекции мы по окончании писали: "Серьезно затрудняла работу экспедиции озлобленность верующих старообрядцев в связи с неудачным характером атеистической пропаганды в избранном районе, заключающейся в административных запретах и оскорблении религиозных чувств верующих". За этой скучной и обтекаемо-канцелярской, как и положено в официальном отчете, фразой - изнурительные своей почти полной безрезультатностью десятки километров исхоженных проселочных дорог, томительные часы разговоров с не доверяющими нам людьми, всего двенадцать рукописей за три недели (а ведь бывало и по пятьдесят!).
- Вы мне вот что объясните, - говорил Феодул Савинович. - Вы эти книги сбираете, а власть их отрицает. Как же так? Ко мне недавно двое из района пришли. Говорят: "Брось ты, дед, эти глупости. Ведь бога-то нету". - "Вы говорите, нету, а я - есть". - "А зачем у себя народ сбираешь? В районе церковь есть, туда и ходи".
Феодул Савинович гневно простирает руку:
- Да я лучше вот эту руку дам отрубить, чем в церкву еретицкую пойду.
Районный "представитель" даже не понимал, что пропагандирует (если это можно назвать пропагандой) не атеизм, а православие.
Вообще, верующим старообрядцам живется нелегко, труднее, чем приверженцам синодской церкви. Их слишком мало, чтобы они могли создать церковную "двадцатку", как церковные верующие, платить приличное жалованье священнослужителю. А местные власти косо смотрят на незарегистрированные моленные. И вот видишь, как к вечеру в субботу или утром в воскресенье, словно в XIX веке, когда можно было попасть на каторгу за "совращение в раскол", осторожно косясь на незнакомых приезжих, задами пробираются к какой-нибудь избе старушки в белоснежных платочках и старички в таких же косоворотках и картузах.
Вот почему мы напрасно убеждали Феодула Савиновича, что занимаемся наукой, что книги нам нужны, чтобы узнать, как раньше жили люди. Наш хозяин хмуро смотрел и наконец сказал:
- Да вы небось из района. Узнаете, кто ходит Богу молиться, да с пенсии и сымете.
- Что вы?!
- Ну-ну, ничего, не обижайтесь, это я так, в шутку, - примирительно сказал Феодул Савинович.
Увы, мы знали, что не в шутку. Накануне мы заходили в поссовет. Немолодая усталая женщина с добрым лицом, председатель, любезно снабжая нас сведениями о старообрядцах в окрестных селах и деревнях, вдруг, к нашему удивлению, произнесла:
- Упорные они. Я уж одному из них, Ивану Мокрушину (тяжелый он, не нашего воспитания человек) сказала: "Не перестанут к тебе ходить молиться, с пенсии сымем". - И увидев, как нас непроизвольно передернуло, добавила: - Не знаю, может быть, и неверно я сказала.
Но все же постепенно лед, казалось, растаял. Феодул Савинович уже не смотрел на нас волком, пригласил пообедать, показывал сад и клятвенно уверял, что книг у него просто нет:
- Кабы были, то, конечно, с радостью. Как хорошим людям не дать? Да вот беда, нет.
- А вы посоветуйте, у кого еще спросить можно?
Старуха, видно, приняв слова мужа за чистую монету, назвала одного из соседей. Но тут Феодул Савинович, не стесняясь гостей, рассвирепел:
- Зачем людей подводишь? Мало тебе, что ли, что к нам пришли?
Мы снова принялись рассказывать, для чего нам нужны рукописи. Феодул Савинович внимательно слушал, потом прервал:
- Вы уж извините, если не так скажу. Откройтесь все же, зачем книги сбираете.
Мы повторили все сказанное. Старик помолчал и удовлетворенно произнес:
- Понял. Это как при Никоне-патриархе: соберете все книги и будете их переделывать.
Мы начали объяснять снова. Оттиск с описанием новых поступлений Феодул Савинович принял, видимо, за прейскурант...
- Понял. За границу продавать будете.
- Да нет же!
- Так зачем же тогда сбираете? Откройтесь.
Пора "открыться" и мне.
Конечно, ездить за рукописями интересно: новые места, встречи со своеобразными людьми. Появляется даже нечто вроде охотничьего азарта. Но какова цель наших экспедиций? Зачем мы стараемся обойти как можно больше сел и деревень, почему на работе с таким нетерпением ждут посылок и бандеролей с обратным адресом: "Экспедиция отдела рукописей. Город Н. Проездом"? Зачем вообще нужны теперь древние рукописные книги? Этого не скажешь в двух словах.
Мне часто кажется, что чувство истории - одно из важнейших человеческих чувств. Мы тем и люди, что живем не только сегодняшним днем. Ущербен человек без детских воспоминаний. Не вправе и человечество забывать свою историю. Знать, что было до меня на той земле, где я живу, - одна из благороднейших потребностей человека. Вот, кстати, почему свести историю к социологии прошлого, отвести факту роль лишь доказательства концепции - значит, как мне кажется, убить историю. Нам дорог факт истории не только потому, что он позволяет вывести из него в совокупности с другими основные закономерности развития человеческого общества. Нет, он и сам по себе культурная ценность.
А каждая рукописная книга -это факт истории. Так как она всегда уникальна. Какой тираж выйдет из-под печатного станка - пятьдесят, пятьдесят тысяч или пятьдесят миллионов - дело техники. Но без автографа или посвящения, без помет читателя на полях все экземпляры одного тиража - близнецы. Рукописная книга рядом с печатной - как ковер ручной работы рядом с фабричным.
С годами чувство удивления притупилось. Пришел профессионализм. Но я хорошо помню, как аспирантом я впервые пришел в читальный зал отдела рукописей. Конечно, я деловито разносил на карточки нужные для диссертации сведения, но все же долго не мог перестать удивляться, что через этот бумажный лист я вплотную прикасаюсь к средневековью.
Это трудно постичь до конца. Я смотрю на свет и вижу сетку продольных и поперечных полос - вержеров и понтюзо, а посредине бычью голову с острыми рогами. Но ведь эту самую сетку-основу, этого самого быка выкладывал из проволки в XVI веке на бумажной мельнице где-то в Шампани или в Безансоне мастер в кожаном фартуке.
Я читаю текст. Но ведь каждая буква - это след движений руки человека, жившего во времена Ивана Грозного. На сотни лет запечатлелся он на бумаге.
А через сколько рук прошла книга. Любимое чтение для одного, гордость коллекции для другого, насущная религиозная потребность для третьего... Кто оставил владельческую запись, кто - помету на полях, кто - как будто ничего. Но ведь тоже читал книгу, держал в руках.
Одного этого было бы достаточно, чтобы с почтением отнестись к старинным листам. Они всюду хранят следы чужой, но становящейся близкой жизни. Доска переплета из липы, срубленной сотни лет тому назад; обтягивающая ее кожа, покрытая сложным тиснением, - столь же древняя. Застывшая капля воска на листе. Если ее сковырнуть и размять в пальцах, она обретет прежнюю мягкость. Словно не прошло нескольких сот лет с того дня, когда капнула она со свечи, горевшей в тесной и дымной келье переписчика или читателя книги.
Можно долго представлять себе, как тщательно точил писец свое гусиное перо, как настаивал в воде чернильные орешки, добавляя туда для густоты ржавых гвоздей, и с волнением ждал результата, как проводил по бумаге шильцем едва заметные линии при помощи карамсы - рамки с натянутыми жилами, чтобы строчки получались ровными...
Иногда прочитаешь запись, оставленную переписчиком на одном из листов, и обожжет прикосновение к чужой беде. Помню одну такую - на Евангелии XVI века. Писец по обычаю просит прощения за возможные ошибки и прибавляет, что "глад был тогды велик в Руской земле. Замедлел есмь в сердце моем. Коли ел, коли не ел".
По рукописным книгам мы можем представить себе внутренний мир, круг интересов и знаний образованного человека русского средневековья. Он читал в Хронографе о Юлии Цезаре и Навуходоносоре, об открытии Колумбом Америки и о людях с песьими головами, размышлял о знаках Зодиака и "кругах солнца", углублялся в суть богословских споров в Византии III- IV веков и задумывался над пределами свободы воли - "самовластии" человека. Его любимым чтением была превращенная в христианское житие древнеиндийская повесть о царевиче, ставшем пустынником, и биография Александра Македонского. И вероятно, с еще большим волнением он читал о трогательном прощании рязанской княгини Агриппины с мужем, отправлявшимся на верную гибель в бою с Батыем, и о другой рязанской княгине - Евпраксии, которая, как рассказывает то же поэтическое сказание, чтобы не попасть в гарем чужеземного владыки, "ринуся из превысокаго терема своего с сыном своим князем Иваном на среду земли. И заразися до смерти". Отсюда, говорит легенда, и Зарайск - Заразск древней Руси.
Сколько поэзии в рассказе о том, как княгиня Агриппина при прощании "безгласна бысть, яко мертва, держима некиими. Слезам же ее текущим, яко источнику, изо очию ея. Рече ж великий князь: «Прости мя, горлица, супруга милая моя, иду бо чашу смертную пити»". В ответ же на горькие рыдания княгини великий князь "утешив ее мужественными словами и утешив надеждою благ вечных и объем ю, даде ей любезное последнее целование".
Прощание женщины и воина, которым никогда больше не увидеть друг друга: вот уже тысячелетия эта сцена волнует каждого, и перестанет ли когда-нибудь волновать?
Разные люди читали эти книги, к разным приходили выводам для себя. Воевода и дипломат Федор Иванович Карпов четыре с лишним столетия тому назад написал строки, которые словно вышли из-под пера нашего современника: "Милость без правды - малодушество есть, а правда без милости - мучительство".
Всего через несколько десятилетий грозный царь Иван Васильевич, человек не менее Карпова начитанный, "словесной премудрости ритор", целыми "паремьями" цитировавший на память Библию и "отцов церкви", создал наиболее законченную формулу деспотизма: "Жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же".
До XVIII века, кроме богослужебных книг, практически все русские книги были рукописными. Печатные были на первых порах очень дороги, гораздо дороже рукописных. И печатали только те книги, где особенно важна точность каждой буквы, каждого слова - богослужебные.
Кстати, и изучать печатные книги помогают рукописные. Все знают, что первой книгой, которую напечатал Иван Федоров, был "Апостол" - Деяния и Послания апостольские. А какой перевод из ходивших по Руси он выбрал? Тщательное сравнение первопечатного "Апостола" с рукописным показало, что Иван Федоров выступил не только как первопечатник, но и как редактор, стремившийся приблизить к живой речи тяжелый язык церковных книг.
Впрочем, древнерусская книжность - тема большая, говорить и писать об этом можно бесконечно. Важно лишь, чтобы было ясно, что собирание древнерусских рукописей - это не чудачество, а важное для отечественной культуры дело.
Когда мы возвращаемся из экспедиции, то редко можем назвать какую-нибудь одну рукопись, вроде "Великого зерцала" или чибисовского летописца, которая была бы сама по себе исключительно ценной. И все же мы не унываем.
Начальник разведки в партизанском соединении С. А. Ковпака писатель и генерал П. П. Вершигора писал о чувствах разведчика, в руках которого оказался чемодан с военными документами врага:
"«Наверное, здесь весь план войны, и, узнав его, я сразу поставлю врага на колени», - честолюбиво думает разведчик, вчера только взявшийся за это дело.
«Может быть, я добыл план операции фронтового масштаба?» - с надеждой раздумывает разведчик этак с полугодичным стажем.
«Возможно, я достану документы, и они, подкрепленные еще другими данными, помогут моему командованию распутать сложную цепь замыслов противника», - мучается сомнениями опытный разведчик, знающий толк в своем деле".
Как похоже на нас! Вначале мечтаешь: найдем рукопись, а в ней такое открытие, что наши дотоле неизвестные имена окажутся навеки вписанными золотыми буквами в историю отечественной науки. Походишь немного - и уже боишься поверить, что найденная рукопись в комплексе с другими, уже известными, окажется ценной для исследователя, обернувшись через несколько лет двумя-тремя строчками петита в сноске в объемистой монографии.
- НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я много рассказывал друзьям о своих впечатлениях об археографических экспедициях, в которых мне приходилось участвовать. Кое-что казалось интересным не только для специалистов по культуре Древней Руси. Нам удалось заглянуть в уголки исчезающего мира, в старообрядческую Русь, увидеть смесь фанатизма и практической смекалки, крестьянской патриархальности и купеческой хитрости.
Некоторые из друзей утверждали, что об этом стоит написать. Наиболее вежливые прибавляли, что я должен и даже обязан написать об этом. В конце концов я им поверил.
Сейчас мне самому кажется, что эти записки нужны. Конечно, профессионал-литератор справился бы с ними лучше. Но ни в одной из известных мне экспедиций за рукописями не было писателей.
Все, что здесь описано, было. Но так как речь идет о живых людях, не дававших разрешения на то, чтобы их имена появлялись в печати, все без исключения фамилии, имена, отчества и названия населенных пунктов изменены.
Отдавая на суд читателя эти беглые зарисовки с натуры, я хотел бы закончить их обычной формулой древнерусских книжников: "Аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю вас: не зазрите моему окаянству, не клените, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения".
3. ГРОБНИЦА В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ
Светлой памяти Александра Феоктистовича Родина посвящаю
В Архангельском соборе Московского Кремля, и без того не слишком обширном, тесно от надгробий московских великих князей и царей. Здесь века сжимаются в сантиметры: не более полутора метров отделяют друг от друга гробницы Ивана Калиты и царя Алексея Михайловича. Что ни погребение, то имя, хорошо знакомое каждому по страницам учебников: Дмитрий Донской, Василий Темный, Иван III, Владимир Старицкий... Одна из гробниц выделена особо: над нею возвышается возведенный в XVII веке резной каменный шатер, кованая медная решетка ограждает ее. Надписи на металлическом футляре подробно повествуют о горестной судьбе почивающего здесь святого царевича Дмитрия, убиенного в Угличе. И как напоминание о трагической гибели восьмилетнего отпрыска "царского корени" серьезно и печально смотрит на детскую могилу Андрей Боголюбский: с фрески на столпе храма. Князь, убитый своими приближенными за четыре века до Дмитрия.
Кто покоится в этой гробнице? Действительно ли царевич Дмитрий? Что произошло в Угличе 15 мая 1591 года?
- ТРИ ВЕРСИИ
Три взаимоисключающие версии угличского дела оставили нам современники, и до сих пор, вне зависимости от его истинного влияния на ход истории, нас волнует это трагическое событие, разгадка тайны, которой уже четыре века.
Вспомним же прежде всего предысторию угличской драмы: иначе в ней не разобраться.
В 1584 году закончилось продолжавшееся полвека царствование Ивана Грозного. Вступив на трон трехлетним несмышленышем, царь Иван скончался духовно и физически изнуренным, преждевременно состарившимся пятидесятитрехлетним человеком. Старший из его сыновней - походивший на отца и умом, и начитанностью, и необузданной садистской жестокостью - Иван Иванович был убит отцом в припадке гнева. Следующий - Федор Иванович - был человеком крайне недалеким, почти слабоумным. Официальная летописная традиция создала светлый образ царя-юродивого, печальника и молитвенника за страну, мало разбирающегося в делах земных, повседневных, но видящего далеко "духовными очами".
А. К. Толстой опоэтизировал и вместе с тем наполнил конкретным содержанием этот образ в своей замечательной трагедии "Царь Федор Иоаннович". Впрочем, в своей сатирической поэме тот же А. К. Толстой характеризовал его уже иначе: "Был разумом не бодор, трезвонить был горазд". Да и народ без особого восторга относился к своему немудрому государю. Шведский король говорил, что "русские на своем языке называют его «durak»". Матерью Ивана и Федора была Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева, рано умершая первая жена царя. Ее брат боярин Никита Романович Юрьев благополучно пережил все невзгоды опричного времени (впрочем, Юрьевы были близки к опричным кругам, а некоторые даже сами были опричниками) и стал одним из членов регентского совета, учрежденного умиравшим царем для опеки над своим глуповатым наследником. С самого начала царствования Федора большим влиянием пользовался брат его жены Ирины Борис Федорович Годунов, бывший опричник, сам женатый на одной из дочерей Малюты Скуратова. Царский шурин Борис Годунов после смерти в 1585 году Н. Р. Юрьева смог легко выйти на первый план и стать фактически единоличным правителем государства.
У вступившего на престол царя был младший брат - царевич Дмитрий. На его матери - Марии Федоровне Нагой - Иван IV женился седьмым или шестым браком за четыре года до смерти. Незадолго до рождения ребенка он уже вел в Англии переговоры о новом браке с родственницей королевы Елизаветы принцессой Гастингской. Дмитрий родился в 1582 году, и ко времени смерти отца ему было всего полтора года. Семейство крупных вотчинников, из которого происходила мать Дмитрия, принадлежало к второстепенным родам государева двора. Двоюродная тетка будущей царицы Евдокия Александровна была первой женой старицкого князя Владимира Андреевича, двоюродного брата и династического соперника грозного царя. Дядя царицы Афанасий Федорович - крупный дипломат - ездил послом в Крым и в награду был зачислен в опричнину. Дед царицы Федор Михайлович - единственный из Нагих, попавший в Боярскую думу до женитьбы царя на Марии.
После вступления на престол Федора Ивановича Дмитрий получил в удел Углич - город, часто находившийся в собственности удельных князей Московского дома. Однако ни он, ни его семья не стали в действительности удельными владыками. Отправка в Углич была фактически ссылкой опасных конкурентов в борьбе за власть. Удельные права князя ограничивались получением части доходов уезда. Административная власть принадлежала присланным из Москвы служилым людям, и в первую очередь дьяку Михаилу Битяговскому. Воспитывали молодого царевича мать, многочисленная родня - Нагие и обширный придворный штат.
15 мая 1591 года царевич играл во дворе. Во время игры он упал на землю с ножевой раной в горле и тут же умер. Во двор Угличского кремля сбежались горожане. Мать царевича и ее родственники обвинили в убийстве присланных из Москвы людей, которые были растерзаны толпой жителей города. Прибывшая из Москвы через несколько дней комиссия в составе митрополита Сарского и Подонского Геласия, боярина князя Василия Ивановича Шуйского, окольничего Андрея Петровича Клешнина и дьяка Елизария Даниловича Вылузгина пришла к выводу, что царевич, страдавший эпилепсией, играл ножом и в припадке сам на него накололся. Выступавший сначала в качестве претендента на русский трон, а в 1605-1606 годах и царивший в Москве молодой человек утверждал, что он - Дмитрий, спасшийся от убийц благодаря подмене. Ставший царем после его свержения Василий Шуйский, главный деятель угличской комиссии, заявил, что Дмитрий был убит в Угличе по приказу Бориса Годунова. Именно тогда появилась гробница Дмитрия в Архангельском соборе, а сам Дмитрий был канонизирован, то есть объявлен святым.
Итак, три версии:
погиб в результате несчастного случая;
убит по наущению Бориса Годунова;
пытались убить, но спасся.
Автор не рассчитывает прибавить нечто существенное к тому спору, что длится с 1591 года. Моя задача скромнее - оценить весомость аргументов в пользу каждой из версий, изложить все "за" и "против".
- САМОЗВАНЕЦ ЛИ ЛЖЕДМИТРИЙ?
Начнем с последней версии. Она довольно редко проникает на страницы современной литературы. А между тем ее нельзя считать просто плодом досужего вымысла. В спасение Дмитрия верили (или хотя бы допускали эту возможность) крупный специалист по генеалогии и истории письменности С. Д. Шереметев, профессор Петербургского университета К. Н. Бестужев-Рюмин, видный историк И. С. Беляев... Книгу, специально посвященную обоснованию этой версии, выпустил известный реакционный журналист А. С. Суворин [1].
Н. И. Костомаров как-то заметил, что "легче было спасти, чем подделать Димитрия" [2]. Авторы, считавшие, что в 1605-1606 годах на русском престоле сидел подлинный Дмитрий, обращали внимание на то, что молодой царь вел себя поразительно уверенно для авантюриста-самозванца. Он, похоже, верил в свое царственное происхождение. Вот некоторые факты. Василий Шуйский был приговорен судом Боярской думы к смертной казни за заговор против Лжедмитрия. Казалось бы, вот легкий и желанный случай отделаться от одного из самых опасных свидетелей - того, кто своими глазами видел мертвое тело царевича в Угличе. Но "царь Дмитрий" дарует ему жизнь и даже прощает его. Он не боялся и разоблачений из Польши - иначе не пошел бы на риск обострения отношений с королем Сигизмундом III. А он отказывался принять из рук посла королевскую грамоту, адресованную великому князю, а не царю всея Руси. Это было не простым театральным жестом - в Польше эти действия были восприняты как недружественный акт и вызвали возмущение магнатской верхушки. И даже во время мятежа, лежа на земле со сломанной ногой после вынужденного прыжка из окна второго этажа, Лжедмитрий продолжал уверять собравшихся вокруг него стрельцов, что он - законный царь Дмитрий Иванович.
Современники единодушно отмечают, с какой поразительной, напоминающей петровскую, смелостью молодой царь нарушал сложившийся при московском дворе этикет. Он не вышагивал медленно по дворцу, поддерживаемый под руки приближенными, а стремительно переходил из одной комнаты в другую, так что даже его личные телохранители порой не знали, где его найти. Толпы он не боялся, не раз в сопровождении одного-двух человек он скакал по московским улицам. Он даже не спал после обеда. Царю прилично было быть спокойным и неторопливым, истовым и важным. Этот действовал с темпераментом названого отца (без его жестокости). Все крайне непохоже на расчетливого самозванца. Вспомним, как старательно пытался Пугачев копировать формы екатерининского двора. Считай Лжедмитрий себя самозванцем, он уж наверняка сумел бы заранее освоить этикет московского двора. А в учителях в Польше не было недостатка: и любой из дипломатов, часто бывавших в Московии, и многочисленные эмигранты из России.
Многие доказывали самозванство Дмитрия тем, что он был нерусским по происхождению, видели в нем белоруса или украинца, подвергшегося ополячиванию, отмечали его приверженность к польским обычаям. Однако в конце прошлого века исследователь отношений России и папского престола П. Пирлинг разыскал в ватиканском архиве собственноручное письмо Лжедмитрия на польском языке.
Язык и графику письма одновременно и независимо друг от друга изучили крупнейшие ученые-слависты С. Л. Пташицкий и И. А. Бодуэн де Куртенэ [3] Они пришли к выводу, что письмо было составлено человеком, для которого польский язык был родным. Но переписал письмо человек (а письмо - автограф Лжедмитрия), отнюдь не столь сведущий в польском языке. Переписчик делал ошибки, свидетельствующие о том, что он говорил по-польски с русским акцентом. Слово "imperator" он, например, написал так: "inparatur". Кроме того, он систематически стилизовал латинские буквы под соответствующие начертания московской скорописи рубежа XVI-XVII веков. Письмо, вероятно, составил один из польских приближенных Лжедмитрия, а уже переписал он сам. Тем самым русское и даже московское происхождение Лжедмитрия было вполне доказано.
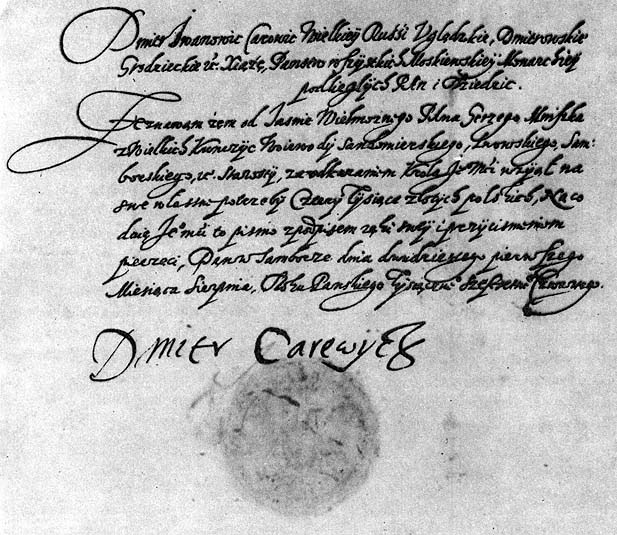
Заемное письмо Лжедимитрия I на 4 тыс. злотых, данное в 1604 г. воеводе Юрию Мнишеку
Сторонники самозванства Лжедмитрия подчеркивают, что, по данным следственного дела, царевич Дмитрий страдал эпилепсией. У Лжедмитрия же в течение длительного срока (от появления в Польше в 1601 году до смерти в 1606-м) не наблюдалось никаких симптомов этой болезни. Эпилепсию же не удается излечивать и современной медицине. Однако даже без всякого лечения у больных эпилепсией могут наступать временные улучшения, тянущиеся иной раз годами и не сопровождающиеся припадками *. Таким образом, отсутствие эпилептических припадков не противоречит возможности тождества Лжедмитрия и Дмитрия.
* Приношу благодарность врачу-психиатру В. М. Радиной за любезную консультацию по вопросам медицины, затронутым в этом очерке.
Сторонники версии о том, что в Угличе был убит не царевич, а посторонний мальчик, обращают внимание на то, что в сохранившемся следственном деле совершенно не упоминается один из Нагих, живший и действовавший в Угличе в это время: Афанасий Александрович, двоюродный брат царицы. Между тем о нем сохранились сведения в записках английского дипломата Джерома Горсея. Тогда Горсей из-за ссоры с влиятельным дьяком Андреем Щелкаловым оказался высланным из Москвы в Ярославль. Предоставим ему слово:
"Кто-то застучал в мои ворота в полночь. У меня в запасе было много пистолетов и другого оружия. Я и мои пятнадцать слуг подошли к воротам с этим оружием.
- Добрый друг мой, благородный Джером, мне нужно говорить с тобой.
Я увидел при свете луны Афанасия Нагого, брата вдовствующей царицы, матери юного царевича Дмитрия, находившегося в 25 милях от меня в Угличе.
- Царевич Дмитрий мертв, сын дьяка, один из его слуг, перерезал ему горло около шести часов; [он] признался на пытке, что его послал Борис; царица отравлена и при смерти, у нее вылезают волосы, ногти, слезает кожа. Именем Христа заклинаю тебя: помоги мне, дай какое-нибудь средство!" [4]
Неужели Афанасий Нагой только затем будил среди ночи английского дипломата, чтобы получить у него средство от нервной экземы, поразившей царицу? Почему имя Афанасия Нагого не упоминается в следственном деле? Может быть, Афанасий Нагой отвозил Дмитрия в Ярославль и прятал там при помощи Горсея? А ловкий дипломат побоялся прямо написать об этом в своих записках?
Впрочем, помимо записок Горсея, окончательно отредактированных уже в XVII веке, через много лет после событий, есть его письмо, отправленное по свежим следам, через 26 дней после угличской трагедии, 10 июня 1591 года. Адресатом Горсея был лорд-казначей Бэрли. Сообщая об убийстве Дмитрия, Горсей прибавляет: "...случились еще многие столь же необыкновенные дела, которые я не осмелюсь описать не столько потому, что это утомительно, сколько из-за того, что это неприятно и опасно" [5]. Что могло показаться Горсею опаснее, чем известие об убийстве царевича? Не сообщение ли о подмене и о своей роли в этой манипуляции?
Обращали также внимание на то, с какой легкостью мать царевича инокиня Марфа (в миру - Мария) признала сына в Лжедмитрии. Кстати, еще до прихода самозванца в Москву, вызванная Годуновым, она по слухам, заявила, что верные люди сообщили ей о спасении сына. Известно также, что Лжедмитрий, объявляя князю Адаму Вишневецкому о своем царском происхождении, предъявил в качестве доказательства драгоценный крест, усыпанный бриллиантами. По этому же кресту мать якобы узнала в нем своего сына.
После убийства Лжедмитрия. Марфу Нагую толпа спросила, был ли убитый ее сыном.
- Об этом надобно было спрашивать, когда он был жив, а теперь он уже не мой, - двусмысленно ответила царица.
Стоит только задать себе вопрос, а не спасся ли царевич, как многие детали получают новое освещение, легко и удобно вписываются в общую картину. Свидетели в ходе следствия часто говорят о теле Дмитрия - к чему подчеркивать, где находится тело убитого, если нет подозрений, что это иное тело? У погибшего во время мятежа Михаила Битяговского была большая конюшня. Восемь или девять лошадей оттуда были взяты восставшими после разгрома усадьбы Битяговских и отведены на конюшню Нагих. На этих лошадях разъезжали в окрестностях города посадские люди, чтобы дать знать о приближении следственной комиссии. А не взяты ли были эти лошади для иной цели: отвезти в Ярославль спасенного царевича? Через два дня после восстания по приказу царицы Марьи была разыскана "жоночка уродливая" (т. е. юродивая), которая жила у Битяговских и иногда "для потехи" приходила к царице. Ее обвинили, что она "портила" царевича, и убили. А не была ли тем самым просто устранена та, что знала о подмене? Наконец, С. Д. Шереметев обратил внимание, что ни Федор Иванович, по своем брате, ни царица Марья по своем сыне не сделали столь обычных для состоятельных людей Древней Руси заупокойных вкладов в монастыри и церкви. Конечно, сделать вклад по душе здравствующего человека недопустимо и даже опасно. Выходит, Мария Нагая знала, что ее сын жив. Весь этот комплекс аргументов дал возможность С. Ф. Платонову - наиболее серьезному исследователю этой эпохи в дореволюцинной историографии - заметить, что за мнениями о спасении Дмитрия "стоит новая аргументация, дающая им сравнительно большую силу" [6].
Однако и позднейшие исследования, и внимательное изучение источников, известных еще раньше, опровергли эту версию с достаточной убедительностью. Начнем с того, что, когда в научный оборот было введено больше материалов, были обнаружены и вклады по душе царевича Дмитрия [7]. Причем один из них был сделан матерью как раз в годовщину смерти царевича - 15 мая 1592 года. Остальные аргументы - и ночная поездка Афанасия Нагого, и лошади с конюшни Битяговского, и убийство "жоночки уродливой" - не могут, естественно, сами по себе доказать спасения царевича.
Вряд ли всерьез следует принимать во внимание показания матери царевича. Ведь она не раз меняла свою точку зрения на события в Угличе. Уверенная 15 мая 1591 года в убийстве сына, она полуотказалась от своего утверждения после работы следственной комиссии: призвав к себе митрополита Геласия, она называла "грешным делом" убийство Михаила Битяговского и других и просила заступиться за ее "бедных" братьев. Она потом торжественно признала Лжедмитрия своим сыном, а после его низвержения и воцарения Шуйского не менее торжественно отреклась от него, уверяя, что назвала его сыном под страхом смерти. Царица, конечно, лгала: каждому было ясно, что Лжедмитрий просто не мог убить мать царевича Дмитрия. Вероятнее другое: велика была ненависть у этой женщины к Борису Годунову, велико было искушение из ссыльной монахини, которой, по некоторым сведениям, приходилось самой даже стирать свое белье, превратиться снова в почитаемую государыню царицу.
В одном из частных летописцев - так называемом "Пискаревском" - сохранилось и известие, проливающее свет на эпизод с крестом. Автор летописца, хорошо осведомленный о различных слухах, бродивших по Руси, рассказывает, что Отрепьев перед побегом в Польшу проник в монастырь, где содержалась царица, "и, неведомо каким вражьим наветом, прельстил царицу и сказал ей воровство свое. И она ему дала крест злат с мощьми и камением драгим сына своего, благовернаго царевича Дмитрея Ивановича Углецкого" [8]
Но, может быть, в документах Лжедмитрия сохранились какие-нибудь доказательства его правоты? 24 апреля 1604 года он отправил папе римскому Клименту VIII письмо, в котором, между прочим, так описывал свое прошлое: "...убегая от тирана и уходя от смерти, от которой еще в детстве избавил меня Господь Бог дивным своим промыслом, я сначала проживал в самом Московском государстве до известного времени между чернецами" [9].
До нас дошли и те грамоты самозванца, в которых он объявлял русским людям о своем спасении. В них мы не находим опять-таки никаких подробностей. "Царь Дмитрий Иванович" настойчиво повторяет лишь, что его "Бог невидимою рукою укрыл и много лет в судьбах своих сохранил" [10]. Казалось бы, столь чудесно спасшемуся монарху следовало бы вознаградить тех, кто помогал ему бежать, кто, рискуя жизнью, укрывал его многие годы. Это нужно было и для того, чтобы снять с себя подозрение в самозванстве, и чтобы показать себя благодарным, и чтобы сделать этих преданных подданных достойным примером для подражания. Нет, Лжедмитрий молчит о них. И. С. Беляев предполагал, что правительство Василия Шуйского постаралось уничтожить такого рода документы. Но ведь сами грамоты Лжедмитрия сохранились. Почему же в них нет этих сведений?
Нам также известно, как объяснял Лжедмитрий свое спасение окружающим. В наиболее четкой форме эти объяснения сохранились в дневнике жены самозванца - Марины Мнишек. "При царевиче был доктор, - пишет Марина, - родом итальянец. Сведав о злом умысле, он... нашел мальчика, похожего на Дмитрия, и велел ему быть безотлучно при царевиче, даже спать на одной постели. Когда же мальчик засыпал, осторожный доктор переносил Дмитрия на другую постель. В результате был убит другой мальчик, а не Дмитрий, доктор же вывез Дмитрия из Углича и бежал с ним к Ледовитому океану" [11].
Очень близки к этому объяснению показания Юрия Мнишка, отца Марины, арестованного после свержения самозванца. Мнишек сообщил, что его зять рассказывал, что "его Господь Бог с помощью его доктора спас от смерти, положив на его место другого мальчика, которого в Угличе вместо него зарезали: и что этот доктор потом отдал его на воспитание одному сыну боярскому, который потом ему посоветовал, чтобы он скрылся между чернецами" [12].
О враче-иноземце, спасшем Дмитрия от смерти, говорят также многие иностранцы. Приехавший в Москву перед самой свадьбой Лжедмитрия и Марины немецкий купец Георг Паэрле пишет, что наставник царевича Симеон подменил Дмитрия в постели другим мальчиком, а сам бежал, скрыв Дмитрия в монастыре. Поляк Товяновский утверждает, что врачу Симону Годунов поручил убийство Дмитрия, а тот положил в постель царевича слугу. Капитан роты телохранителей Лжедмитрия француз Жак Маржерет тоже говорил о подмене, только приписывал ее царице и боярам [13].
Итак, ясно, что Лжедмитрий в кругу близких к нему людей рассказывал, что был спасен иностранным врачом Симоном, подменившим его в постели. Однако русские источники не знают ни о каком враче-иностранце, жившем в Угличе. Во всем следственном деле нет ни одного упоминания о нем, следователи не интересуются ни тем, что он делал, ни тем. куда он девался. К тому же, положив в постель другого мальчика, Симон ничего не добился бы: царевич погиб среди бела дня, в послеобеденное время, играя во дворе. В этом единодушны все русские источники: как считающие смерть царевича результатом несчастного случая, так и обвиняющие в убийстве Бориса Годунова и его агентов. Таким образом, Лжедмитрий даже не знал обстоятельств смерти своего прототипа. Должно быть, те, кто окружал Лжедмитрия, видели шаткость его противоречащей фактам версии и посоветовали претенденту на престол быть сдержаннее в публичных высказываниях об обстоятельствах своего "чудесного спасения". Потому-то, вероятно, и молчат об этих обстоятельствах грамоты "царя Дмитрия".
Важные соображения в пользу самозванства Лжедмитрия приводит немецкий ландскнехт Конрад Буссов. Это был человек, стоявший близко к самозванцу и относящийся к нему на протяжении всего своего повествования с большим уважением и сочувствием. Он вовсе не склонен принимать на веру официальные заявления московского правительства. Тем не менее целую главу своей книги он посвятил доказательству того, что Лжедмитрий - самозванец. Буссов приводит слова одного из самых близких к Лжедмитрию людей, погибшего вместе с ним Петра Басманова: "Хотя он и не сын царя Ивана Васильевича, все же теперь он наш государь. Мы его приняли и ему присягнули, и лучшего государя на Руси мы никогда не найдем". Неподалеку от Углича Буссов и немецкий купец Бернд Хопер разговорились с бывшим сторожем угличского дворца. Сторож сказал о Лжедмитрии: "Он был разумным государем, но сыном Грозного не был, ибо тот действительно убит 17 лет тому назад и давно истлел. Я видел его, лежащего мертвым на месте для игр" [14]
Не так просто, как может показаться, обстоит дело и с эпилепсией. Действительно, в течение длительного срока у больного может не быть припадков. Но у человека, заболевшего эпилепсией еще в детском возрасте, непременно должны проявиться определенные черты характера. В современной медицине эти "своеобразные изменения личности" считаются "очень важными в диагностическом отношении", и к ним относятся: "вязкость мыслей, застревание, медлительность, прилипчивость, слащавость в отношениях с другими лицами, злобность, особая мелочная аккуратность - педантичность, черствость, пониженная приспособляемость к изменяющимся условиям, жестокость, склонность к резким аффектам, взрывчатость и т. д." [15] Образ Лжедмитрия, каким он представляется по иностранным и русским источникам, настолько противоположен этим чертам, что его можно было бы назвать антипортретом эпилептика.
Все эти обстоятельства полностью разрушают легенду о тождестве Лжедмитрия и царевича Дмитрия.
- ЛЖЕДМИТРИЙ И РОМАНОВЫ
Но откуда же тогда у Лжедмитрия уверенность в своем царском происхождении? Не был ли он с детства подготовлен к этой роли? Ведь слухи о появлении самозванца возникли уже через семь лет после смерти Дмитрия, за шесть лет до первого выступления Лжедмитрия в Польше. Именно тогда гонец германского императора Шиль получил приказание разведать в Москве, не стал ли царем "незаконный брат великого князя, отрок приблизительно 12 лет по имени Дмитрий Иванович". Рассказывали даже о том, как якобы Борис после смерти царя Федора показал боярам царевича Дмитрия, живущего тайно у него во дворце.
Когда первые вести о самозванце достигли Москвы, Борис Годунов, как говорят, сразу заявил боярам, что это - их рук дело. Вскоре после вступления Бориса на престол по обвинению в заговоре были приговорены к ссылке пятеро двоюродных братьев покойного царя Федора - сыновья боярина Никиты Романовича Юрьева. Старший из "Никитичей" - Федор, будущий патриарх Филарет и отец первого царя из дома Романовых Михаила - был насильственно пострижен в монахи в Антониево-Сийском монастыре на Двине. Еще в 1602 году его любимый слуга, вероятно, по приказу своего господина, сообщал приставу, что старец Филарет мыслит только о спасении души и о своей бедствующей семье: "Лихо-де на меня жена и дети: как-де их помянешь, ино-де рогатиной в сердце толкнет". Он даже будто бы мечтал, чтобы они скорее умерли, чем мучиться здесь: а "я бы-де стал промышляти одною своею душою".
Прошло всего три года, и донесения пристава резко меняются. Перед нами уже не смирившийся до конца человек, потерпевший жизненное крушение, а политический борец, заслышавший звуки боевой трубы. Летом 1604 года в Польше появился Лжедмитрий, а уже в феврале 1605 года пристав доносит, что старец Филарет живет "не по монастырскому чину, всегда смеется, неведомо чему, и говорит про мирское житье, про птицы ловчие и про собаки, как он в мире жил". Другим же монахам Филарет гордо заявлял, что "увидят они, каков он впредь будет" [16]. Радость Филарета Романова по случаю появления самозванца была не напрасной: он и впрямь скоро показал монахам, "каков он впредь будет". Меньше полугода прошло с того дня, когда пристав отправил в Москву донос на опального старца Филарета, как Филарет был уже торжественно возведен по приказанию Лжедмитрия в сан митрополита Ростовского. Одновременно получил боярский чин другой оставшийся в живых из братьев Никитичей - Иван.
Этим не ограничиваются связи самозванца с романовской семьей. Как только Лжедмитрий объявился в Польше, годуновское правительство поспешило объявить, что он - самозванец Юшка (а в монашестве Григорий) Богданов, сын Отрепьев, дьякон-расстрига Чудова монастыря, состоявший "для письма" при патриархе Иове. Вопрос о тождестве Лжедмитрия и Отрепьева еще не решен окончательно и выходит за рамки этого очерка. Но все же пока это наиболее вероятная гипотеза. Так вот Отрепьев некоторое время жил на дворе у Романовых. Не они ли готовили юношу к роли самозванца, не они ли воспитали его в убеждении, что он - подлинный наследник царского трона? Не раскрытие ли этого заговора, при котором будущему Лжедмитрию удалось бежать, было причиной жестоких опал, обрушившихся на романовскую семью?
Все это, разумеется, только предположения, в той или иной форме со времен С. М. Соловьева ходящие в исторической науке. Нам сейчас важно одно: уверенность Лжедмитрия в своем царском происхождении еще не доказывает его подлинности.
- НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Итак, остаются две версии: закололся сам и убит по наущению Бориса Годунова. Обе версии имеют сейчас сторонников в исторической науке. Чтобы оценить их аргументы, необходимо обратиться к источникам, на которых основывается каждая из версий. Здесь, с одной стороны, - следственное дело, составленное комиссией, посланной из Москвы, документ, современный событию. С другой - вся русская историческая традиция XVII века: многочисленные сказания о Смутном времени, воспоминания и исторические сочинения участников и современников событий. Здесь же - многие сочинения иностранцев. Какова же степень достоверности информации об угличских событиях, сообщаемых этими источниками?
Начнем со следственного дела [17]. Вот как вырисовывается то, что произошло в Угличе в майские дни 1591 года, из этого документа, представляющего собой запись показаний нескольких десятков людей, частью очевидцев. Царевич Дмитрий давно страдал эпилепсией - падучей болезнью, "черной немочью". Об этом говорила мамка царевича Василиса Волохова, показавшая, что "и преж того, сего году в великое говенье (то есть в великий пост. - В.К.), та ж над ним болезнь была - падучей недуг, и он поколол сваею * и матерь свою царицу Марью: в вдругорядь на него была та ж болезнь перед великим днем (то есть перед Пасхой. - В.К.), и царевич объел руки Ондрееве дочке Нагово, едва у него Ондрееву дочь Нагово отнели".
* По словам В. И. Даля, свая или свайка - это "толстый гвоздь или шип с большою головкою для игры в свайку, ее берут в кулак за гвоздь или хвост и броском втыкают в землю, попадая в кольцо" // Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 146. М., 1955.
Андрей Александрович Нагой, двоюродный дядя царицы, подтвердил эту часть показаний Василисы Волоховой: "А на царевиче бывала болезнь падучая: да ныне в великое говенье у дочери его руки переел, да и у него, Ондрея, царевич руки едал же в болезни... Как на него болезнь придет, и царевича станут держать. и он в те поры ест... што попадетца".
12 мая, незадолго до трагического события, припадок повторился. 14 мая Дмитрию "маленько стало полехче", и мать взяла его с собой в церковь, а вернувшись, велела погулять во дворе. В субботу 15 мая царица опять ходила с сыном к обедне, а потом отпустила гулять во внутренний дворик дворца. С царевичем были мамка В. Волохова, кормилица Арина Тучкова, постельница Марья Колобова и четверо сверстников Дмитрия, "маленькие робятка жильцы" - сыновья кормилицы и постельницы Петруша Колобов и Важен Тучков, Иван Красенский и Гриша Козловский. Дети играли в тычки.
Эта игра очерчена в показаниях разных свидетелей: Василиса, не вникая в детскую игру, говорит просто: "играл царевич ножиком"; "в тычку ножиком", не считая нужным объяснять хорошо известные им правила игры, говорят дети. Подробнее объясняет дело Андрей Нагой: "...царевич ходил на заднем дворе и тешился с робяты, играл через черту ножем". Те, кто не присутствовал при смерти царевича, говорят о том же: "тыкал ножем" (губной староста Иван Муранов), "тешился в тычку ножем" (сытники И. Меншиков и др.). Одиноко стоит утверждение, что Дмитрий "тешился сваею в кольцо". Вероятно, авторы этого показания - Ромка Иванов "с товарищи" - спутали две игры, которые любил покойный царевич.
Сама игра в тычки состоит, по описанию В. И. Даля, в следующем: "втыкают ножик броском в пол" [18]. Очевидно, проводится черта, и определяется, насколько далеко за черту воткнулся нож. Во всяком случае, именно этот способ я помню с детства и он же отвечает описанию игры, данному А. А. Нагим: "через черту ножем". Во время игры у царевича начался очередной припадок эпилепсии.
Множество угличан давало показания о последовавшей затем трагедии. Предоставим слово лишь родственникам царевича и очевидцам его смерти.
Михайло Федорович Нагой, брат царицы: "Царевича зарезали Осип Волохов, да Микита Качалов, да Данило Битяговской".
Григорий Федорович Нагой, другой брат царицы: "И прибежали на двор, ажио царевич Дмитрей лежит, набрушился сам ножем в падучей болезни".
Василиса Волохова: "И бросило его на землю, и тут царевич сам себя ножом поколол в горло, и било его долго, да туто его и не стало".
Товарищи Дмитрия по играм: "Пришла на него болезнь, падучей недуг, и набросился на нож".
Кормилица Арина Тучкова: "Она того не уберегла, как пришла на царевича болезнь черная, а у него в те поры был нож в руках, и он ножем покололся, и она царевича взяла к себе на руки, и у нее царевича на руках и не стало".
Постельница Марья Колобова: "И его бросило о землю, а у него был ножик в руках, и он тем ножиком покололся".
Андрей Александрович Нагой: "Прибежал туто ж к царице, а царевич лежит у кормилицы на руках мертв, а сказывают, что его зарезали".
Дмитрий погиб вскоре после обедни, около полудня, когда весь Углич разошелся по домам. Уехал к себе из дьячьей избы Михайло Битяговский. К нему пришел в гости на обед духовник Григория Нагого священник Богдан. Разошлись "по своим подворьишком" вслед за Битяговским его подчиненные - подьячие и "пищики" - писари из дьячьей избы. Братья Нагие - Михайло и Григорий Федоровичи - "поехали... к себе на подворье обедать". "В те поры сидел у ествы" и Андрей Александрович Нагой. Готовились к обеду и во дворце царевича. Слуги уже "понесли кушанье вверх", заняли свои места в передних сенях истопники, дежурили у поставца с посудой стряпчий Семейка Юдин и подключники, на поварне и в хлебне стряпали повара, хлебники, скатертники, "помясы". Внезапно стоявшие у поставца прислужники увидели бегущего Петрушу Колобова. Он успел сказать им, что царевич накололся на нож. К кормилице, державшей на руках умиравшего (или уже умершего) ребенка, подбежала мать. Все ее горе, весь гнев вылились на мамку - Василису Волохову. Схватив полено, она начала ее бить и "голову ей пробила во многих местех". Здесь-то и были впервые названы имена предполагаемых убийц: царица "почала ей, Василисе, приговаривать, что будто се сын ее Василисин Осип с Михайловым сыном Битяговского да Микита Качалов царевича Дмитрея убили".
Сторож расположенной здесь Спасской церкви Максим Кузнецов зазвонил в набат. Стали сбегаться люди. Одним из первых прибежал пономарь Федор * Огурец. Ему навстречу шел стряпчий Суббота Протопопов и от имени царицы приказал идти "на колокольню и сильно звонити" (вероятно, неумелый сторож звонил слишком тихо). Чтобы Огурец не замешкался, Протопопов подкрепил приказание ударом по шее. На следствии Протопопов показал, что приказ о звоне получил от Михаила Нагого, чтобы мир сходился. С этого времени набат звучит непрерывно. Колокольный звон стал зловещим аккомпанементом, под который разыгрывались дальнейшие трагические события. Недаром о нем говорят все свидетели.
* Или Федот? В разных местах дела его называют по-разному.
Звук набата заставил поторопиться к дворцу, бросив еду и повседневные дела, все население города. Прискакал на коне крепко выпивший Михайло Нагой ("мертв пиян"). Одновременно явились Андрей и Григорий Нагие. Уставшая царица приказала своему брату Григорию продолжать бить Волохову тем же поленом - теперь уже по бокам.
Не ясны обстоятельства, при которых появился во дворе царевичева дворца Михайло Битяговский. Его обеденный гость поп Богдан показал, что после набата Битяговский послал своих людей "проведати в городе", слуги, вернувшись на подворье, "сказали, что царевича Дмитрея не стало", и только тогда Битяговский поехал во дворец. По словам жены Битяговского Авдотьи, ее муж и сын не ждали ничьих сообщений, а, услышав звон, сразу "поскочили на двор, а чаяли пожару". Угличские рассыльщики ** сообщали, что, услышав шум, Битяговский "пришел с сыном в диячью избу. А подал весть Михаилу Битяговскому сытник *** Кирило Моховиков, что царевич болен черным недугом". И Михайло Битяговский пришел на двор к царице, а сын Данило остался в диячьей избе. Сам Моховиков заявлял, что увидел Битяговского тогда, когда он уже подходил к воротам дворца: "...и Михайло Битяговской прискочил к воротам, а вороты были заперты, и он побежал к Михайле к воротом и Михаилу ворота отпер". За это Моховикова "почали бити и забили на смерть, руки и ноги переламали". Конюх Михайло Григорьев утверждал, что Битяговский, "взбежав на двор. да вверьх побежал, а чаял того, что царевич вверху".
** Мелкая судебно-административная должность.
*** Мелкий придворный служитель.
Конечно, такое разногласие в показаниях естественно. Большое эмоциональное напряжение, которое испытывали и участники и свидетели трагедии, мешало точно запомнить последовательность событий. Вдова Битяговского давала показания о том дне, когда потеряла сразу и мужа и сына, да и сама чудом избежала смерти.
Рассыльщикам и конюху мудрено было запомнить, в какой последовательности появлялись сбегавшиеся к дворцу люди. Они могли слышать, как Моховиков сообщает Битяговскому о несчастном случае с царевичем, но не знать, что Битяговскому уже об этом известно. Критики достоверности следственного дела обращали внимание на то, что ворота двора оказались к моменту прихода Битяговского запертыми, если верить показаниям Моховикова, хотя там уже было множество людей. Конечно, Моховиков не мог забыть, за что его жестоко избили. Вероятно, во двор вели не одни ворота, запертыми оказались ближайшие к Битяговскому, их и открыл Моховиков.
Собравшиеся на небольшом пятачке Угличского кремля посадские люди и наемные работники - "казаки" с причаливших к Угличу волжских судов были настроены весьма агрессивно. Многие были, по словам попа Богдана, "с рогатинами, и с топоры, и с саблями". Слова царицы о том, что царевича убили, сделали свое дело. Битяговского в городе не любили: это был представитель московской администрации. Он требовал с жителей "посохи" - тяжелой повинности для подсобных работ в войсках. Михайло Нагой, как представитель угличского князя, не хотел дать посохи, и в это утро Битяговский и Нагой как раз спорили и бранились по этому поводу на глазах у многих. Безусловно, сочувствие жителей в этом споре было на стороне Нагих.
Не случайно приказчик посошных людей Василий Спиридонов был среди тех, кто уговаривал не убивать Битяговского и других "за посмех". Чуть не погиб и присланный в Углич для сбора посохи служилый человек. В своей челобитной * он рассказывает, что на следующий день после смерти Дмитрия к нему явился холоп Михаила Нагого Борис Чегодаев "с грозою и с лаею" и говорил: "Чего-де тебе здесь дожи[да]ть, того ль дей дожидаешься, что и тебя с теми же побитыми людьми вместе положити?" Его же "после того искали и хотели потому ж убити" и обвиняли, что он лазутчик. присланный "проведывать вестей".
* Начато челобитной, а с ним имя челобитчика не сохранились.
Были у Битяговских счеты и с самими Нагими. По словам Протопопова, Нагие были сердиты на Битяговского за то, что он отказал им прибавить денег на содержание "сверх государеву указу". Сам Битяговский перед смертью говорил, что гибнет из-за того, что мешал Нагим добывать ведунов, которые бы "портили" государя. О том же писала в своей челобитной вдова Битяговского: "Муж мой Михайло говорил многижда да и бранился с Михаилом (Нагим. - В.К.) за то, что он добывает безпрестанно ведунов и ведуней к царевичю Дмитрею, а ведун... Ондрюшка Мочалов безпрестанно жил у Михаила да у Григория... и про тебя, государя, и про царицу Михайло Нагой тому ведуну велел ворожити, сколько ты, государь, долговечен и государыня царица".
Битяговский пытался успокоить собравшихся - "учал разговаривать", но это еще более распалило толпу. Дьяк пытался спастись на колокольне, но пономарь Огурец запер вход. Тогда Битяговский и его помощники Данило Третьяков и Никита Качалов заперлись в стоявшей посреди двора "брусяной избе". Но толпа выломала окна и двери, выволокла спрятавшихся людей и убила их.
За ними пришла очередь остальных жертв. Данила Битяговского вытащили из дьячей избы. Осипа Волохова, сына Василисы, схватили в доме Битяговских и привели к царице. По словам Василисы Волоховой, "царица-де миру молыла: то-де убойца царевичю, сын ее Осип Волохов. И сына ее Осипа тут до смерти и убили". Один из холопов Волохова пытался закрыть господина своим телом и был сам убит толпой. Другой холоп Волоховых, увидев свою госпожу с непокрытой головой - а это считалось страшным позором, - надел на нее свою шапку. И его убили. Всего погибло семеро холопов Битяговских, Волоховых и Третьякова. Убили трех посадских людей, которые были дружны с Битяговским - "прихожи к нему". Двое других, оказавшихся вне города во время событий, скитались по лесам до прибытия следственной комиссии.
Был разграблен двор Битяговских. Конюх Данило Григорьев рассказывал: "А на Михайлов двор Битяговского пошли все люди миром, и Михайлов двор разграбили, и питье из погреба в бочках выпив, и бочки колоди, да с Михайлова ж двора взяли Михайловых лошадей девятеро". Там же были схвачены и приведены к царице жена Битяговского Авдотья с двумя дочерьми. В своей челобитной Авдотья пишет, что ее "ободрав, нагу и простоволосу поволокли на двор". По словам архимандрита одного из угличских монастырей Феодорита, жену и дочерей Битяговского тоже хотели убить. Но он вместе с игуменом Савватием "ухватили Михайлову жену Битяговского з дочерьми и отняли их и убити не дали. И посадцкие люди Михайлову жену и дочерей держали у Спаса".
К вечеру все успокоилось, но трупы убитых оставались непогребенными. В церкви лежало тело царевича, и около него "безотступно" находился Андрей Александрович Нагой.
Через три дня, во вторник 18 мая, в Углич прибыл стрелецкий голова Темир Засецкий. Мы не знаем его функций и полномочий, но его приезд заставил Нагих призадуматься над последствиями своих действий. Стало ясно, что вот-вот из Москвы прибудет следственная комиссия. Нужно было подготовить доказательства вины убитых. За дело взялся Михайло Нагой, и взялся крайне наивно и примитивно. По его распоряжению городовой приказчик * Русин Раков собрал оружие, чтобы положить на тела убитых.
* Один из руководителей местной администрации из числа дворян уезда.
Раков сам же и рассказал комиссии о подробностях этого фарса. Прежде всего был найден подходящий нож - такой, каким мог быть убит царевич. Им оказался нагайский нож Григория Нагого. Кроме того, Михайло Нагой поручил своему холопу Борису Чегодаеву положить принадлежавшую Битяговскому железную палицу на его тело. Раков рассказывает об этом: "И послал меня Михайло Нагой на Михайлов двор Битяговсково, да со мною послал спасково соборново попа Степана да посадцких людей... а велел мне искати в Михайлове повалуше палицы железной, и яз нашел и к нему принес". Раков рассказывает и о том, как он ходил по приказу Нагого в торговые ряды покупать ножи, чтобы положить на убитых людей. Опять-таки не один, а в сопровождении посадского человека. Вряд ли это случайно. Михайло Нагой старался связать угличан круговой порукой, замешать в свои дела как можно больше людей. Недаром Нагой шесть раз за один день приводил Ракова к присяге: заставлял целовать крест - "буди ты наш".
Оружие должно было иметь картинный, обагренный кровью вид. И вот к сторожу дьячьей избы пришли Раков и один из холопов Нагого, принесли живую курицу, два ружья, пять ножей и железную палицу, велели зарезать курицу и натерли ее кровью оружие. Помогал им посадский человек Василий Малафеев. И Раков, и сторож, и Василий Малафеев дали подтверждающие показания.
Впрочем, следователями не был выслушан четвертый участник этой операции - холоп Тимоха. Его не было в Угличе. По словам Бориса Чегодаева, Тимоха в понедельник (то есть 17 мая, а курицу резали 18 мая) "збежал неведомо где". Строгие критики следственного дела приводят эти противоречия в качестве одного из доказательств фальсифицированности следствия. Однако удивляет здесь другое: когда Чегодаев сообщал о бегстве Тимохи, его имя еще не упоминалось. Не было речи и о зарезанной курице. Чем же объясняется внезапный интерес Чегодаева к Тимохе? Может быть, его показание было подклеено не на место или положено не туда архивистами XVIII века? Если считать, что Чегодаев сообщил о Тимохе уже после показаний сторожа дьячьей избы, то все станет на свои места. Тимоха бежал, испугавшись ответственности за свои действия, а Чегодаев старался его по дружбе выгородить и доказать, что он скрылся до инкриминируемых ему действий. К тому же до нас не полностью дошли первые показания Ракова, данные им в самом начале следствия. Если и там уже говорилось об эпизоде с курицей, то показания Чегодаева тем более объяснимы.
- СЛЕДСТВИЕ
Вечером 19 мая в Углич приехали следователи. Митрополит Геласий представлял патриарха Иова. Выходцем из старой приказной семьи был дьяк Елизарий Данилович Вылузгин. Традиция связывает с Годуновым окольничего Андрея Петровича Луп-Клешнина. Незнатный человек, всей своей карьерой обязанный Борису, его свойственник (по сведениям некоторых летописцев), он был близок к Годунову [19]. Во многих повестях и сказаниях о смерти Дмитрия Клешнину, как мы увидим в дальнейшем, приписывается ведущая роль в организации убийства царевича. Впрочем, у Клешнина были и другие родственные связи: его дочь вышла замуж за Григория Федоровича Нагого [20]. Назначение Клешнина, вероятно, должно было и подчеркнуть объективность комиссии, и помочь следователям установить контакт с Нагими.
Особое внимание историков всегда привлекала личность главы комиссии - будущего царя князя Василия Ивановича Шуйского. Это был отпрыск одной из самых знатных фамилий Русского государства. С Шуйскими издавна связывали аристократическую оппозицию центральной власти в русском государстве. Дед Василия Ивановича - Андрей Михайлович был одним из руководителей боярского правительства в годы малолетства Ивана Грозного. В 1543 году его убили псари по приказу тринадцатилетнего великого князя, "и от тех мест начали бояре боятися, от государя страх имети и послушание" [21].
В царствование Федора Ивановича при правлении Бориса Годунова Шуйские подверглись опалам и репрессиям. Погиб в тюрьме князь Иван Петрович Шуйский, герой обороны Пскова от войск Стефана Батория, насильственная смерть настигла и родного брата Василия Ивановича - Андрея, отправленного в ссылку за то, что "к бездельникам приставал". В исторической литературе общим местом стало считать В. И. Шуйского противником Годунова. Потому-то всегда вызывало недоумение, почему Борис решился поставить его во главе комиссии, расследовавшей столь щекотливое дело. Одним из объяснений было предположение, что хитрый политик Шуйский понимал, что сейчас он не в состоянии вступить в борьбу с Годуновым. Это было ясно и Годунову, и он послал Шуйского в Углич, чтобы подчеркнуть свою незаинтересованность, беспристрастие.
Исследователь угличского дела В. К. Клейн считал, что Борис Годунов вынужден был смириться с назначением Шуйского, что "общепринятый и установившийся взгляд, будто для производства следствия были назначены лица, избранные только Борисом Годуновым, ни на чем не основан" [22]. Близкую точку зрения высказывает современный ученый Р. Г. Скрыннников: "Назначение Шуйского следует приписать скорее всего инициативе Боярской думы. Что касается Бориса, то он согласился поручить расследование самому опасному из своих противников, чтобы одним ударом прекратить нежелательные для него толки о насильственной смерти царевича" [23] Советский историк И. И. Полосин, посвятивший интересную работу угличскому делу, писал, что "самый беспринципный, самый отъявленный, самый злокозненный враг Годунова, князь Шуйский самим фактом его назначения в следственную комиссию должен был свидетельствовать непричастность Годунова к угличским событиям". Кроме того, "князь Шуйский должен был доказать свою непричастность к делу" [24].
Прежде всего, трудно согласиться с В. К. Клейном и Р. Г. Скрынниковым. Конечно, официальная процедура назначения была обычной - через Боярскую думу. Но не только к началу 90-х годов, но даже и к концу 80-х годов власть Годунова достигла таких размеров, что Боярская дума не могла принять решения, не угодного правителю [25]. Возникает другой вопрос: в самом ли деле Василий Шуйский - главный противник Годунова? В отличие от своего отца князь Иван Андреевич, отец Василия, был одним из самых близких к Ивану Грозному людей и пользовался его неизменным расположением. Не исключено, что он даже был опричником, а один из его сыновей - Дмитрий женился на дочери Малюты Скуратова. На другой дочери был женат Борис Годунов. Таким образом, Годунов и Василий Шуйский оказались в свойстве.
Антигодуновская позиция Ивана Петровича Шуйского не должна была вызвать обязательно такой же позиции Василия, ведь они находились в весьма дальнем родстве - были всего лишь пятиюродными братьями. Не случайно родного брата Василия - князя Андрея обвиняли лишь в соучастии ("к бездельникам пристал"). Сам же Василий был в опале недолго и, вероятно, сумел доказать свою непричастность к заговору. Опытный и трезвый политик Василий Шуйский не имел оснований при жизни Бориса вступать с ним в конфликт. Легенда о вечном противоборстве Василия Шуйского и Годунова - плод позднейшей историографической традиции.
Итак, вечером 19 мая комиссия прибыла в Углич и начала работу. Судя по протоколам допросов, все следствие велось публично. Воспользовавшись теплой майской погодой, следователи допрашивали свидетелей прямо во дворе Угличского кремля. Кругом толпились любопытные, что не всегда оказывалось для них безопасным. Так, во время допроса писаря Степана Корякина тот опознал среди присутствующих конюха Михаилу Григорьева, который "Михаила Битяговского и почал бити". Конюх был немедленно арестован. В протоколе следствия так и сказано: "И туто ж у распросу на дворе..." Там же во дворе происходил допрос постельницы М. Колобовой - ее "розпрашивали перед царицею у церкви". При таком публичном ведении следствия фальсификация показаний, давление на свидетелей были затруднены. Конечно, если сравнить с современными методами следствия, то Шуйский, Клешнин и Вылузгин окажутся далеко не на высоте: свидетели не разобщены, они могут друг с другом сговариваться и слышат показания друг друга не только во время очных ставок. Но ведь дело-то происходило в XVI веке, когда процессуальные нормы были совсем не те, что сегодня. К чести следователей надо сказать, что пытка ни разу не применялась в ходе расследования. Вероятно, это было вызвано в значительной степени тем обстоятельством, что свидетели и обвиняемые стремились подробным рассказом о событиях спастись от ответственности за убийство представителей московской администрации.
Вместе с тем долгое время следственное дело историки не принимали всерьез. В нем и впрямь есть немало такого, что вызывало сомнения в его объективности и настораживало исследователей. Прежде всего, не может внушить никакого доверия личность Василия Шуйского.
Он по очереди придерживался всех трех версий угличского дела. Как глава следственной комиссии он подтвердил, что царевич сам закололся в эпилептическом припадке. Затем он признал Лжедмитрия и заявлял, что не видел в Угличе тела царевича. Наконец, вступив на трон после свержения Лжедмитрия, он торжественно объявил, что царевич "заклан бысть" от "лукаваго раба Бориса Годунова", и установил почитание мощей нового святого. (Интересно, что с поручением выкопать тело царевича и привезти в Москву был отправлен митрополит Ростовский Филарет Романов, человек, близкий к Лжедмитрию.) В связи с этим Н. И. Костомаров писал, что "следственное дело для нас имеет значение не более как одного из трех показаний Шуйского, и притом такого показания, которого сила уничтожена была дважды им же самим" [26].
Подозрения в фальсификации увеличивались в ходе анализа самого дела. Как было принято в XVI-XVII веках на Руси, оно было писано на длинных и узких полосках бумаги (примерно 15х[30-45] см), которые подклеивались одна к другой, составляя вместе длинный свиток. Каждый такой листок назывался сставом, а весь свиток - столбцом, или столпом. Документы, представленные по ходу следствия - например, челобитные, - подклеивались подряд. Было принято, чтобы канцелярский чиновник - дьяк или подьячий - ставил свою подпись на обороте по местам склеек, распределяя ее так, чтобы на каждой склейке была только часть подписи и ни один сстав нельзя было изъять из дела. Такие подписи получили поэтому название "скреп". В следственном деле нет скреп. Дело дошло до нас расклеенным и переплетенным в XVIII веке.
Многие историки полагали, что дело было сфальсифицировано еще участниками следствия, вырезавшими из него показания и вклеивавшими другие. Обращали внимание на то, что сставы имеют неодинаковую длину. Так, например, нижняя склейка листа 3 содержит всего 7 строк, ее длина - около 11 см. К ней приклеена склейка длиной 36 см, содержащая 23 строки. Первые 7 строк содержат показания М. Нагого, на следующей склейке они продолжаются. Почему был избран такой маленький клочок бумаги для записи показаний одного из важнейших свидетелей? Ведь было ясно, что на нем они не могли поместиться. В. К. Клейн доказал, что это результат не работы комиссии Шуйского, а архивистов XVIII века, которые, готовясь переплести дело, стремились сделать листы приблизительно равными друг другу, а для этого отрезали части одних склеек и приклеивали к другим. Они же кое-где спутали порядок листов в деле. Эти выводы В. К. Клейна были основаны на тщательном изучении таких малозначащих на первый взгляд деталей, как следы клея, размеры и расположение пятен сырости и т. п. Нет смысла подробно останавливаться на других внешних особенностях дела. Важно одно: Клейну удалось доказать, что в самом расположении частей дела нет фальсификации.
Возникает также вопрос - что представляет собой дошедшее до нас дело? Черновик? Беловик? От ответа зависит во многом вывод о достоверности показаний. В своем нынешнем виде дело начинается с отрывка показаний Русина Ракова, затем следуют показания разных лиц с вклеенными челобитными. Заканчивается дело сообщением о совместном заседании Освященного собора * и Боярской думы, челобитной Русина Ракова, поданной митрополиту Геласию, царским приказанием боярам "вершить дело" и инструкцией о доставке в Москву некоторых из свидетелей. Ясно, что в деле многого не хватает и в начале и в конце: нет распоряжения о формировании комиссии, нет допросов лиц, вызванных в Москву, отсутствует, наконец, приговор по делу.
* Собрание высшего духовенства.
В. К. Клейн, проанализировав почерки, которыми писано дело, пришел к выводу, что "рассматриваемый следственный акт есть деловой экземпляр, изготовленный и редактированный в Угличе" [27], то есть черновик. Это предположение можно принять с той поправкой, что ни не дошедшая до нас начальная часть, ни то, что сохранилось из заключительной части, не могли писаться в Угличе. Черновой характер дела доказывается наличием большого количества подписей свидетелей при их показаниях. Вряд ли им давали бы подписываться вторично при переписке набело. Этот черновой характер дошедшего до нас документа объясняет и отсутствие скреп, не нужных на черновике.
Итак, исследование показало, что в расположении материала в деле нет фальсификации. Но это не избавляет следственное дело от многих других подозрений. Всегда вызывало недоумение начало дела.
На первом листе помещен небольшой отрывок допроса городового приказчика Ракова, второй же лист производит как будто впечатление начала дела:
"И того ж дни майя в 19 день в вечеру приехали на Углечь князь Василей и Ондрей и Елизарей и [с]прашивали Михаила Нагого, которым обычаем царевича Дмитрея не стало, и что его боле[з]нь была и для он чево велел убити Михаила Битяговского и Михайлова сына Данила и Микиту Качалова и Данила Третьякова и Осипа Волохова и посадцких людей и Михайловых людей Битяговского и Осиновых Волохова и для он че[го] велел во фторник сбирати ножи и пищали и палицы железные и класти на у[би]тых людей... и почем[у] ... [прика]щика Русина Ракова приводил к целованью, что ему стояти с ним за один, и против был[о] ково им стояти?"
Было естественным, что по приезде в Углич комиссия допросила первым Михаила Нагого - одного из главных действующих лиц разыгравшейся трагедии. Но почему сразу по приезде в Углич комиссия уже знала не только о том, что царевич умер от болезни, а не убит, не только об убийстве Битяговского и других, но и о том, как собиралось оружие, чтобы положить на убитых, и о том, что Ракова приводили к присяге? "В самом начале акта мы уже замечаем подозрительную неточность: о Русине Ракове ничего не сказано, и прямо делается допрос Нагому на основании показаний Русина Ракова" [28] - писал С. М. Соловьев. В. К. Клейн предположил, что Раков по должности городового приказчика встретил комиссию еще по дороге. Вероятно, он прав, и допрос Ракова, отрывок которого сохранился, происходил еще до приезда комиссии в Углич. На это указывают и другие детали. Например, члены комиссии названы без фамилий и отчеств, только по именам: так поступали при повторных упоминаниях одних и тех же лиц в официальных документах. Формула "того ж дни" также говорит о том, что какие-то записи в этот день уже делались.
В. К. Клейн полагал что при этой встрече Раков подал комиссии челобитную, и считал, что ему принадлежит челобитная, помещенная на листах 9-10 подлинного дела. Как показал С. Б. Веселовский, это не так [29]. Сохранилась челобитная Ракова, поданная им по окончании следствия. Из сравнения видно, что эти тексты писаны разными лицами. Раков пишет, что, когда он пришел на место происшествия, уже были убиты Битяговские, Третьяков. Качалов и Волохов, автор же анонимной челобитной подробно описывает убийство Битяговского. Ракова Нагие привели к присяге в тот же день, к анониму же на следующий день приходил с угрозами холоп Михаила Нагого. Наконец, аноним был прислан для сбора посохи, Ракова же ниоткуда в Углич прислать не могли, так как городовые приказчики избирались из местных дворян, и Раковы были действительно коренным угличским родом. Впрочем, эта ошибка В. К. Клейна не меняет существа дела: Раков, конечно, был допрошен комиссией до ее приезда в Углич, причем, вероятно, в тот же день, когда она въезжала в город.
Вызывало недоумение у исследователей отсутствие в деле показаний многих заведомых участников событий [30]. Однако они могли просто не дойти до нас, содержаться в утраченных частях дела. Удивляются отсутствию в деле показаний царицы Марьи Нагой - главного действующего лица драмы. Только она одна могла рассказать, почему она обвинила в убийстве Данила Битяговского, Никиту Качалова и Осипа Волохова, только ее показания могли если не оправдать самосуд, то, по крайней мере, доказать виновность его жертв. Вероятно, однако, показаний царицы Марьи и не могло быть в деле: ее высокий сан не давал возможности ни боярам, ни даже патриарху подвергнуть ее допросу [31].
- ЛЕГЕНДА О МУЧЕНИКЕ
Не будем торопиться с выводами. Оставим на время следственное дело и выслушаем по древнему правилу другую сторону: те источники, которые говорят, что царевич Дмитрий был убит по приказу Бориса Годунова.
Впервые эта версия (дополненная чудесным спасением) появилась еще в стане Лжедмитрия: ведь Нагие обвиняли в убийстве не Годунова, а Битяговского и других. Впрочем, ни Лжедмитрий, ни его окружение, как мы видели, не знали действительных обстоятельств смерти царевича. Второй раз эта версия всплыла через пятнадцать лет после угличских событий, даже в те же самые дни. 17 мая 1606 года был свергнут и убит Лжедмитрий. 19 мая царем "выкликнули" Василия Шуйского. Новое правительство оказалось до некоторой степени связано тем, что новый царь в свое время возглавлял комиссию, установившую смерть царевича от несчастного случая. Вероятно, поэтому в грамоте бояр, извещавших об избрании Шуйского царем, глухо говорилось, что царица-инокиня Марфа Федоровна и Михайло Нагой с братьями "подлинно сказывали", что царевич Дмитрий "умре подлинно и погребен на Угличе".
Сам Шуйский в своей грамоте вовсе умалчивал о смерти царевича [32]. Однако слухи о новом спасении "царя Дмитрия" снова возникали в разных концах страны. Оказалось необходимым не только разоблачить обман Лжедмитрия, но и предупредить появление новых самозванцев. Московское правительство должно было считаться с возможностью утверждений о том, что в Москве и впрямь убит Гришка Отрепьев, но подлинный Дмитрий жив. Нашли лучший из возможных выходов: царевича объявили святым. Сомнение в смерти царевича было бы сомнением в его святости, сомнение в святости - сомнением в самом вероучении. Верно писал об этом С. Ф. Платонов: "Мог ли рискнуть русский человек XVII века усомниться в том, что говорило «житие» царевича и что он слышал в чине службы новому чудотворцу?" И продолжает: "...русские люди XVII века, если и понимали, что царь Василий играл святыней, все же не решались в своих произведениях ни отвергать его свидетельств, ни даже громко их обсуждать" [33].
2 июня 1591 года Освященный собор и Боярская дума решили, что "царевичю Дмитрею смерть учинилась божьим судом". Ровно через пятнадцать лет, 2 июня 1606 года в Москву торжественно въезжали мощи нового чудотворца святого великомученика Дмитрия-царевича. Толпы народа запрудили улицы Москвы. Это были дни торжеств. Накануне новый царь венчался на престол и громогласно произнес (вещь неслыханная до того на Руси!), что целует крест всей земле, клянется не карать никого без суда, не мстить родственникам опальных, не отнимать у них имущества. Навстречу мощам выехал сам царь в сопровождении многочисленного духовенства и бояр. Множество людей хлынуло к Архангельскому собору: там теперь лежал новый святой, появилась та гробница, с которой мы и начали свое повествование. Конрад Буссов, скептически относившийся к этому церковно-политическому маскараду (он даже утверждает, что по приказу Шуйского был убит девятилетний мальчик и положен в гроб, чтобы труп казался нетленным), сообщает, что "Шуйский подкупил несколько здоровых людей, которые должны были прикинуться больными". Чудеса исцеления состоялись: всенародно прозрел слепой и пошел "расслабленный".
Описание торжеств "пронесения мощей" было разослано по всей стране. Особенно подчеркивалась их "нетленность" - важный признак "святости":
"Мощи его целыя, ничем не вредимыя, только в некоторых местех немножко тело вредилося, и на лице плоть, и на голове волосы целы и крепкие, и ожерелье жемчужное с пуговицами все цело, и в руце левой полотенце тафтяное, шитое золотом и серебром, целое, кафтан весь таков же... и сапожки на нем целы, только подошвы на ногах попоролися, а на персех (на груди. - В.К.) орешки положенные, на персех горсть. Сказывают, что коли он играл, тешился орехами и ел, и в ту пору его убили, и орехи кровью полились, и того для тые орехи ему в горсти положили, и тые орехи целы" [34]
Это описание "святых и честных мощей" не раз повторялось затем в различных документах, рассылавшихся по стране: и в разных вариантах грамот Василия Шуйского, и в той грамоте Марфы-Марии Нагой, в которой она просила прощения у своего покойного сына святого Дмитрия и у народа за то, что признала Лжедмитрия сыном и "терпела" ему. Об орешках упоминает и присутствовавший при погребении царевича в Архангельском соборе дьяк Иван Тимофеев. Он якобы видел их, когда несли гроб.
В. К. Клейн не без основания подвергает сомнению его показания. Дело в том, что Иван Тимофеев видел мощи лишь мельком, не смог рассмотреть, что было у царевича на голове, но вот "орехи кила бывшая, обагрившаяся во страдании честною кровию его" рассмотреть сумел. "Такого рода прозорливость не совсем обычна для простых смертных", - язвительно замечает В. К. Клейн по поводу того. что Тимофеев "ухитрился заметить кровь (здесь и далее курсив Клейна. - В.К.) на орешках, пролежавших в руке царевича, в могиле в течение пятнадцати лет" [35] Эти орешки мы еще встретим в сказаниях о смерти царевича.
Незадолго до войны была опубликована работа А. А. Рудакова, который проследил, как постепенно обрастала подробностями версия об убийстве царевича Дмитрия - от сказания к сказанию, от года к году [36].
В свое время С.Ф. Платонов выделил так называемую "Повесть 1606 года" (название условное) в составе "Иного сказания" - произведения, возникшего в середине XVII века. С.Ф. Платонов подробно исследовал происхождение и политическую тенденцию автора "Повести". Он пришел к выводу, что ее автор был монахом Троице-Сергиева монастыря, рьяным сторонником правительства Шуйского. "Мы... должны... признать «Повесть» пристрастным голосом одной политической партии, полным отражением взглядов, симпатий и антипатий царя Шуйского с его правительством" [37], - писал С.Ф. Платонов. Таким образом, принимая или отвергая показания "Повести 1606 года", всегда нужно иметь в виду, насколько выгодно было правительству Шуйского то или иное освещение фактов.
Вот каким образом излагает "Повесть" обстоятельства смерти царевича. "Лукавый раб" Борис Годунов думает, как истребить царевича, чтобы самому занять престол после смерти Федора. Он пытается сначала отравить его, но яд не действует: царевич принимает его с радостью, зная, "яко ничто же успеет сила вражия противу силы божия". Тогда Годунов посылает в Углич "злосоветников своих и рачителей" Михаилу Битяговского (так!) и его племянника Никиту Качалова, чтобы царевича "яко агнца заклати". Эти "немилостивии юноши" напали на него, "яко волци немилостивии", когда святой отрок "по детскому обычаю" пошел "на играние". Там "един же от них извлек нож, напрасно (то есть внезапно. - В.К.) удари святаго по выи его и пререза гортань ему". Убийцы же были убиты жителями [38].
Многое вызывает удивление в этом сказании. Можно, конечно, посчитать всего лишь риторической фигурой рассказ о том, как царевич с радостью принимал яд. Н.М. Карамзин попытался дать рационалистическое объяснение этому чуду, предположив, что рука мучающегося угрызениями совести отравителя "бережно сыпала отраву, уменьшая меру ее" [39] Верно высмеял это предположение М.П. Погодин: "Существуют ли такие злодеи, которые согласны дать скрупул мышьяку, а не драхму?" [40] - спрашивает он.
Гораздо больше настораживает другое. Автор "Повести" не знает твердо даже тех имен, которые как имена убийц царевича назвали в Угличе Нагие. Они обвиняли сына Михаила Битяговского Данила, а автор "Повести" даже не знает о нем. Не упоминается в "Повести" и Осип Волохов. Как отмечал С.Ф. Платонов, "Повесть" писалась тогда, когда были еще живы многие участники событий, и прежде всего сами Нагие. И тем не менее автор путает подробности и не знает многих из них. Так, ему даже неизвестно, кто именно нанес роковой удар царевичу. Спутал автор и кто приезжал в Углич - он называет патриарха Иова вместо митрополита Геласия.
Все это лишает историка права принимать на веру сведения, извлеченные из этого памятника. Однако именно эта "Повесть" послужила источником для ряда сказаний, посвященных тому же сюжету. Простой переделкой-сокращением "Иного сказания" и соответственно "Повести 1606 года" является "Повесть, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов". Заимствован из "Повести" рассказ об убийстве царевича в "Повести", приписываемой то князю Семену Ивановичу Шаховскому, то князю Ивану Михайловичу Катыреву-Ростовскому. Одна из редакций Жития царевича Дмитрия - так называемая Тулуповская - также основана на "Повести 1606 года", и рассказ о смерти Дмитрия в Житии и "Повести" совпадают, местами даже текстуально.
Подробный рассказ о смерти царевича сохранился в "Повести о убиении благовернаго царевича князя Димитрия Ивановича всеа Руси Углецкаго" [41] Автор пишет о том, как утром царевич плохо себя чувствовал, затем был в церкви, вернувшись домой, переоделся, пообедал и пошел гулять с кормилицей. В седьмом часу дня *, когда царевич находился возле Цареконстантиновской церкви, Никита Качалов и Данила Битяговский "по повелению изменника злодея Бориса Годунова" напали на царевича.
* Древнерусский счет времени отличатся от современного. По следственному делу царевич был убит в шестом часу.
Сначала они "кормилицу его палицею ушибли", и она упала, потеряв сознание, "а ему государю царевичю в ту пору, киняся, перерезали горло ножем", сами же убийцы "вскричали великим гласом". На этот шум выбежала царица, взяла на руки тело сына, убийцы же стояли у тела, не в силах сдвинуться с места, - "обмертвели, аки пси безгласни". Царица приказала звонить в колокол, пришел народ, которому мать убитого младенца говорила, "чтобы те окаянные злодеи, душегубцы царскому корени, живы не были". Убийц побили каменьями, а царица в течение восьми дней оставалась "неисходимо" у тела сына. В среду 19 мая для погребения тела прибыли митрополит Крутицкий (имя его автор не называет), В.И. Шуйский, А.П. Клешнин и Е.Д. Вылузгин, осмотрели тело царевича и "отъехали прочь за Волгу", а митрополит похоронил царевича. Родственники Дмитрия были отправлены в ссылку, а царицу заточили "в непроходимое место на Вычегду, да тамо ее и постригли, а в заточении была 14 лет".
Издавший эту повесть А. Ф. Бычков обратил внимание на большое количество мелких бытовых деталей, не встречающихся в других произведениях, посвященных смерти царевича, и не противоречащих данным следственного дела. На этом основании он пришел к выводу, что перед нами произведение, составленное "современником, бывшим близким ко двору царевича или имевшим знакомство с лицами, к нему принадлежавшими". Он подчеркивал, что "в целой повести не встречается ни одной черты, которая давала бы возможность заподозрить ее достоверность". Однако С. Ф. Платонов, подвергший "Повесть" детальному изучению, не согласился с мнением А. Ф. Бычкова. Он подметил, что "Повесть" составлена, во всяком случае, не раньше 1606 года, так как автор говорит, что Мария Нагая провела в заключении четырнадцать лет. Эта фраза не могла быть написана раньше 1605 года, но в 1605 году и в первой половине 1606 года, до свержения Лжедмитрия, Нагие официально отвергали версию об убийстве царевича. Следовательно, в это время этот рассказ не мог выйти из среды близких к ним людей.
Есть в "Повести" и другие несообразности. Так, например, здесь, как и в большинстве аналогичных произведений, не упоминается в числе убийц Осип Волохов, хотя его и называла убийцей царица Марья 15 мая 1591 года. Удивляет контраст между нагромождением малозначащих бытовых деталей, долженствующих придать внешнюю убедительность повествованию, и крайней сухостью и краткостью описания самого убийства. С. Ф. Платонов заметил также, что "Повесть" не могла быть написана человеком, жившим в Угличе. Углич расположен на правом берегу Волги, чтобы попасть оттуда в Москву, не надо переезжать через реку. У автора же отбывшая в Москву комиссия уехала "прочь за Волгу".
К тому же "Повесть" дошла до нас в единственном и позднем списке конца XVII века - следовательно, ее не считали достаточным авторитетом и современники. С. Ф. Платонов приходил к обоснованному выводу, что "нельзя признавать в изучаемой "Повести" памятника, современного событию и написанного компетентным лицом" [42]
Этим исчерпываются памятники, сообщающие о смерти царевича и созданные до окончания бурного Смутного времени. В годы царствования первых Романовых, особенно при Михайло Федоровиче, было написано немало исторических произведений, и автор каждого из них говорил и об убийстве царевича. Именно об убийстве: ведь канонизация Дмитрия, проведенная правительством Шуйского да к тому же при участии Филарета Никитича - отца царя Михаила, лишила ортодоксально верующего русского человека возможности иначе трактовать это событие. Тем показательнее, что один из авторов, писавших о Смутном времени, вовсе умолчал о смерти Дмитрия. Речь идет о князе Иване Андреевиче Хворостинине - авторе большого сочинения под пышным названием "Словеса дней и царей и святителей московских, еже есть в России".
Это был весьма своеобразный человек. Сын опричника, Иван Андреевич начал службу при Лжедмитрии I и стал одним из его приближенных. Побывав за это на "смирении" в славящемся строгостью Иосифо-Волоколамском монастыре, Хворостинин, казалось, превратился в обычного московского воеводу и даже получал в награду шубы с царского плеча и золотые. Но вскоре стали замечать за ним нехорошее: во время поста он вместо того, чтобы молиться, "пил без просыпу", отрицал не только посты, но и молитвы и даже воскресение мертвых. При обыске у него нашли латинские книги, доносили, что он не прочь отъехать за рубеж и в письмах жалуется, что в Москве "все люд глупой, жити... не с кем". Это привело к новому заточению - на этот раз в далекий северный Кирилло-Белозерский монастырь. Заключение в одиночной келье в суровом краю охладило пыл князя, и раскаявшимся и прощенным ортодоксом он через два года вернулся в свои вотчины и даже получил почетное право "видеть... государские очи", то есть бывать при дворе. Через год он умер, приняв перед смертью монашество. Подробно описав действия Лжедмитрия, Хворостинин тем не менее умалчивает о том, что же произошло с настоящим Дмитрием. Не означает ли это, что он, один из наиболее осведомленных людей своего времени, не верил в убийство царевича?
Но другие авторы о нем повествуют. Келарь * крупнейшего на Руси Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын о своем "Сказании" подробно описал события с конца XVI по начало XVII века. Первые шесть глав сохранились в двух редакциях, из которых первоначальная была написана, возможно, не самим Авраамием, около 1610-1612 годов. Текст о смерти царевича Дмитрия сходен в обеих редакциях. Их авторы кратко говорят, что Дмитрия "отсылают и нехотяща (против его воли. - В.К.) в вечный покой в лето 7099-е" и возлагают вину за это преступление на Годунова [43]
* Второе лицо после настоятеля, руководитель всей хозяйственной жизни монастыря.
Мы уже встречались с другим современником - дьяком Иваном Тимофеевым (или точнее - Иваном Тимофеевичем Семеновым). Его труд - "Временник по седмой тысящи от сотворения света во осмой в первые лета" - охватывает промежуток времени с опричнины до 1619 года и, следовательно, написан не ранее этого времени. Тимофеев не дает описания убийства царевича, а просто сообщает об этом факте, рассказывая, что Борис Годунов ("злый раб") умыслил лишить царевича "земного царства", подобрал сообщника - "зело злых злейшаго Луппа некоего" (речь идет об А. П. Клешнине) и что царевич был убит. Расследователи (имен которых Тимофеев, однако, не называет), боясь Годунова, заявили, что царевич закололся сам, играя [44]
Ясно, что такие сообщения, как сведения Палицына и Тимофеева, могут иметь значение только как доказательство убежденности общественного мнения в убийстве царевича, но не самого факта убийства. Если автор "Повести 1606 года" путает подробности, то ни Палицын, не Тимофеев их просто не знают.
В 1617 году был составлен официозный труд по всемирной истории - "Хронограф". Это была уже вторая его редакция. Начиная с рассказа о ветхозаветных событиях, "Хронограф" излагал историю Вавилона, Рима, Византии и основное внимание уделял России и славянским странам. Он содержал, таким образом, официальную романовскую концепцию событий конца XVI - начала XVII века. Выражения "Хронографа" отличаются лаконичностью и напоминают, скорее, декларации, автор которых печется о дипломатической отточенности формулировок и даже порой о намеренной двусмысленности больше, чем о ясности и красочности. Вот как звучит в "Хронографе" рассказ о смерти царевича:
"Убиен бысть благоверный царевичь князь Дмитрей Ивановичь, иже на Угличе, от Микитки Качалова да от Данилка Битяговскаго, мнози же глаголаху (то есть многие говорили. - В.К.), яко еже убиен благоверный царевич князь Дмитрей Ивановичь Углецкой повелением московскаго болярина Бориса Годунова" [45]
Здесь сравнительно точно названы имена лиц, обвинявшихся в убийстве (кроме Волохова), в противоречии с официальным житием царевича и церковной службой участие Бориса Годунова в убийстве представлено лишь как предположение, слух, за который автор не берет на себя ответственности. Дело здесь не в том, что хронографист не доверял сведениям об участии Годунова в убийстве, а в концепции автора. Точно так же. как всего лишь о предположении, рассказал автор "Хронографа" об убийстве Иваном Грозным своего сына. Концепция "Хронографа" - божественность царской власти. Кроме "расстриги" - Лжедмитрия, не было незаконных царей. На соседних листах мы читаем строки, проникнутые почтением к "государю царю и великому князю Борису Федоровичу всеа Руси". Вместе с тем у Романовых не было оснований испытывать теплые чувства к Годунову, связывало и участие Филарета в канонизации Дмитрия. Эта двойственность наложила отпечаток и на трактовку смерти царевича в "Хронографе". Но отсутствие подробностей, заданность и декларативность изложения лишают эти известия "Хронографа" значения источника.
Весьма подробно изложена версия об убийстве Дмитрия в так называемом "Новом летописце" - историческом сочинении, написанном уже в 30-х годах XVII века [46]. По версии "Нового летописца", Борис Годунов решил "извести" царевича Дмитрия, чтобы самому сесть на престол. Для этого он "посла на Углич, чтобы сего праведнаго окормити зелием", но яд не действовал, так как "бог... храняй праведников".
Тогда Борис созвал своих родственников Годуновых и советников - "Андрея Клешнина с товарыщи". Один из родственников - Григорий Васильевич Годунов не пожелал принять участие в таком злом деле; его после этого не призывали на совещания и чуждались.
Было решено отправить для убийства царевича одного из двоих - Никифора Чупчугова или Владимира Загряжского. Но оба отказались, после чего Борис "зело прискорбен бысть".
Тогда Клешнин стал искать нужного человека среди своих друзей - и нашел Михаилу Битяговского. Годунов, щедро одарив его, отправил в Углич вместе с сыном Данилкой и Микиткой Качаловым и "велел им ведати на Углече все". Царица Марья, поняв их злой умысел, стала беречь сына и "никуды от себя ис хором не пущаще". Тогда "окаяннии" сговорились с мамкой царевича Марьей (так!) Волоховой (подлинную мамку звали, как мы видели, Василисой) и ее сыном Данилкою (сына Волоховой звали Осипом). Пока царица была у себя в хоромах, мамка взяла ребенка гулять во двор. Кормилица не хотела его пускать, но мамка "едва не силою веде его на заколение".
Убийцы подошли к крыльцу, Данила Волохов взял царевича за руку и спросил: "У тебя новое ожерелейце, государь?" - "Нет, это старое ожерелье", - отвечал Дмитрий, поднимая шею, чтобы показать ожерелье. Тогда убийцы укололи царевича ножом в шею, но не повредили гортани. Кормилица закрыла царевича своим телом и закричала. Данилко Волохов бросил нож и кинулся бежать, а Данила Битяговский и Никита Качалов стали бить кормилицу, отняли у нее царевича и "заклаше, аки агньца нескверна".
Выскочила кричащая мать. Свершилось чудо: мертвое тело трепетало, как голубь, целый час. На государеве дворе в это время было пусто, так как было полуденное время и все разошлись обедать, только один пономарь заперся на колокольне и трезвонил. Убийцы пытались убить и его, но не смогли попасть на колокольню. Тем временем сбежались жители, которые и побили каменьем Михаила Битяговского с женою и "их советники". Качалов же и Данилка (Волохов или Битяговский?) убежали на 12 верст от Углича, но кровь праведного не пустила их, они вернулись и тоже были побиты каменьями. Всего же было убито 12 человек.
Гонца, отправленного с печальным известием к царю, перехватил Борис, приказавший "грамоты переписати". В них теперь было сказано, что царевич "сам себя зарезал небрежением Нагих". Царь Федор долго плакал о смерти брата и распорядился послать в Углич Шуйского и Клешнина. Шуйский, в свою очередь поплакав у тела царевича, "начат роспрашивати града Углеча всех людей, како небрежением Нагих [царевич] заклася сам". Те единогласно отвечали, что он убит "от раб своих... по повелению Бориса Годунова сь ево советники". Шуйский, однако, скрыл это от царя и поддержал версию о самоубийстве.
В "Новом летописце" значительно больше подробностей, чем в "Повести 1606 года", но, к сожалению, и автор этого сообщения не всегда вызывает доверие. К тому же удивляет появление новых подробностей в произведении, отдаленном от события четырьмя десятками лет. Давно отмечалось, что трудно представить себе, откуда автору "Нового летописца" стали известны подробности сугубо тайных совещаний Годунова с его советниками.
Весьма маловероятно, что Годунов мог решиться довериться тем людям, в согласии которых исполнить его любую волю он не был уверен. Чепчугов и Загряжский отказываются стать убийцами, но им известна тайна. И их не приказывают келейно уморить из страха разоблачения? Ведь сделать это было бы куда легче, чем убить царевича на глазах у его дворни! Сравнительно недавно В.И. Корецкий и А.Л. Станиславский обнаружили интересные данные о том, что Чепчугов и Загряжский подверглись опале в годы правления Бориса Годунова, и пришли на этом основании к выводу, что версия "Нового летописца" заслуживает доверия [47].
Однако автору "Нового летописца" не хуже, чем современным историкам, было известно об опале Чепчугова и Загряжского. Он мог воспользоваться этими сведениями, чтобы сконструировать сюжетную линию, соответствующую его замыслу: не так-то легко было найти цареубийцу среди русского дворянства. Да и сами Чепчугов и Загряжский могли рассказывать окружающим, что пострадали "за правду", за отказ участвовать в кровавом преступлении. Думается, данные об опале увеличивают недоверие к версии "Нового летописца": во-первых, становится ясным, откуда автор взял эти имена. Во-вторых, подвергнуть опале и тем самым озлобить, но оставить в живых, разве не самый опасный путь?
Возможно ли, чтобы человек, не остановившийся перед убийством знатнейшего аристократа и знаменитого героя войны князя И.П. Шуйского, постеснялся убрать и заставить навеки замолчать свидетелей своего самого страшного злодеяния? К тому же, автор "Нового летописца" нетвердо знает, что происходило в Угличе в 1591 году. Как мы видели, он неправильно называет имена Волоховой и ее сына, не знает, что Михаилу Битяговского не обвиняли в непосредственном совершении убийства и сами Нагие. Иногда автор не замечал и внутренних противоречий в своем рассказе. Так, сообщив в одной из первых глав, что Битяговский и Качалов были отправлены в Углич одновременно с Нагими, он затем рассказывает, как Борис посылает Битяговского в Углич тогда, когда там уже давно живет царевич. Таким образом, и "Новый летописец" не может иметь силы источника для выяснения обстоятельств смерти царевича Дмитрия: он всего лишь отражение смутных слухов и легенд об этом событии.
В середине XVII века священник Иоанн Милютин составил свои минеи *, в которые вошло и Житие царевича Дмитрия в несколько иной, чем в предыдущих памятниках, редакции. Возможно, Милютин внес в свои минеи ранее написанное другим лицом произведение, но. во всяком случае, Житие составлено не раньше смерти патриарха Филарета Никитича (1633), так как о нем говорится уже как о бывшем патриархе.
* Минеями называли сборники житий и нравственно-богословских сочинений, расположенных но дням каждого месяца.
Житие милютинской редакции во многом основано на "Повести 1606 года" и "Новом летописце", но здесь мы встречаемся и с новыми деталями, плохо согласующимися с тем, что писали более ранние авторы. Если в "Новом летописце" Битяговский и Качалов появлялись на сцене только после провала попыток отравления царевича, то здесь они участвуют и в самом отравлении. Волохову автор милютинской редакции называет ее настоящим именем, но сын ее остается в тени. О Волоховой сообщаются сведения, которые мы не встречали раньше: она была "вящшая... болярыня" царевича и жила всегда при нем. Если в "Новом летописце" кормилица не пускала царевича гулять, предчувствуя его смерть, то здесь она преспокойно подчиняется приказу Волоховой и выводит его во двор [48]
"Сказание о царстве государя царя и великаго князя Феодора Иоанновича всея России, и о убиении брата его царевича Димитрия Иоанновича Углицкого, и о царствии злопрелестника и святоубийца Бориса Годунова..." принадлежит к числу позднейших произведений о смерти царевича Дмитрия. В нем ощущается влияние почти всех повествований об этом событии, составленных ранее. Но есть здесь и отличия. Если в "Повести 1606 года" совсем не упоминалась кормилица царевича, а в "Повести об убиении" и в "Новом летописце" она активно противодействовала убийцам, то в "Сказании о царстве" она уже получает имя - Дарья Митякова (подлинную кормилицу звали Ариной Тучковой) и выступает как пособница убийц. Битяговский с сыном Данилой и племянником Никитой Качаловым и Василиса Волохова "прельстиша ее (Митякову. - В.К.) лукавыми своими словами", и она по их приказанию повела царевича гулять. При этом Дарья дала "ему на потешение орехов". Убийцы спрятались под лестницей, и, когда царевич спускался, Михайло Битяговский из-под лестницы ухватил его за ноги, а Никита Качалов вынул нож и зарезал. Более подробно рассказывается здесь и о Василисе Волоховой: она, оказывается, была "от малого роду", служила постельницей, царица Марья "возлюбила ее", пожаловала в боярыни и "жаловала ее паче всех иных боярынь".
Явно ощущаются фольклорные мотивы в рассказе о гибели убийц. Они "все побегоша, а не ведают, где им схоронитца", но их перехватали, привели во двор кремля, и они сознались, что "послушали прелестника и богоотступника Бориса Годунова", после чего и были побиты каменьями. Тела их бросили на съедение собакам, но "и псы телес их окаянных не ели". От тел исходил такой смрад, что их вынесли за пять верст от города "на съедение зверем земным и на растерзание птицам небесным", но и те не ели "скверных телес их". Безрезультатными оказались попытки и закопать их - земля извергала тела убийц, так они и "згниша и без вести пропадоша, аки прах".
Рассказ о следствии мы находим здесь также в новой редакции. Борис устроил "заставы крепкие", чтобы никто не добрался из Углича в Москву, и с печалью поведал царю, что его брат "играючи, зарезал сам себя ножом". Затем Борис послал в Углич своих людей, которым велел расспрашивать угличан о смерти царевича. Угличане "стали сказывать истинно, как было подлинно", и "тех всех истинносказателей" разослали по тюрьмам и дальним городам. Затем царь отправил в Углич расследовать дело В.И. Шуйского, но Борис послал с ним "единомысленника своего Андрея Клешнина". Посланные застали в городе плачущих мать и жителей. На вопрос Клешнина граждане "сказали всю правду", но тот "учал рыкати на граждан, аки лев", и запуганные жители заявили, что они "истинного дела не ведают: тут не были". Клешнин приказал записать их показания так, как хотел, и насильно заставил под ними подписаться. "А кои не хотят руки прикладывати, и тех разослал по далным городам окованных и велел в темницы сажать, а иных повелел смертию казнить. И вей сущие во граде убояшася таковаго страха и смерти и вей приложиша руки". Шуйский же только рыдал и молчал, "страха ради Борисова". В Москве Шуйский тайно сообщил царю правду, но тот "только на господа печаль свою возложил", не желая воздавать Борису "зла за зло" [49].
Мы видим, что это произведение, появившееся, несомненно, позднее и "Нового летописца", и Жития милютинской редакции, то есть не ранее второй половины XVII века, неожиданно украсилось такими подробностями, которые почему-то не были известны авторам, писавшим значительно раньше, и были бы весьма уместны в их повествованиях. Все это, наряду с явно вымышленными сведениями (например, о кормилице Дарье Митяковой), заставляет крайне скептически относиться к качеству информации о смерти царевича Дмитрия, содержащейся в этом сказании.
Уже упоминавшийся выше пискаревский летописец, близкий к Шуйским, кратко излагает легенду об убийстве царевича с позиции Шуйских, называя убийцами Данилу Битяговского и Никиту Качалова и не упоминая, как и остальные, Осипа Волохова. Описание одежды Дмитрия и вещей при нем явно повторяет грамоты Шуйского о мощах царевича.
Остановимся на записках тех из иностранцев, которые поддерживают версию об убийстве. Конрад Буссов, о котором уже шла речь выше, говорит об этом следующее:
"В большой тайне Годунов прельстил деньгами двух русских людей, и они перерезали царевичу горло в Угличском кремле на месте, отведенном для игр... А чтобы не открылось, по чьей указке совершено это убийство, правитель приказал и тех убийц, которых он прельстил ранее большими деньгами, прикончить в пути, когда они возвращались в Москву. Так царь Федор Иванович и не смог узнать, кто был убийцей его брата, хотя он многих дворцовых сторожей и дядек царевича приказал посадить на кол, обезглавить, утопить в реке или подвергнуть такой пытке, что многие безвинно потеряли здоровье и жизнь" [50]
Как видно, автор основывается одновременно на официальной русской версии, которую он воспринял во время пребывания в России в годы царствования Шуйского (в 1591 году Буссов не был в России), и на слухах, притом не очень достоверных: таков рассказ о том. что убийцы царевича были умерщвлены по приказу Годунова, а не восставшими угличанами.
Голландский купец Исаак Масса жил в России в 1601-1610 годах, приезжал сюда и позднее. Он хорошо изучил русский язык: родители прислали его в Московию подростком 14-15 лет для изучения торгового дела. В своих записках Масса описал и смерть царевича. По его словам, при Дмитрии неотлучно состоял Михаил Михайлович Битяговский (русские источники не знают его отчества), которого "царевич считал своим лучшим другом". По приказу Бориса Годунова Битяговский поручил своему сыну и Никите Качалову убить царевича. Однажды, когда Дмитрий играл с ребятами в орехи, Битяговский разослал всех слуг царевича, сам ушел в приказ, а Данило Битяговский и Качалов перерезали горло царевичу и ускакали [51].
Здесь, как и у Буссова, явно проглядывает сочетание официальной версии смерти Дмитрия (ее Масса, конечно, хорошо знал) и слухов об этом событии. Следовательно, и этот рассказ не самостоятелен и не может служить достоверным источником для решения вопроса о судьбе Дмитрия.
Итак, повествовательные источники, сообщающие об убийстве царевича, основаны в той или иной степени на официальной версии 1606 года, появившейся в определенной политической обстановке и закрепленной культовыми мотивами. Они противоречат друг другу при описании всех подробностей события и сходятся только в том, что царевич был убит по приказу Бориса Годунова. Чем дальше отстоят эти сказания от смерти Дмитрия, тем больше находим мы в них подробностей. Все это лишает их достоверности. Они не дают материала, достаточного для того, чтобы обвинить Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия.
- ЧЕТВЕРТАЯ ВЕРСИЯ?
И все же версию об убийстве нельзя просто откинуть в сторону. Прежде всего, следственное дело, хотя там и нет прямых подтасовок с точки зрения внешнего расположения материала, источник не намного более достоверный, чем сказания и летописцы. В самом деле, кто мешал следователям при неграмотности большинства свидетелей (даже некоторые из подписавшихся умеют, скорее, рисовать, чем писать свое имя) записывать совсем не то, что говорилось? Непосредственными свидетелями смерти царевича были мамка Василиса Волохова, постельница Мария Самойлова, кормилица Арина Тучкова, стряпчий Семейка Юдин и четверо детей. Показания Волоховой - показания лица, заинтересованного доказать, что царевич погиб от несчастного случая. Мелкий придворный служитель, две женщины и четверо детей? Неужели у боярина Шуйского и окольничего Клешнина не было достаточных средств воздействия и помимо пытки, чтобы запугать их и получить нужные показания? Но ведь следствие шло публично? Конечно, но разве не могли следователи встретиться с допрашиваемыми наедине до того, как они официально дадут показания? Подозрительно еще одно обстоятельство: навязчивое повторение, что "царевич покололся ножом сам". Об этом говорят не только очевидцы смерти мальчика, но и почти все остальные свидетели, более пятидесяти человек. Особенно странно, что часть свидетелей - не очевидцев прибавляет, что о несчастном случае "им люди сказывали". Но ведь из того же дела мы знаем, что угличские люди в это время были уверены в убийстве царевича и жестоко расправлялись с его предполагаемыми убийцами. "Тенденциозность следственного дела представляется очевидной" [52], - к такому обоснованному выводу пришел А. А. Зимин, тщательно проанализировав многие противоречия этого источника.
Часто утверждают, что Годунов не был заинтересован в смерти царевича. Так, Р. Г. Скрынников пишет, что в 1591 году создалась настолько напряженная внутриполитическая ситуация, что "смерть царевича Дмитрия была для Годуновых крайне неприятным и опасным сюрпризом" [53] Однако особая острота внутриполитического положения осталась недоказанной Р.Г. Скрынниковым. Он ссылается на имевшие место за несколько лет до этих событий репрессии против Шуйских (казалось бы, напротив: разгром Шуйских сделал обстановку более благоприятной для Годунова), против Нагих (что могло только ускорить расправу с Дмитрием) и на назначения "объезжих голов" в Москве для надзора за порядком и противопожарной безопасностью. Всего этого мало для ответственного утверждения, что "достаточно было малейшего толчка, чтобы народ возмутился и поднялся на восстание". Но и в том случае, если бы обстановка была столь накаленной, как это рисуется Р. Г. Скрынникову, Годунов мог бы поторопиться убрать наиболее опасного конкурента - царевича Дмитрия.
Мы вплотную подошли к еще одному распространенному аргументу: Годунов, говорят, не был заинтересован в смерти царевича, так как Дмитрий, как сын от седьмой (или шестой) жены, все равно не имел права на престол. К тому же не было исключено рождение детей у самого царя Федора, а это сделало бы излишним убийство царевича. Замечают, что в конечном счете смерть Дмитрия принесла Годунову больше вреда, чем выгоды. При всей внешней логичности эти утверждения не выдерживают самой снисходительной критики. Четырнадцатью годами позже имя царевича Дмитрия, хотя даже не было твердой уверенности в его подлинности, всколыхнуло всю Россию. Множество людей становилось под его знамена. Никто из них и не вспоминал, что царевич родился от брака, не могущего считаться законным с канонической точки зрения. Мнение о том, что Дмитрий, в сущности, незаконнорожденный, развивало правительство Годунова для компрометации Дмитрия. Недаром в инструкциях русским дипломатам. отправлявшимся за рубеж, указывалось, как отвечать на вопросы о смерти "князя Дмитрия Ивановича Углицкого", а не о смерти царевича. В первом представлении польско-литовскому правительству в связи с появлением Лжедмитрия Москва говорила о том, что, если бы это был и Дмитрий, он не имел бы никаких прав на престол как сын от седьмой жены.
Эту точку зрения правительство Годунова начало развивать еще при жизни царевича. Английский дипломат Джилс Флетчер, уехавший из России в 1588 году, писал:
"Даже светским лицам неохотно разрешают вступать в брак больше двух раз. Этим предлогом пользуются теперь против единственного брата царя, шестилетнего ребенка, о котором не молятся в церквах (между тем как это всегда соблюдается в отношении к лицам царской крови) на том основании, что он от шестого брака и, следовательно, незаконнорожденный. Такое приказание отдано священникам самим царем по проискам Годунова, который уверял его, что отстранение любви народной от ближайшего наследника есть весьма хорошая политическая мера".
Другое сообщение Флетчера показывает, что жизнь царевича действительно была под угрозой. "Младший брат царя, - пишет Флетчер, - дитя лет шести или семи... содержится в отдаленном от Москвы месте под надзором матери и родственников из дома Нагих, но (как слышно) жизнь его находится в опасности от покушений тех, которые простирают свои виды на обладание престолом в случае бездетной смерти царя. Кормилица, отведавшая прежде него какого-то кушанья (как я слышал) умерла скоропостижно" [54]. Ценность этого сообщения состоит в том, что Флетчер за три года до смерти царевича предполагал, что он будет убит, и даже знал о попытках его отравления. Казалось бы, такое сообщение доказывает виновность Годунова в убийстве Дмитрия. Однако все не так просто. Хотя Флетчер и уехал из России за три года до смерти Дмитрия, первое издание его книги вышло как раз в год, когда разыгралась трагедия в Угличе, - в 1591 году.
Выше уже упоминалось, что меньше чем через месяц после смерти Дмитрия другой английский дипломат, Джером Горсей, отправил своему покровителю лорду Бэрли письмо, в котором сообщал, что Дмитрий "был жестоко и изменнически убит; его горло было перерезано в присутствии его дорогой матери императрицы" [55]. Источником информации Горсея был Афанасий Нагой; об этом он рассказал в своих записках. Следовательно, свидетельство Горсея стоит не больше, чем свидетельство одного из Нагих во время событий в Угличе. Не послужило ли письмо Горсея одним из источников сообщения Флетчера? Мы не знаем, в каком именно месяце было завершено печатание сочинения Флетчера. Если после получения известия о смерти Дмитрия (а письмо Горсея должно было дойти до Англии уже в июле - августе) , то ценность сведений Флетчера резко снижается: ведь Флетчер мог просто вставить этот пассаж в готовую книгу, чтобы подчеркнуть свою прозорливость. Тем более что в хранящейся в библиотеке Кембриджского университета рукописи сочинения Флетчера, предшествующей печатному изданию, нет четырех глав, в том числе той, где содержится предсказание убийства царевича Дмитрия [56].
У Бориса были все основания страшиться того, чтобы Дмитрий дожил до совершеннолетия. В самом деле, в случае бездетной смерти Федора (что предполагать были все основания) сын Ивана Грозного был, естественно, наиболее вероятным кандидатом на престол. Во всяком случае, он имел больше прав и чем Борис Годунов, и чем крещеный татарин Симеон Бекбулатович, которого Иван IV на один год ставил в "великие князья всея Руси". А Симеона Бекбулатовича, никогда не игравшего серьезной политической роли, смертельно боялся Борис Годунов. Тем более ему был бы опасен Дмитрий.
В другом случае - рождения у царя Федора сына - Дмитрий оставался опасен. На появление у слабоумного Федора полноценного сына трудно было надеяться. При таком наследнике Борис Годунов, естественно, оставался бы регентом, опекуном. Но именно такому наследнику был бы вполне реальным соперником его дядя - царевич Дмитрий Иванович. Ведь даже для первенца Ивана Грозного, умершего в младенчестве Дмитрия же, оказался соперником двоюродный брат царя старицкий князь Владимир Андреевич.
Вступление на престол Дмитрия было бы полным крахом Годунова. Дело не только в том, что его заведомыми противниками были сосланные в Углич Нагие. Те сведения, которые получал правитель из Углича, говорили о том, что там подрастает ярый враг царского шурина. Ряд независимых друг от друга свидетельств говорит об этом. Они несколько противостоят официальной версии, показывая, что для преступления, если оно имело место, были серьезные .основания.
Авраамий Палицын сообщает, что подраставший Дмитрий, "от ближних смущаемый", часто "в детских глумлениях" говорил "нелепаа!" о приближенных брата, и особенно о Борисе Годунове, враги же передавали все это, прибавляя в десять раз больше ("в десяторицу лжи составляюще") [57].
Исаак Масса пишет, что Дмитрий "по своему возрасту... был очень умен, часто говоря: «Плохой какой царь мой брат. Он не способен управлять таким царством» - и нередко спрашивал, что за человек Борис Годунов, говоря при этом: «Я сам хочу ехать в Москву, хочу видеть, как там идут дела, ибо предвижу дурной конец, если будут столь доверять недостойным дворянам»" [58]
Совпадающие известия находим у Буссова. По его словам, "в царевиче с ранней юности стал сказываться жестокий отцовский нрав". Он рассказывает, что однажды царевич вместе с товарищами по играм вылепил из снега несколько фигур, каждой дал имя одного из бояр и стал затем отсекать им головы, ноги, протыкать насквозь, приговаривая: "С этим я поступлю так-то, когда буду царем, а с этим эдак". Первой в ряду стояла фигура, изображавшая Бориса Годунова [59] Подтверждают сообщения Буссова слова Флетчера, который пишет, что "в нем начинают обнаруживаться все качества отца. Он (говорят) находит удовольствие в том, чтобы смотреть, как убивают овец и вообще домашний скот, видеть перерезанное горло, когда из него течет кровь (тогда как дети обыкновенно боятся этого), и бить палкою гусей и кур до тех пор, пока они не издохнут" [60] .
Вряд ли случайно и Нагие сразу обвинили в смерти царевича именно агентов Годунова. Они ждали и боялись этого момента.
Но значит ли все это, что Годунов действительно подсылал убийц к царевичу, что Битяговский и Качалов перерезали ему горло? Против этого предположения говорит немало соображений. Вряд ли Годунов решился бы на такой опрометчивый шаг. Каким бы прочным ни было его положение, оно могло пошатнуться в любой момент. Где была гарантия, что убийцы не были бы схвачены и допрошены, что они стали бы молчать, а не выдали бы вдохновителя преступления? Да и кто и за какие деньги решился бы пойти на такой акт, сулящий столь мало шансов на спасение? Слишком умным и осторожным человеком был Борис Годунов, чтобы подсылать царевичу Дмитрию наемных убийц.
Быть может, ему и не надо было этого делать? Он мог избавиться от опасного мальчика значительно проще. По неопровергнутым и достаточно подробным сведениям следственного дела, Дмитрий страдал эпилепсией. Описание эпилептических припадков в следственном деле (судороги, укусы, наносимые окружающим) соответствуют клинической картине этой болезни. Как сообщает Большая Советская энциклопедия, при эпилептических судорогах "челюсти сильно сжимаются, если между ними попадает язык, он прикусывается". Для эпилепсии характерны также сумеречные состояния, при которых больные "опасны для самих себя и для окружающих", могут "наброситься на окружающих" [61]. Если такому мальчику-эпилептику дать в руки нож или свайку, да еще в период учащения припадков, то ждать конца пришлось бы недолго. Именно этот путь - наиболее безопасный для правителя, не оставляющий следов, - соответствовал психологии Бориса Годунова, человека, всегда стремившегося покончить со своими врагами тихо, без шума и театральных эффектов.
При таком допущении Василиса Волохова, "мамка", которой и был поручен надзор за ребенком, оказывается непосредственной виновницей гибели царевича. Вполне возможно, что именно она была исполнителем приказа Годунова. Так, кстати, рисовалось дело и замечательному писателю А. К. Толстому: в трагедии "Царь Федор Иоаннович" Клешнин по поручению Годунова посылает Волохову в Углич с наказом "блюсти царевича", и в разговоре с ней намекает, что "никто не властен в животе и смерти - А у него падучая болезнь!". Не поняла ли царица Мария, что настоящая убийца ее сына - Волохова, и потому жестоко избила ее сразу после смерти царевича?
Естественно, трудно настаивать на том, что эта, четвертая, версия полностью отвечает исторической действительности: просто автору этих строк она представляется наиболее правдоподобной. Задача же, стоявшая перед этой статьей, состоит не в том, чтобы убедить читателя в справедливости той или иной версии, хотя автор и выступает с открытым забралом, но в том, чтобы дать материал для самостоятельного суждения по вопросу, который занимает умы людей без малого четыре века.
ЛИТЕРАТУРА
1. См.: Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о Смутном времени / Изд. С. Д. Шереметев. СПб., 1898; Беляев И. С. Следственное дело об убиении Димитрия царевича в Угличе 15 мая 1591 г. М., 1907: Суворин А. С. О Димитрии Самозванце. СПб., 1906.
2. Костомаров Н. И. Кто был первый Лжедмитрий. СПб., 1864. С. 60.
3. См. Пташицкий С.П.. Письмо первого Самозванца к папе Клименту VIII от 24 апреля 1604 года. СПо, 1899, Sprawozdania Akademii Umiejetnosci w Krakowie. 1898. n. 10.
4. Горсей Дж. Записки о России XVI - начале XVII в. / Вступит. статья, перевод и комментарии А. А. Севастьяновой. М., 1990. С. 130.
5. Лурье Я. С. Письма Джерома Горсея // Уч. зап. ЛГУ. Серия исторических наук. Л., 1941. Вып. 8. С. 200.
6. Платонов С. Ф. Статьи по русской истории (1883-1912). 2-е изд. СПб., 1912. С. 182.
7. См.: Татищев Ю. В. К вопросу о смерти царевича Димитрия // Сборник статей по русской истории, посвященный С. Ф. Платонову. Пг., 1922. С. 223-224.
8. Полное собрание русских летописей. М., 1978. Т. 34. С. 205-206.
9. Пташицкий С. Л. Указ. соч. С. 7-8.
10. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею при Академии наук. Т. 2. СПб., 1836. № 26. 34. 37, 38. С. 16, 89-94.
11. Устрялов Н. Сказания современников о Димитрии самозванце. СПб., 1859. 3-е изд. Ч. 2. С. 130.
12. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел (далее - СГГД). М., 1819. Ч. 2. До 139. С. 294.
13. См.: Устрялов Н. Указ. соч. Ч. 1. С. 154. 256, 396.
14. Буссов К. Московская хроника. М.: Л., 1961. С. 132-133.
15. Завилянский И. и др. Эпилепсия // Большая медицинская энциклопедия. М.. 1964. 2-е изд. Т. 35. Стлб. 658.
16. Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб.. 1851. Т. 2. № 38-XXXIII, 54. С. 51, 64-65.
17. Следственное дело цит. по: Клейн В. К. Угличское следственное дело о смерти царевича Димитрия. М., 1913. Ч. 2.
18. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.. 1955. Т. 4. С. 447.
19. См.: Зимин А. А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой Крестьянской войны в России. М., 1986. С. 280-281.
20. См.: Яковлева О. А. К вопросу об угличском деле 1591 г. // Вопросы истории Чувашии: Ученые записки Научно-исследовательского института при Совете Министров Чувашской АССР. Чебоксары, 1965. С. 255-258.
21. Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 145.
22. Клейн В. К. Указ. соч. Ч. 1: Дипломатическое исследование подлинника. С. 66-67.
23. Скрынников P. Г. Борис Годунов и царевич Дмитрий // Исследования по социально-политической истории России: Труды Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР. Л., 1971. Вып. 12. С. 194.
24. Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI-начала XVII в.: Сборник статей. М.. 1963. С. 225-226.
25. См.: Зимин А. А. Указ. соч. С. 171.
26. Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. СПб., 1905. Кн. 5. Т. 13. С. 452.
27. Клейн В. К. Указ. соч. Ч. 1. С. 87.
28. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1960. Кн. 7. С. 318.
29. См.: Веселовский С. Б. Отзыв о труде В. К. Клейна "Угличское следственное дело о смерти царевича Димитрия 15-го мая 1591 г." // Веселовский С. Б. Труды по источниковедению и истории России периода феодализма. М., 1978. С. 169-171. Так думал и И. И. Полосин: Полосин И. И. Указ. соч. С. 231.
30. См., например: Яковлева О. А. К вопросу о добросовестности официального следствия 1591 г. // Ученые записки Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР. Чебоксары, 1962. С. 350-352.
31. См.: Веселовский С. Б. Указ. соч. С. 162.
32. СГГД. Ч. 2. До 142, 144. С. 300, 302-304.
33. Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. М., 1937. С. 159-160.
34. СГГД. Ч. 2. № 147. С. 311.
35. Временник Ивана Тимофеева. М.: Л., 1951. С. 51; Клейн В. К. Указ. соч. С. 116.
36. См.: Рудаков А. А. Развитие легенды о смерти царевича Димитрия в Угличе // Исторические записки. М., 1941. № 12. С. 254-283.
37. Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб., 1913. С. 22.
38. Русская историческая библиотека (далее - РИБ). СПб., 1909. 2-е изд. Т. 13. Стлб. 6-8.
39. Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1843. Кн. 3. Т. 10. Стлб. 76.
40. Погодин М. П. Историко-критические отрывки по русской истории. М., 1846. Т. 1. С. 283.
41. Бычков А. Ф. Повесть об убиении царевича князя Димитрия // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. М., 1864. Кн. 4. Смесь. С. 1-4.
42. Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести... С. 366.
43. Сказание Авраамия Палицына. М., Л.. 1955. С. 101, 251.
44. Временник Ивана Тимофеева. С. 28-29.
45. РИБ. Т. 13. Стлб. 1281.
46. Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 14. С. 40-41.
47. См.: Корецкий В. И., Станиславский А. Л. Американский историк о Лжедмитрии I // История СССР. 1969. № 2. С. 238-244.
48. РИБ. Т. 13. Стлб. 899-910.
49. Там же. С. 764-785.
50. Буссов К. Указ. соч. С. 80.
51. См.: Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1937. С 39-40.
52. Зимин А. А. Указ. соч. С. 165.
53. Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 191.
54. Флетчер Д. О государстве Русском. СПб.,1906.С.20- 21, 110-111.
55. Лурье Я. С. Указ. соч. С. 200.
56. Cм.: Fletcher J. Of the Russe Commonwealth. 1591, Facsimile edition with variants by R. Pipes and a glossary-index by S. V. A. Fine. Jr. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1966. P. 19.
57. Сказание Авраамия Палицына. С. 102, 251.
58. Масса И. Указ. соч. С. 39.
59. См.: Буссов К. Указ. соч. С. 80.
60. Флетчер Д. Указ. соч. С. 21.
61. Большая Советская энциклопедия, 2-е изд. Т. 41. С. 277 пр. Т. 49. С. 126 л.
4. ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ
Светлой памяти Александра Александровича Зимина, Натана Яковлевича Эйдельмана посвящаю
- ПОЛЕЗНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО И ЛЮБОПЫТНАЯ ПОЛЬЗА
Профессия - историк. Так мы пишем в соответствующей графе анкеты. Мы можем быть учителями средней школы, преподавателями высшей, научными сотрудниками НИИ и музеев, все равно, мы в первую очередь историки. Кто мы такие? Зачем мы нужны? Эти вопросы каждый из нас задает сам себе. Одна из попыток ответить - этот очерк. Сразу хочу предупредить: объективным быть не обещаю, ибо это невозможно. Можно только притвориться объективным. Нельзя остаться человеком, отказавшись от субъективности. Пишу только от своего имени, высказываю только свои мысли, хотя не исключаю, что во многом созвучные мыслям моих коллег. В таком случае рискую оказаться "типичным представителем". Что ж, заранее соглашаюсь.
Итак, я - историк. И, следовательно, нахожусь сегодня не в самом комфортном положении. Ибо в наши дни любят историю и не жалуют историков. Почему? Интерес к своему прошлому у общества вырос неизмеримо. Люди вглядываются в него в поисках ответов на свои проклятые вопросы - кто виноват? что делать? - и страстно негодуют, когда не получают ответов. Или получают такие, которые их не убеждают. Или не устраивают. Хотят простых и недвусмысленных. Инженеру, привыкшему к надежному миру математических правил и строгих физических законов, кажется странным, что порой нет однозначной оценки явления или события, нет точно установленной юридической виновности или невиновности исторических деятелей.
Так что, вина историков мнимая? Разумеется, нет. И говорю об этом не только по привычке "признавать ошибки", перенятой нами от произносимого при исповеди "грешен, батюшка". Нет, ревностное служение идеологии, а чаще официально признанным идеологам и их "установкам", научные по виду сочинения, выводы которых легко угадать, прочитав лишь заголовок, учебники, вызывающие одновременно скуку, смех и негодование, - все это слишком хорошо известно и слишком широко распространено. Именно отсюда идет общественное убеждение: историк? да еще с ученой степенью? Значит, лгун. Пожалуй, наиболее резко и четко его высказал недавно писатель В. П. Астафьев: "Историки в большинстве своем... не имеют права прикасаться к такому святому слову, как правда. Они потеряли это право своими деяниями, своим криводушием" [1].
Пусть во многом нам достается поделом, но все же такая прямолинейная логика меня не устраивает. Почему? Открещиваюсь от вины, сохраняя душевный комфорт? Стремлюсь защитить коллег, которых знаю не только по книгам и статьям? (Ведь в милой застольной беседе авторы даже рептильных сочинений нередко бывают и остры умом, и смелы в суждениях, и доброжелательны к собеседнику или сотрапезнику; да и в служебных отношениях многие ведут себя порядочно.) Хочется думать, что дело в другом. Мне кажется, что в осуждении той или иной корпорации в целом (историков, экономистов, неформалов, врачей, кооператоров, аппаратчиков, бюрократов...) находит выражение принцип коллективной вины, который так дорого уже обошелся нашему народу. Ведь и раскулачивание, и, бессудные расправы с людьми, чье социальное происхождение не устраивало ревнителей классовой борьбы, и депортации целых народов были основаны на осуждении не конкретных людей за конкретные поступки, а определенных групп людей в целом.
Вспомним, что еще А. И. Герцен в "Былом и думах", рассказывая о добром, человечном поступке жандармского офицера (уж в чем-чем, а в сочувствии жандармам Герцена не заподозришь!), писал: "...ничего в мире не может быть ограниченнее и бесчеловечнее, как оптовые осуждения целых сословий по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цеха" [2] Всегда были честные историки. Им приходилось нелегко. Многое из написанного ими оставалось лежать в ящиках письменных столов или выходило в свет в искалеченном виде, они платили за свою принципиальность испорченными нервами, служебными неудачами, подчас разрывом товарищеских отношений. И все же старались сохранить себя как ученых. Не добавляю - "честных". Ведь нечестный ученый - уже не ученый, какими бы академическими званиями он ни был украшен.
Есть прекрасная книга о труде историка. Удивительна прежде всего история ее создания. Ее автор - Марк Блок, капитан французской армии, участник двух мировых войн, один из самых крупных специалистов по истории средневековой Франции. Когда гитлеровцы захватили Францию, Блоку как еврею грозила смерть в концлагере. Тем не менее, он пренебрег лестными предложениями профессорских кафедр за рубежом и предпочел усугубить опасность для своей жизни: стал одним из организаторов движения Сопротивления. Но и в подполье ученый не мог прекратить творческого труда. Лишенный доступа к источникам, к библиотекам, он написал "Апологию истории", поэтическую книгу, объяснение в любви к своей науке. В 1944 году 58-летний капитан Марк Блок был схвачен оккупантами и после тяжелых пыток казнен. Но сохранились три папки с незаконченной рукописью, которые после войны попали в руки другу покойного - Люсьену Февру. Он и подготовил книгу к печати. Первая фраза книги такова: "«Папа, объясни мне, зачем нужна история». Так однажды спросил у отца-историка мальчик, весьма мне близкий" [3]. Должно быть, у каждого историка есть свой вариант ответа на этот вечный вопрос. С него и начну.
В самом деле. Мы прекрасно знаем, что без физики, химии и математики мы ездили бы на лошадях и волах, не имели бы холодильников, не смотрели бы кино и телевидение, переписывали бы от руки книги. Без астрономии и географии невозможны ни мореплавание, ни сухопутные путешествия, а без биологии - медицина и сельское хозяйство. А история зачем? Что она дает нам материального? Ничего. "Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать" (Гумилев). И все же люди почему-то интересуются историей. Пусть нередко чисто внешней ее стороной: сколько было любовников у Екатерины II или жен у Ивана Грозного. М. Блок писал: "...если даже считать, что история ни на что иное не пригодна, следовало бы все же сказать в ее защиту, что она увлекательна" [4]. Да, мне кажется, что любопытство - уже достаточное основание для интереса к истории. Напрасно противопоставляют любопытство любознательности. Из бескорыстного любопытства выросла вся современная наука, шире - цивилизация. Недаром говорят, что наука - лучший способ удовлетворять свое любопытство за казенный счет.
И все же. Вряд ли стоило бы преподавать историю в школе, тратить деньги и силы на подготовку учителей истории в вузах, если бы она была только любопытной. Дело здесь, разумеется, сложнее.
Так в чем же польза истории? Говорят, в том, что она нас учит, дает примеры, образцы для подражания и наоборот. Так ли? Ведь, думается, прав был В. О. Ключевский, когда писал, что "история не учительница, а надзирательница", что "она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков" [5]. Если бы люди извлекали опыт из истории, то вряд ли за первой мировой войной последовала вторая. Вряд ли после гитлеровского геноцида могли возникать повсюду (увы, и в нашей стране) разнообразные неофашистские организации: от немецких реваншистов до отечественной "Памяти". Вряд ли после страшных уроков сталинизма нашлись бы у нас Нины Андреевы и их единомышленники, не желающие поступиться принципами твердой тоталитарной руки.
В ранней юности я очень удивлялся, когда встречался с аморальностью людей, получивших среднее образование. Мне казалось непонятным, как может хамить, хулиганить, воровать человек, читавший Пушкина, Толстого, Чехова. Конечно, моя наивность была вызвана тем утилитарным подходом к "воспитательной функции" литературы, который усиленно вдалбливали нам (писатель - "инженер человеческих душ"). Это отношение к литературе точно изобразил Валентин Берестов:
Литература
Опытною нянею
Использовалась
В целях начинания.
"Жил-был на свете
Петя-петушок.
Просился на горшок.
Иван-царевич
Спать ложился рано.
Бери пример
С царевича Ивана.
Вот на картинке
Дядя Геркулес.
Он в сахарницу
Пальцами не лез".
Когда подрос
Питомец этой няни.
Он написал
Немало всякой дряни.
Впрямую учит только плохая литература. История тоже учит не впрямую. Она заставляет человека понять, что он - лишь звено в цепи поколений, но звено необходимое. Благодаря истории мы можем ощутить эту тесную связь поколений. Далекие эпохи вовсе не так уж далеки, как может показаться.
Я это понял тридцать с лишним лет тому назад, где-то в середине 50-х годов, когда прочитал небольшое газетное сообщение: человек, бывший в молодости личным секретарем Д. И. Менделеева, готовит к печати дневники великого химика. В этом факте еще не было ничего удивительного: от смерти Менделеева тогда прошло меньше 50 лет, и 75-летний человек вполне мог быть у него секретарем. Удивляло другое: из этих дневников следовало, что молодому Менделееву помог на первых порах декабрист И. И. Пущин. Друг Пушкина! Значит, и эта, пушкинская, эпоха не так уж далека?
Я начал размышлять. Вот студентом я как-то слушал лекцию уже очень старого академика Роберта Юрьевича Виппера. А ведь он, сокурсник известного лидера кадетов и историка П. Н. Милюкова, был студентом, когда в 1879 году умер С. М. Соловьев и начал читать лекции молодой В. О. Ключевский...
Говорят, между любыми двумя людьми на земном шаре насчитывается всего несколько "связок". Линию этих связок можно провести и в прошлое. Как-то я попытался подсчитать, сколько их между мной и Пушкиным. Вот эта линия. В детстве мне довелось знать Алексея Алексеевича Игнатьева. Граф, сын убитого революционерами важного сановника царской России, генерал старой армии, русский военный атташе во Франции во время первой мировой войны, Алексей Алексеевич стал генерал-лейтенантом Советской Армии и опубликовал свои мемуары - "Пятьдесят лет в строю". А. А. Игнатьев в молодости хорошо лично знал Александра III. Стало быть, с этим царем у меня одна связка - Игнатьев. Глава русской внешней политики государственный канцлер князь Горчаков ушел в отставку в 1882 году, через год после вступления Александра III на престол. Они были не просто знакомы, а общались постоянно. Итак, с Горчаковым, лицейским товарищем Пушкина, у меня две связки, значит, с Пушкиным - всего три. И снова приближается немыслимо далекое время.
Но дело не только в таких личностных нитях. Нас связывает с историей вся наша повседневность. "Ведь только во сне твое сознание становится вне истории, и то лишь одно сознание, а твой грезящий аппарат остается в ее сфере, в области культуры", - писал Ключевский и доказывал свою мысль множеством примеров.
Вот один из них: "Когда ты, бывало, сидел за своим письменным столом, торопливо составляя реферат профессору для зачета полугодия и помышляя тоскливо о пропущенной «Руслане и Людмиле», ни перед собой, ни в себе ты не мог бы найти предмета неисторического: бумага, перо, профессор, опера, самая тоска по ней, наконец, ты сам, как студент, зачитывающий полугодие - все это целые главы истории, которые тебе не читали в аудитории, но которые ты должен понимать на основании тебе читанного" [6].
Итак, прошлое рядом снами, но не только в тех простых вещах, о которых писал Ключевский. Исторический путь, пройденный народом, неизбежно сказывается в настоящем. Так, режимы Гитлера и Муссолини были разными вариантами фашистской диктатуры. И дело было не в личных качествах диктаторов, а в разных исторических традициях Германии и Италии. В нынешних забастовках советских горняков мы узнаем традиции стачечной борьбы российского пролетариата, а съезды народных депутатов порой печально напоминают нам сход крестьянской общины, которая исповедовала примитивное равенство и не любила тех, кто не похож на своих односельчан. Не оттуда ли, из глуби веков, "агрессивно-послушное большинство"?
Эти размышления не повод ни для шовинистического принижения одних народов и возвеличивания других, ни для фаталистического пессимизма. В традициях любого народа перемешаны добро со злом. Да те же общинные традиции не однозначно дурны: в них и взаимопомощь, и твердое сопротивление внешнему воздействию. Разум, здравый смысл людей могут одержать победу, в том числе и над тем дурным, что есть в исторической традиции. Особенно если на прошлое смотрят трезвым взглядом и извлекают из него уроки.
Не менее важно, что чувство истории, ее знание - одно из отличий человека от животного. Даже самая умная собака не интересуется историей своей породы.
Наше "я", наше самосознание основано на нашей личной памяти. Самосознание народа - на общности исторических воспоминаний, самосознание человечества - на общности всемирной истории. История - социальная память человечества, а историк - ее хранитель. Но должен он хранить подлинную историю, а не создавать мнимую.
Боже мой, как это нелегко! И прежде всего потому, что история, даже далекая, постоянно затрагивает чьи-то интересы, а порой и эмоции. Главная беда исторической науки, как мне кажется, в стремлении поставить ее на службу не истине, не извлечению уроков из прошлого, а идеологическим или политическим целям. И уже не имеет значения, грязны эти цели или благородны: все равно путь для фальсификации истории открыт. Ибо возникают две правды: удобная и неудобная. А историк, отстаивающий неудобную правду, воспринимается властями или (что еще хуже) обществом как враг, предатель, фальсификатор, в крайнем случае - как недоумок, который "льет воду" на какую-то не ту мельницу.
Мне рассказывал археолог в одной из наших республик, где в последние годы широко развернулось национальное движение, что его считают предателем своего народа. "Я раскапываю поселение и вижу, что оно - раннеславянское, а от меня требуют, чтобы оно было обязательно..." (не называю народа, ибо такое может произойти в любом месте). И точно так же от русского археолога национал-романтики потребуют, чтобы поселение было славянским, а не угро-финским, не балтским, не скандинавским...
А сколько удивительных эмоций вызывает вопрос о происхождении народа. Почему-то очень многим хочется, чтобы их народ был автохтоном, то есть исконным насельником той территории, которую он сейчас занимает. Возникают споры, в которых эмоциональную и современную политическую окраску приобретают события VIII-IX веков, а то и рубежа нашей эры. Наш крупный историк академик Михаил Николаевич Тихомиров по этому поводу в свое время говорил: "...я не вижу ничего обидного в том, что народ является не автохтонным. Можно ли так ставить вопрос: чем дольше он живет на таком-то месте, тем его история ценнее и выше?" [7]
- ПОД ПРЕССОМ ИДЕОЛОГИИ
Судьба советской исторической науки трагична. В сталинское время, пожалуй, не было науки, которая не испытала бы идеологического пресса. Но положение истории трагично вдвойне. Во-первых, как наука общественная, она подвергалась куда большему давлению, чем большинство наук (сравнимо лишь наступление на биологию). Во-вторых же, общество рассматривает биологов и физиков по преимуществу как жертв режима, а историков - как его слуг. А ведь историкам заламывали руки посильнее, да и к тому же крутили их поочередно в разные стороны.
Я учился на историческом факультете Московского университета в 1946-1951 годах. Не могу сказать, что эти годы были однозначно плохими. Ведь нам читали лекции и вели у нас семинары ученые, чьи труды определяли лицо науки: Михаил Николаевич Тихомиров и Сергей Данилович Сказкин, Александр Иосифович Неусыхин и Артемий Владимирович Арциховский, Сергей Владимирович Бахрушин и Евгений Викторович Тарле, Всеволод Игоревич Авдиев и Лев Владимирович Черепнин... Каждый - яркая индивидуальность, со своим исследовательским почерком, со своим неповторимым стилем обучения. Но в те же годы и с кафедр, и с трибун собраний нам неустанно внушали, что советский историк - это в первую очередь большевистский пропагандист и агитатор. До нас доходили смутные слухи о том, что кое-кто из наших учителей побывал в тюрьме и ссылке, и вовсе не царской. И как я сейчас понимаю, уста их были свободны не вполне, их не мог не замыкать тот "страх, что всем у изголовья лихая ставила пора" (Твардовский). Ведь идеологические проработки не прекращались ни на один год: они лишь меняли свою интенсивность и объекты, на которые были направлены.
В. О. Ключевский, говоря о дворцовых переворотах в России XVIII века, писал, что "тогда в России дворец и крепость стояли рядом, поддерживая друг друга и обмениваясь жильцами" [8]. В эпоху сталинских идеологических чисток нередко обменивались местами проработчики и прорабатываемые.
Попытаемся же проследить сложные извивы идеологических установок, кореживших нашу науку.
Я очень хорошо представляю себе, какую хлесткую разоблачительную статью можно было бы написать в 1949 году, в разгар кампании по "борьбе с космополитизмом" об одном авторе. Она звучала бы примерно так:
"Этот обнаглевший безродный космополит позволил себе дойти до гнусных и оскорбительных выпадов против великого русского народа, который товарищ Сталин назвал "руководящей силой Советского Союза" [9]. Он постарался забыть о замечательных победах великих русских полководцев Александра Невского, Димитрия Донского, Димитрия Пожарского, Кузьмы Минина, Александра Суворова, Михаила Кутузова, наших "великих предков" (И. В. Сталин) и еще в 1931 году развязно разглагольствовал: "История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно... Они били и приговаривали: «ты убогая, бессильная» - стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно" [10].
Впрочем, такая статья была невозможна, ибо нашего "безродного космополита" звали: Иосиф Виссарионович Сталин. То, что считалось истиной в последней инстанции в 1931 году, стало страшной крамолой даже не в 1949 году, а гораздо раньше: во второй половине 30-х годов, когда в обиход были запущены новые идеологические клише. В 20-х же и в начале 30-х годов сверху еще насаждались представления об абсолютной беспросветности прошлого.
Чтобы разобраться в том, что происходило, обратимся к ситуации в советской исторической науке тех времен. Подавляющее большинство ученых старой школы до конца 20-х годов продолжало более или менее спокойно работать в науке. От них пока не требовали признания марксизма-ленинизма единственно верным учением, выходили из печати их книги и статьи, не были закрыты для них и университетские кафедры. А тем временем молодые марксисты с юным жаром спорили о закономерностях развития общества и о том, насколько сделанные выводы соответствуют тем или иным высказываниям Маркса, Энгельса или Ленина (пока еще не Сталина!).
Сегодня с двойным чувством печали вчитываешься в отчеты об этих дискуссиях. Прежде всего, ужасно, что участники все время разоблачают друг друга, обвиняют то в меньшевизме, то еще в каком-нибудь "изме". О дискуссиях тех лет Владимир Васильевич Мавродин, профессор Ленинградского университета, а в то далекое время - аспирант, вспоминал, что "политические характеристики и политические обвинения самого серьезного характера предъявлялись друг другу всеми спорящими сторонами: попытки вести диспут даже с позиций, расценивавшихся как правильные, но в пределах научной терминологии, рассматривались как проявления "гнилого либерализма", "меньшевизма", "примиренчества" [12] Общественный строй Киевской Руси и даже Древней Греции оказывался полем политической битвы. Например, по поводу одной из работ античника С. И. Ковалева аспирант-комсомолец И. И. Смирнов, в будущем крупный ученый, писал: "Попытка С. И. Ковалева может быть расценена как попытка теоретического разоружения пролетариата в его борьбе за завершение построения фундамента социалистической экономики" [13] В острых поединках сталкивались не аргументы, основанные на фактах, извлеченных из источников, а тезисы.
И уже проникаешься искренним негодованием против этих бесцеремонных пришельцев в храм науки. Но вдруг вспоминаешь, что подавляющее большинство их ожидал мученический конец: в подвалах многочисленных лубянок, в гулаговских "мрачных пропастях земли". А те, кто уцелел, остались на всю остальную жизнь зараженными микробами страха. Да и были эти начинающие марксисты еще совсем молодыми людьми, обычно из вполне благополучных до революции интеллигентских семей. Именно в огнепальном наступлении на ценности отцов "красные профессора" искренне видели возможность причаститься к рабочему классу, искупить то, что они считали своей виной: мирный достаток своих родителей, спокойную учебу в гимназиях, пока дети рабочих недоедали и редко имели возможность пойти дальше четырехклассного городского училища. Недаром поэтесса Вера Инбер в те же годы писала, что хотела бы дать объявление:
Меняю уютное, светлое, теплое.
Гармоничное прошлое с ванной -
На тесный подвал с золотушными стеклами,
На соседство с гармонией пьяной.
Таким было мироощущение принявших революцию детей интеллигенции. Так не будем же слишком строгими судьями тех, кому было суждено остаться навсегда молодыми. Отвергая их действия, поостережемся спрашивать с них самих по всей строгости закона. Тем более что у них был наставник.
Итак, Михаил Николаевич Покровский. С фотографии на нас смотрит классическое лицо старого профессора: длинная седая борода, высокий, удлиненный лысиной лоб, очки, некоторая интеллигентская сутулость... Да и начало жизненного пути было, пожалуй, типичным для будущего профессора: сын статского советника, он после окончания Московского университета был "оставлен для приготовления к профессорскому званию" (то, что сейчас называется аспирантурой), преподавал на Высших женских курсах, печатался в обычных либеральных изданиях и даже вошел в типично "профессорский" Союз освобождения - ядро будущей кадетской партии.
Революция 1905 года прервала размеренное течение жизни тридцатисемилетнего приват-доцента: он вступает в большевистскую партию, работает в большевистской печати, участвует в 1907 году в V съезде РСДРП и входит кандидатом в ЦК. За границей, куда он был вынужден эмигрировать после поражения революции, Покровский написал пятитомный труд: "Русская история с древнейших времен". Здесь он попытался создать марксистскую схему отечественной истории. Вряд ли стоит удивляться, что именно Покровский - единственный историк-профессионал среди большевиков - оказывается официальным главой уже советской исторической науки. Сколько постов он занимал одновременно! Заместитель наркома просвещения, президент Коммунистической академии, директор Института истории Комакадемии и Института красной профессуры, руководитель Центрархива, председатель Общества историков-марксистов, редактор сразу трех журналов: "Историк-марксист", "Красный архив" и "Борьба классов"...
Покровский был блестяще одаренным человеком: его работы написаны ярко и даже местами хлестко, читаются легко и с интересом, в них нередко чувствуется нестандартная живая мысль. Но он никогда не был строгим исследователем: начав как популяризатор, он сразу перешел к созданию концепций, широких обобщений. Да, он очень много прочел, очень много знал, но его эрудиция была эрудицией знатока, а не исследователя. Когда знакомишься с его трудами, возникает впечатление, что Покровский искал в трудах своих предшественников и в источниках факты, подтверждающие уже сложившиеся у историка концепции. Именно так открывался путь для того, чтобы историк стал не искателем истины, а слугой идеологии и тем самым перестал быть ученым.
"Русская история с древнейших времен" была задумана Покровским как полемический отклик на официально признанную университетскую науку начала XX века. Принужденный покинуть родину, погруженный в перипетии революционной и внутрипартийной борьбы, Покровский был заражен вирусом презрения к либералам, к людям, стремящимся к мирной эволюции страны, к тем, кто вел спокойный, размеренный образ жизни и из университетской аудитории шел в архив, а возвращался в уютную профессорскую квартиру. Врагами остались для Покровского ученые-немарксисты и после революции. В книгу, рассчитанную на самого широкого читателя, Покровский включил раздел историографии. Уже в самом названии чувствовался элемент пренебрежения к этим странным людям, не дошедшим до марксизма: "Как и кем писалась русская история до марксистов".
Говоря о взглядах дореволюционных ученых, Покровский писал, будто
"им нужно было доказать, что государство в России не было созданием господствующих классов и орудием угнетения всей остальной народной массы, а представляло собою общие интересы всего народа, без различия классов. В основе "научной" теории лежала, таким образом, практическая потребность буржуазии. Университетская наука была (здесь и далее разрядка Покровского. - В.К.) для этой последней одним из способов господства над массами" [14]
Итак, по мнению Покровского (не на собственном ли опыте основанном?), историк выдвигает ту или иную концепцию не исходя из своего понимания фактов, а потому, что это "нужно". Недаром один из учеников Покровского писал: "Ключевский - это представитель великорусского шовинизма, прежде всего ярый русификатор, представитель торговых группировок, кулацких группировок русской буржуазии" [15] Помимо того, что утверждение о шовинизме Ключевского - явная ложь, не говоря и о том, что даже неловко всерьез опровергать глубокий вывод о Ключевском как представителе кулачества, в этом пассаже (уверяю читателя: это не случайная оговорка, а типичный образ мыслей партийного историка тех лет) поражает глубокое пренебрежение к великому ученому, почти детская уверенность в том, что именно им, молодым "красным профессорам", открыты все тайны истории, им и только им принадлежат все ключи от ее замков.
Такое умонастроение в сочетании с высокими постами Покровского и его людей открыло путь для прямых гонений на тех ученых, которые не захотели отказаться от своих научных взглядов. Так, в 1928 году Покровский писал буквально следующее: "Во-первых, в нашей науке специалисту-немарксисту грош цена. А во-вторых, вы можете быть уверены, что если оный специалист вместо мягкой каши увидит перед собой твердый сомкнутый фронт, он сейчас же вспомнит, что еще его дедушка в 1800 г. был марксистом" [16]
Покровскому вторил другой "марксист" - С. Н. Быковский. Говоря о тех, кто "марксистски мыслить не может", он писал, что "в их отношении должны быть применены методы более сильные, чем разъяснение и убеждение" [17].
Итак, марксизм должно было внедрять насильственно. И внедряли. Вместо "мягкой каши" историки-немарксисты в 1930 году увидели "перед собой твердый сомкнутый фронт" следователей ГПУ. Именно тогда было грубо состряпано дело группы "буржуазных историков". Среди них большинство - специалисты по истории средневековой России. В тюремных камерах оказался цвет отечественной исторической науки. Академики Сергей Федорович Платонов, Евгений Викторович Тарле, Матвей Кузьмич Любавский, Николай Петрович Лихачев, члены-корреспонденты Юрий Владимирович Готье, Алексей Иванович Яковлев (его не спасла и давняя близость к семье Ульяновых: Илья Николаевич был дружен с отцом Алексея Ивановича)... Здесь были и историки тогда еще среднего поколения: Михаил Дмитриевич Приселков, Сергей Владимирович Бахрушин, Борис Александрович Романов, Иван Александрович Голубцов, Александр Игнатьевич Андреев, Алексей Андреевич Новосельский, Иван Иванович Полосин, и совсем еще начинающие - такие, как будущий академик Лев Владимирович Черепнин... Всех перечислить невозможно. Это был настоящий погром.
Арест идейных противников вызвал ликование у членов Общества историков-марксистов. В своей резолюции они заявляли: "Где кончается «несогласие с марксизмом» и начинается прямое вредительство, различить становится все менее и менее возможным. Каждого антимарксиста (великолепная логика: тот, кто не марксист, уже антимарксист! - В.К.) приходится рассматривать как потенциального вредителя" [18] А сам Покровский с палаческой иронией говорил: "В дальнейшем нам уже не пришлось заниматься отечественными буржуазными историками, ибо наиболее крупные из них были уже разоблачены, а о других взяли на себя попечение соответствующие учреждения" [19]
Впрочем, без врагов Покровский и его ученики жить не могли. После устранения из науки и ареста "буржуазных" ученых развернулась борьба с уклонами уже в своем лагере, столь же жестокая и крикливая. Научные дискуссии Покровский представлял себе исключительно как уничтожение (хотя бы моральное) оппонента. "Если нам нужно ликвидировать кулака как класс, - писал он, - то нам надо ликвидировать и кулацкую идеологию, т. е. народническую, которая выродилась в кулацкую". Речь шла не только о бывших народниках, но и об историках-коммунистах, имевших неосторожность думать о народниках иначе, чем Покровский:
"...если человек встанет рядышком с представителем народнической идеологии в чистом виде и мы начнем этого представителя народнической идеологии дубасить (разрядка моя. - В.К.), то мы попадаем, конечно, и по тому, кто стоит рядом. Не стой рядом, не смущай публику, потому что если стоишь рядом, то у всякого получится впечатление, что ты ему друг и союзник".
Такому историку Покровский советует отойти в сторону или, еще лучше, перейти в его стан: "Потому что нейтральных мы тоже будем бить (разрядка моя. - В.К.)!" И в конце академик, чтобы не оставалось никаких кривотолков, подытоживает: "В этом смысл тех дискуссий, которые мы провели за последнее время" [20]
После этого становятся уже неудивительными те вздорные обвинения, которые предъявляли мирным ученым, проведшим свою жизнь между кафедрой, архивом и письменным столом. Например, некто А. Куршанак свою рецензию на книгу Ю. В. Готье назвал так: "Как разрабатывают буржуазные историки идеологию интервенции". Никогда не угадаете даже приблизительно, как называлась книга, которой была посвящена эта "рецензия" (если можно так называть сочинения в жанре доноса): "Железный век в Восточной Европе". Логика Куршанака настолько причудлива, что даже закрадывается мысль о злой пародии: раз ученый писал о культурном значении миграций и о роли норманнов в отечественной истории, то, стало быть, он зовет "новых норманнов" - интервентов [21].
Но главное, что вменялось в вину арестованным историкам, - русский великодержавный шовинизм и приверженность к монархии. Что ж, М. К. Любавский, Н. П. Лихачев, С. Ф. Платонов были, судя по всему, действительно монархистами. М. К. Любавский был ректором Московского университета в годы правления одного из самых реакционных министров просвещения - Л. А. Кассо, когда многих либеральные профессора и доценты (в том числе и арестованные в 1930 году вместе с Любавским) покинули свою альма-матер в знак протеста. Отпрыск старинного дворянского рода, близкий к придворным кругам, Н. П. Лихачев тоже явно не был даже либералом. С. Ф. Платонов преподавал историю в царской семье, а в своей книге "Очерки истории смуты в Московском государстве" (труд, ставший классикой нашей науки, не потерявший своего значения и сегодня) как бы предупреждал монархию против грядущих "смут". С. Б. Веселовский, сам историк старой школы, прямо назвал монархической ту концепцию опричнины, с которой Платонов выступил в этой книге (правда, не только после смерти ученого, но уже тогда, когда платоновская концепция была принята на вооружение сталинской наукой). Но от монархических убеждений до монархического заговора - дистанция огромного размера, а репрессированные ученые занимались только своей наукой.
Не миф и существование в царской России великодержавного шовинизма. Но, думается, шовинистами, людьми, ненавидящими другие народы, все же не были арестованные. Во всяком случае, в их работах мне встречались, быть может, некоторое преувеличение положительной роли государства, какие-то элементы "имперского сознания" (что и неудивительно: многие из них были близки к партии кадетов, которые мечтали о расширении границ России). Но неприязни к другим народам в их работах не было. Ни грана шовинизма я не встречал и у тех из них, более молодых, с которыми мне приходилось общаться в более поздние годы, - у И. И. Подосина, С. В. Бахрушина, А. А. Новосельского, Л. В. Черепнина.
Дело в другом. Борясь с шовинизмом, Покровский метнулся к другой крайности - национальному нигилизму. Вот его "Русская история в самом сжатом очерке", вышедшая только при жизни автора десятью изданиями. По этой книге учились в 20-х - начале 30-х годов все школьники и студенты. Что мог узнать из нее читатель, скажем, об Отечественной войне 1812 года? Из приложенных к книге "Синхронистических таблиц" - что это всего лишь "так называемая "Отечественная война", а из основного текста следующее:
"Дворянству и стоявшему за его спиной торговому капиталу, еще больше, конечно, недовольному прекращением английской торговли, в конце концов и удалось-таки добиться своего: в 1812 г. Россия вновь разорвала с Францией (а не наполеоновская Франция напала на Россию? - В.К.), наполеоновская армия после своего последнего успеха - взятия Москвы - замерзла в русских снегах (а что делали такие полководцы, как Кутузов и Барклай? - В.К.), против Наполеона образовалась новая, последняя, самая страшная коалиция, и английский промышленный капитализм мог наконец торжествовать полную победу" [22]
В своей же многотомной истории Покровский не пожалел сарказма для героев этой войны. Так, Багратиона он называет "хвастливым воином", "на которого в петербургских и московских салонах чуть не молились" [23]
Беда не в том, что один из историков полностью исключал национальный фактор из истории и сводил ее к развитию экономики и революционному движению. Когда в России в начале века выходили один за другим пять томов "Русской истории", написанной эмигрантом Покровским, одновременно печатались работы и историков других направлений: и либерального, и охранительного, черносотенного. Беда началась позже: когда взгляды одного историка - Покровского стали официальными и руководящими, единственно верными. Тогда и стала преследоваться всякая иная точка зрения как контрреволюционная и шовинистическая. Мне рассказывала Екатерина Николаевна Кушева, недавно скончавшаяся, один из старейших наших историков, что в 1927 году по обвинению в русском шовинизме был уволен из Саратовского университета ее учитель профессор Сергей Николаевич Чернов. Вся вина профессора состояла в том, что на лекциях он с симпатией говорил о Дмитрии Донском и победе на Куликовом поле. А вскоре С. Н. Чернов был арестован вместе с другими историками.
Хочу быть правильно понятым. Мне представляется, что и шовинизм, и национальный нигилизм в равной степени противопоказаны исторической науке. Пожалуй, именно здесь уместно изложить свою позицию, хотя бы и прервав нить рассуждений.
Можно попытаться сравнить историю как коллективную память народа с памятью индивидуальной. Кому из нас не приходилось встречать людей с избирательной памятью. Они обычно рассказывают собеседникам, как некогда успешно осадили своих зарвавшихся противников, как, бывало, страдали "за правду", как их хвалили начальники и подчиненные за честность и справедливость. Даже о своих недостатках они умеют говорить так, что слушатель понимает: речь идет о достоинствах. "Я, к сожалению, такой уж человек: ловчить не умею, что думаю, то и говорю. Моя открытая душа мне много бед приносит..." Кстати, врагов, да еще коварных, завистников у таких людей обычно особенно много. Как напоминает такая извращенная память другую "Память"!
Но есть и противоположный тип: человек, постоянно неуверенный в себе, гипертрофирующий свои недостатки, помнящий любой свой дурной поступок и не вспоминающий о хороших. Второй тип нам по-человечески более симпатичен. И все же: постоянная саморефлексия, неуверенность лишают его возможности быть деятелем, борцом. Это человек несчастный.
Думается, и исторической памяти народа противопоказана избирательность; она должна хранить и гордые и печальные воспоминания, не порождать ни чувства превосходства над другими народами, ни чувства самоунижения.
В том ли патриотизм, чтобы не вспоминать о темных страницах отечественной истории и представлять ее как сплошную цепь побед и достижений? Многие думали и думают именно так. Полтора столетия тому назад один генерал, кстати отличившийся настоящей храбростью в Отечественной войне 1812 года, говорил:
"Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно. Что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Вот... точка зрения, с которой русская история должна быть (разрядка моя. - В.К.) рассматриваема" [24]
Звали генерала Александр Христофорович Бенкендорф, и занимал он, как известно, должность шефа жандармов. А в те же годы другой военный, правда куда меньший чином, написал горькие строки: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ..." Так кто же был настоящим патриотом - поручик Лермонтов или генерал Бенкендорф? (Помимо всего прочего поражает уверенность жандармского генерала в том, что он знает, с какой точки зрения "русская история должна быть рассматриваема"!)
Увы, постепенно псевдопатриотизм бенкендорфовского толка стал превращаться в официальную доктрину. Но в 1930 году, когда Покровский и его молодые и рьяные ученики громили уже арестованных "буржуазных" историков, до такого поворота, казалось, не дойдет. На самом же деле до разгрома "школы Покровского" оставалось ждать недолго.
Сам М. Н. Покровский успел умереть в почете, в апреле 1932 года. Похороны красного академика состоялись на Красной площади, все газеты опубликовали сообщение ЦК ВКП(б), в котором покойного называли "всемирно известным ученым-коммунистом, виднейшим организатором и руководителем нашего теоретического фронта, неустанным пропагандистом идей марксизма-ленинизма". Имя Покровского было присвоено Московскому университету и Московскому историко-архивному институту.
Прошло два года. 16 мая 1934 года появилось совместное Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) о преподавании гражданской истории в школе [25] На первый взгляд в нем не было ничего плохого. В самом деле, восстанавливались закрытые до того исторические факультеты университетов и педагогических институтов. А что дурного было в предписании преподавать историю "в живой, занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности" и отказаться наконец от подмены истории "отвлеченными социологическими схемами"? В первый момент многим показалось: наверху одумались, наконец в душную атмосферу проник свежий воздух. Но беда была в том, что это был декретированный свежий воздух. После команды "вольно!" очень скоро последовали, как обычно бывает в строю, новые команды: "смирно!", "равняйсь!" и "кругом!".
Извивы нашей идеологической политики напоминают превосходный фильм Рене Клера, который я видел лет двадцать пять тому назад. Диктатор небольшой страны сошел с ума и потребовал от своих приближенных простоты и раскованности: галстуки запрещены, а министры ходят в одних трусах и на заседания кабинета приползают на четвереньках и лая. Но свершилось чудо: диктатор выздоровел, напрочь забыл о своих причудах, однако остался диктатором. И снова, как до болезни, он требует строгости в одежде и выгоняет лакея за косо завязанный галстук. Но один из министров, старец с седой бородой, оказался плохо информирован и ползет на заседание кабинета в нижнем белье, услужливо лая. Остальные шокированы и даже жалеют беднягу: "Тс-с! Теперь так уже не принято!" Да, приказания могут быть здравы и отменять нелепицу: лучше, чтобы министр ходил на двух ногах, носил брюки поверх трусов и не лаял. Но все равно - они приказания. А наука не может нормально жить по приказу. И если имеющий власть человек приказывает ходить на четвереньках и лаять, то вряд ли стоит его благодарить за отмену собственного приказа: ничто не помешает ему назавтра приказать ходить задом наперед и мяукать.
Такой характер, когда сегодня "принято" что-то одно (и только одно!), а завтра что-то другое, возможно, противоположное (но тоже только одно!), носило не только руководство наукой. (Написал и подумал: до чего привычной стала для нас эта нелепица: руководство наукой. Как можно наукой руководить?) Нет, кампаниями была наполнена вся идеологическая жизнь общества. Правда, и по сей день в связи с каждой кампанией нас заверяют, что это не очередная кампания, а глубокая, научно обоснованная, единственно верная и рассчитанная надолго политика. О кампаниях писал Маяковский еще в 1925 году:
"Лицом к деревне" -
заданье дано, -
За гусли,
поэты-други
Поймите ж -
лицо у меня одно -
Оно лицо,
а не флюгер.
Но власть мечтала, чтобы ученый, писатель, художник был именно флюгером, чтобы на вопрос старой анкеты "Были ли колебания в проведении генеральной линии партии?" он мог, но не посмел ответить: "Колебался вместе с ней". Как руки царя Мидаса превращали в золото и умерщвляли все, к чему он прикасался, так и лучшие на первый взгляд постановления умерщвляли все живое, даже тогда, когда, казалось, боролись с мертвечиной.
Итак, в 1934 году "партия и правительство" приказали впредь изучать в школе историю последовательно. Нет учебников? Не беда. Было решено собрать историков в бригады и поручить им немедленно написать учебники. Для начала - конспекты. Увы, высокой партийно-правительственной комиссии конспекты не понравились. Выводы комиссии были изложены в любопытном документе, написанном в августе того же 1934 года: "Замечания товарищей Сталина, Кирова и Жданова".
Ни один из трех авторов не был историком-профессионалом, ни один из них не написал ни одной, даже популярной статьи по истории, но суждения их тем не менее были резки и определенны. Существенно, что хотя об ошибках Покровского здесь пока не говорилось, но в "Замечаниях" были подвергнуты критике многие положения, заимствованные авторами конспектов у Покровского.
"Замечания" оставались еще полтора года неопубликованными. Только в январе 1936 года, когда было издано новое Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) о преподавании истории в школе, появились в печати "Замечания" Сталина, Кирова и Жданова. Школа Покровского в новом постановлении осуждалась уже столь же безоговорочно, сколь и неаргументированно.
"То обстоятельство, что авторы указанных учебников продолжают настаивать на неоднократно уже вскрытых партией и явно несостоятельных исторических определениях и установках, имеющих в своей основе известные ошибки Покровского, Совнарком и ЦК не могут не расценивать как свидетельство того, что среди некоторой части наших историков, особенно историков СССР, укоренились антимарксистские, антиленинские, по сути дела ликвидаторские, антинаучные взгляды на историческую науку".
И далее:
"Эти вредные тенденции и попытки ликвидации истории как науки связаны в первую очередь с распространением среди некоторых наших историков ошибочных исторических взглядов, свойственных так называемой "исторической школе Покровского".
В этих текстах обращает на себя внимание не только то, что здесь впервые в открытой печати были осуждены взгляды Покровского. Буквально каждое слово, каждое выражение этого постановления - яркое свидетельство того, какие представления о роли историка существовали у власть имущих. Из постановления следует, что именно партия, а точнее - Политбюро, определяет, какие воззрения на сущность феодализма и на восстание декабристов, на Киевскую Русь и на Смутное время являются научными, а какие - антинаучными. Настаивать же на уже "вскрытых" "определениях и установках" - непростительный грех. Но это текст, а подтекст еще интереснее.
Партия заблуждения историков "вскрывает": они, следовательно, либо сами не понимают, что пишут, а лидеры открывают им глаза, либо тщательно маскируют свое антиленинское нутро. Заняты же историки не исследованиями (этого просто не могут понять Сталин и его люди), а тем, что создают "определения" и, главное, "установки". Это последнее словечко - классика "новояза".
Откроем Даля: там "установка" определяется только как некое действие, например "установка мельницы". Зато вышедший в 1940 году Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова дает уже новые значения, в том числе: "Принципы, директива, руководящее указание" с пометой "нов." и приводит пример: "Центр дал новые установки для составления плана" [26]. Итак, на основе "установок" партии историк-ученый (или, во всяком случае, автор учебника) дает, в свою очередь, "установки" всей массе учителей.
Увы, установка на установки оказалась удивительно живучей в общественном сознании. Сколько раз я терялся, не зная, как ответить на вопрос из аудитории: "А какова официальная точка зрения на...?" (Ивана Грозного, Ивана Калиту, Лжедмитрия...) Как часто слышишь требования учителей: "Дайте нам четкие указания, как преподавать. А то в одних статьях читаешь одно, в других - другое". Насильственное внедрение установок привело сегодня к тоске по установкам.
И еще один момент. В постановлении говорится об "известных ошибках Покровского". Кому они известны? Где о них говорилось? Не те ли же люди, которые принимали постановление, всего четыре года тому назад санкционировали сообщение ЦК ВКП(б) о смерти выдающегося ученого-марксиста, провожали его в последний путь на Красной площади? Ведь на траурном митинге присутствовали Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, Андреев... Если взгляды покойного были антиленинскими, то не виновны ли в том, что они не были "вскрыты" до сих пор, члены ЦК, а не историки - ученики Покровского? Попробовал бы еще в 1932 году кто-нибудь из историков - членов партии сказать о Покровском десятую долю того, что теперь писал о нем ЦК: в лучшем случае он был бы исключен из партии с клеймом врага ленинизма. Да, вчера было принято одно, сегодня - другое.
Прошло немного времени, и носители "антиленинских" взглядов один за другим попадают в тюремные камеры, а затем одни погибают под пулями энкаведешных палачей, другие - в лагерях. Их уцелевшие коллеги писали о них так:
"Прикрываясь антиленинскими взглядами М. Н. Покровского, многие представители этой «школы», ныне разоблаченные троцкистско-бухаринские наймиты фашизма, разваливали исторический фронт, ведя вредительскую и контрреволюционную работу в научных учреждениях...",
"Так называемая «школа Покровского» не случайно оказалась базой (курсив подлинника. - В.К.) для вредительства со стороны врагов народа, разоблаченных органами НКВД, троцкистско-бухаринских наймитов фашизма, вредителей, шпионов и террористов, ловко маскирующихся при помощи вредных, антиленинских исторических концепций М. Н. Покровского",
"...оголтелая банда врагов ленинизма долго и безнаказанно проводила вредительскую работу в области истории" [27] .
14 ноября 1938 года - новое Постановление ЦК ВКП(б) "О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском "Краткого курса истории ВКП(б)":
"В исторической науке до последнего времени антимарксистские извращения и вульгаризаторство были связаны с так называемой «школой» Покровского..."
Тогда же появился удивительный двухтомник: две его части носили похожие, но не одинаковые названия: первая - "Против исторической концепции М. Н. Покровского" (1939), вторая - "Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского" (1940). Интересен состав авторов. Здесь и чудом уцелевшие ученики Покровского, предающие анафеме своего учителя: будущие академики А. М. Панкратова и М. В. Нечкина, А. Л. Сидоров, и вернувшиеся недавно из ссылки С. В. Бахрушин, В. И. Пичета, А. Н. Насонов, и случайно оставшиеся на свободе ученые старой школы К. В. Базилевич, С. В. Юшков... Особняком среди авторов стоит академик Борис Дмитриевич Греков.
Историк старой школы (1917 год он встретил 35-летним приват-доцентом Петербургского университета), отпрыск старого казачьего дворянского рода, Борис Дмитриевич, естественно, не был в восторге от революции и в 1918 году оказался в Крыму, занятом войсками белых. Однако он не сел на пароход, увозивший белогвардейцев в Турцию, а в 1921 году вернулся в Петроград. Неблагодарное занятие гадать о внутренних мотивах деятельности человека. Но не может не насторожить та быстрота, с которой Греков адаптируется к новым условиям жизни. Уже в 1926 году он становится депутатом Ленинградского Совета. Его почти не затронули репрессии 1930 года (он был арестован, но еще в ходе следствия признан невиновным и освобожден), а в 1932 году профессор Греков уже выступает как основной докладчик на научной сессии, посвященной общественному строю Древнерусского государства: "Рабство и феодализм в Киевской Руси". В этом докладе Греков уже не в первый раз клянется в верности марксизму. Недаром М. Н. Покровский снисходительно поощрил Грекова, видя в его (и другого крупного ученого - А. Е. Преснякова) трудах показатель "стихийной тяги к марксизму русских историков буржуазного происхождения" [28]
Возможно, именно этому сочетанию: профессионализма, идущего от старой школы, официального принятия марксизма и отсутствия прямых связей со школой Покровского Греков был обязан своим неожиданным взлетом: в 1934 году он избирается членом-корреспондентом АН СССР, уже на будущий год - академиком, а после ареста в 1937 году старого большевика Н. М. Лукина возглавляет Институт истории АН СССР. Впоследствии Б. Д. Греков был директором Института славяноведения (не оставляя директорства в Институте истории), академиком-секретарем Отделения истории АН СССР, депутатом Верховного Совета РСФСР...
В трудах Б. Д. Грекова сегодняшнего читателя поражает сочетание широкой эрудиции и высокой профессиональной культуры со схематизмом выводов, точно укладывающихся в прокрустово ложе формационного учения в том виде, в каком оно было изложено в "Кратком курсе истории ВКП (б)". Один историк, работавший в довоенные годы под руководством Б. Д. Грекова, однажды рассказал мне, как Б. Д. спрашивал его наедине:
- Вы же партийный, посоветуйте. Вы должны знать, какая концепция понравится Ему.
И показывал на портрет Сталина, висевший на стене кабинета. Прав был Леонид Мартынов: "Из смирения не пишутся стихотворения". И научные труды тоже.
Не потому ли большинство концепций Б. Д. Грекова не принимает сегодняшняя историческая наука?
Но вернемся к сборнику. Надо сказать, что две ученицы Покровского - Анна Михайловна Панкратова и Милица Васильевна Нечкина, разоблачая, как было приказано, своего учителя, все же постарались смягчить посмертный удар. Так, А. М. Панкратова постоянно отделяет личность Покровского от его взглядов, а деятельность его самого от деятельности его учеников - "лжеисториков", которые "под флагом теоретических и исторических «дискуссий»... нередко протаскивали прямую троцкистскую контрабанду".
Панкратова не отрекается от своего учителя, когда пишет, что "критика концепции М. Н. Покровского и его исторических взглядов для его бывших учеников должна быть и самокритикой" (курсив Панкратовой. - В.К.), и в сноске даже честно ссылается на собственную статью "М. Н. Покровский - большевистский ученый", опубликованную в 1932 году. Она не раз подчеркивает, что Покровский после революции "стал советским (курсив Панкратовой . - В.К.) ученым, одним из организаторов советского просвещения и советской науки", что, порвав в 1918 году с "левыми коммунистами", Покровский "остался верен делу социалистической революции". А. М. Панкратова даже решилась признать отдельные научные заслуги Покровского:
"Многие общепринятые в буржуазной науке точки зрения М. Н. Покровский оспорил, в другие внес важные дополнения и поправки, некоторые вопросы вообще разработал впервые... Плодотворным для дальнейшего изучения русской истории было и то, что в "Русской истории" Покровского резче, чем раньше, ставились вопросы классовой борьбы".
Вина Покровского, по мнению его ученицы, состояла не в злонамеренности, а в том, что, хотя "в последние годы своей жизни он стал частично на путь самокритики своих прошлых ошибок и своих исторических взглядов", этот процесс остался незаконченным, ибо "он слабо работал "пылесосом" и недостаточно "проветривал" все уголки своего мировоззрения" [29]
В отличие от Панкратовой М. В. Нечкина предпочла не припоминать, что училась у Покровского, но, по крайней мере, в одной из двух статей (в сборнике ее перу принадлежат две) рискнула написать, что Покровский впервые поставил вопрос о "влиянии восстания Пугачева на последующую политику правительства", и добавить: "Это является его заслугой" [30]
Но все же эти ученицы Покровского, как и другие авторы сборника, главной своей задачей поставили показать не только ошибочность, но и политическую вредоносность взглядов Покровского. Что ж, он мог бы гордиться своими учениками, они хорошо усвоили его основные уроки: история - наука политическая, партийная, а указания ЦК по научным вопросам должно выполнять, как приказы командира на фронте. Недаром он чаще говорил "исторический фронт", чем "историческая наука".
На первый взгляд еще более печальное впечатление производят статьи тех ученых старой школы, которых еще несколько лет тому назад предавали анафеме, а то и сажали. Неужели они не испытывали чувства неловкости за то, что им удалось взять реванш при помощи тех же методов, которые применялись против них? Неужели никто из них не понимал, что он пляшет радостный танец на костях поверженных врагов? Что научная дискуссия снова завершится в тюремной камере?
Нет, не берусь судить этих людей. Не только потому, что у многих из них учился и сохранил о них благодарную память. Хотя и это важно.
Из авторов этого сборника я лучше других знал Сергея Владимировича Бахрушина и его ученика Константина Васильевича Базилевича. С К. В. Базилевичем я встретился еще школьником, когда он пришел к нам, в исторический кружок Московского дома пионеров. Потом первокурсником слушал его лекции, два года занимался в его семинаре, побывал и у него дома. Это был высокий, красивый, элегантный человек с офицерской выправкой: К. В. кончил Киевский кадетский корпус, был кадровым офицером старой армии. В первую мировую войну он командовал батареей, получил несколько высоких боевых наград. Еще до 1914 года он был летчиком-спортсменом, а в войну, говорят, и военным летчиком. Историю К. В. любил с детства, увлекался ею еще кадетом, и после революции в возрасте 26 лет поступил в Московский университет. Он умер скоропостижно, 58-летним, в 1950 году, и через два года вышла из печати его до сих пор не потерявшая научного значения монография о внешней политике России второй половины XV века. Судьба пощадила Базилевича: он не был арестован лишь благодаря тому, что за несколько лет до разгрома "буржуазных" историков ушел из исторической науки, а вернулся туда только после 1934 года.
Через неделю после смерти Базилевича умер его университетский учитель С. В. Бахрушин. Именно Базилевич представил меня, 13-летнего школьника, Сергею Владимировичу. Лекции Бахрушина, которые мы слушали на первом курсе, остались одним из самых ярких воспоминаний нашей студенческой жизни. Но подчеркиваю: дело не только в личных пристрастиях. И не в том, что труды и С. В. Бахрушина, и К. В. Базилевича, и многих других авторов этого малопривлекательного сборника до сих пор живут в науке.
Нужно понять психологию этих людей. Одни из них только что вернулись из ссылки, не реабилитированные, а лишь помилованные. Другие понимали, что лишь чудом избежали ареста. Они хорошо знали, что времена репрессий не миновали. Напротив, на их глазах разворачивалась трагедия 37-го года. Им было ясно, что путь назад, причем не обязательно в ссылку, а и в лагерь, им не заказан. Старая пословица, советующая не отказываться от тюрьмы, никогда не была так актуальна, как в те годы.
Но и к страху не сведешь мотивы их действий. Вчера они еще были гонимы, а каждое слово, сказанное или написанное ими, трактовалось как улика. Сегодня их бывшие гонители осуждены и прокляты. Вчера еще было опасно сказать, что в старой России не все было плохо, что не только звон цепей и свист кнута характеризовали ее жизнь. Сегодня уже говорят и пишут об исторических заслугах русского народа, а их умаление становится "вражеской вылазкой".
Недаром Б. Д. Греков в заключительной части своей статьи в сборнике обвинял Покровского в том, что он "сыграл на руку тем, кто хотел видеть в России варварскую страну, создавшуюся где-то на варварском северо-востоке, не имеющую права включиться в число европейских государств". И приходил к выводу: "Отрицание факта существования Киевского государства (на самом деле Покровский лишь разошелся с Грековым по вопросу о характере государственной власти в Киевской Руси. - В.К.) лишает нас сильного оружия в борьбе с извращениями прошлого народов нашего Союза" [31].
Конечно, многим авторам сборника было понятно, что это уже перехлест, что та или иная оценка социального и политического строя Руси IX-XII веков не может быть "на руку" или не "на руку" неким "врагам", что, во всяком случае, не от того, кто может использовать исторические факты в своих целях, зависит историческая истина. Но эти преувеличения казались несущественными, извинительными по сравнению с тем походом против всего национального, который был развернут Покровским и его учениками всего лишь несколько лет тому назад.
Да и можно ли было не радоваться тому, что из бесправных политических ссыльных они сами теперь превратились в почтенных и уважаемых профессоров, за статьями которых охотятся редакции, чьим словам внимают студенты... Мой научный руководитель по аспирантуре Валентин Николаевич Бочкарев, ученик Ключевского, арестованный по тому же делу историков, но отделавшийся лишь несколькими месяцами тюремного заключения ("За меня заступилась Вера Николаевна Фигнер, соседка моей матушки по имению", - вспоминал он), рассказывал мне, как после разгрома школы Покровского его наперебой приглашали разные вузы страны, даже из Средней Азии. "Нам такие люди, как вы, сейчас особенно нужны", - говорили ему.
Трудно отказаться от реванша, трудно не порадоваться посрамлению тех, кто некогда лишил тебя доброго имени и отправил в тюрьму. И люди, великолепно знавшие историю, в том числе распространенность известного мифа о добром царе и дурных боярах, легко дали себя уговорить, что дурные бояре сгинули в 1937-1938 годах, а добрый царь - великий и мудрый товарищ Сталин восстановил попранную справедливость. Недаром, когда умер С. В. Бахрушин (через 20 лет после ареста), то хоронили академика Академии педагогических наук, члена-корреспондента АН СССР, лауреата Сталинской премии, заслуженного деятеля науки РСФСР, награжденного орденом Трудового Красного Знамени и медалями, руководителя сектора в ведущем научном учреждении - Институте истории АН СССР.
Так что же не устроило Сталина в покорном Покровском и его учениках? Думается, прав американский историк Дж. Энтин, когда возражает против мнения, что "Покровский символизирует противостояние Сталину". Энтин прав и когда подчеркивает, что и Сталин и Покровский "придерживались взгляда, что наука в правильном понимании является боевым оружием в политической борьбе", что от Покровского "Сталин умел добиваться... худшего, на что он был способен". Показал Энтин и роль, которую сыграли в ниспровержении Покровского Ярославский и Каганович [32].
Несколько слов о них. Емельян Ярославский - одна из самых мрачных фигур в истории отечественной культуры. И не только культуры. Наследственный революционер (Ярославский родился в Чите в семье политического ссыльного), он был членом социал-демократической партии с основания и после ее раскола сразу же примкнул к большевикам. После революции у него были три основные области деятельности. Во-первых, он стал одним из основателей и руководителей Союза воинствующих безбожников, так сказать, главным атеистом страны. Его книги, статьи, выступления на антирелигиозные темы пронизаны духом нетерпимости; он не спорит с религией, а высмеивает ее и унижает как верующих, так и служителей церкви.
Современные ревнители почвенничества легко могли бы сконструировать (и конструируют) удобную для них схему: еврей Ярославский (Губельман) травит христиан. Боюсь их огорчить: к иудейской религии неистовый Емельян относился не лучше, а его "Библия для верующих и неверующих" - это дурно пахнущее издевательство над священной книгой и иудаизма и христианства. Вторая ипостась Ярославского - один из руководителей Центральной Контрольной Комиссии, а потом - Комитета партийного контроля. В этом качестве он штамповал исключения из партии "врагов народа" и их родственников и друзей.
Но здесь нас интересует третья сфера деятельности Ярославского - история партии. Хотя после выхода в свет "Краткого курса истории ВКП (б)", в написании которого он активно участвовал, его авторские сочинения были фактически запрещены ("Краткий курс" стал единственной канонической историей партии), в становлении сталинской концепции истории партии он сыграл одну из ведущих ролей. До конца своих дней Ярославский был влиятельным и почитаемым сановником: академик с 1939 года, руководитель лекторской группы ЦК ВКП (б) и кафедры истории партии Высшей партийной школы, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК... В конце 1943 года его торжественно хоронили на Красной площади. Сегодня труды "академика Ярославского" прочно забыты.
Л. М. Каганович известен достаточно хорошо. Вызывает лишь удивление, почему из всех членов сталинского Политбюро именно ему было поручено выступить в 1931 году с докладом, опубликованным в "Правде": "За большевистское изучение истории партии". Ведь ни до, ни после Каганович не претендовал на роль теоретика: крепкий организатор, "железный нарком", безжалостный руководитель партийных чисток, арестов местных руководителей... Но не историк.
И все же, думается, дело было не в Ярославском (для него Покровский и его ученики были соперниками) и не в Кагановиче, лишь выполнявшем приказ вождя. Все гораздо глубже. Во-первых, Покровский и его ученики никогда не рассматривали Сталина как четвертого классика марксизма-ленинизма, не вводили его сочинения в корпус своего священного писания. Восхваляя Сталина как вождя партии, как мудрого руководителя, они в своих теоретических спорах не приводили цитат из его произведений. Но это была не такая уж беда: научились бы. Тем более что те из учеников Покровского, которым было дозволено покаяться и остаться в исторической науке, стали цитировать Сталина исправно. Как, впрочем, и все остальные: иначе работа просто не вышла бы в свет.
Кстати, о цитировании. Сделать любое высказывание Сталина основополагающим - особое умение, в котором порой доходили до мастерства. Приведу один пример из книги, вышедшей уже после смерти Сталина, но готовившейся к печати еще при его жизни:
"Подлинно научная оценка значения татаро-монгольского завоевания для Руси и борьбы русского народа против ига татаро-монгольских феодалов дана классиками марксизма-ленинизма. Их указаниями опровергается ложный тезис дворянско-буржуазной историографии (указаниями, оказывается, можно опровергнуть тезис! - В.К.) о прогрессивности татаро-монгольского владычества.
Глубокую оценку отрицательного значения татаро-монгольского ига для русского народа дал И. В. Сталин в связи с характеристикой нашествия австро-германских империалистов на Украину в 1918 году. «Империалисты Австрии и Германии, - писал И. В. Сталин, - несут на своих штыках новое, позорное иго, которое ничуть не лучше старого, татарского»" [33]
Но была еще одна, куда более существенная причина осуждения Покровского. Его концепции не соответствовали новой идеологической ситуации. С середины 30-х годов правительственная пропаганда делает поворот - от мессианства ("мировая революция") к имперскости ("великий русский народ"). Прославление "ленинско-сталинской дружбы народов нашей страны" на практике сочеталось с неумеренным восхвалением одного народа как "старшего брата" и тем самым унижением других народов. Колониальную политику царизма, захватнические войны, освободительные движения народов СССР начинали постепенно замалчивать, а Советский Союз все чаще стал выступать как наследник старой России. Кульминацией такой пропаганды, было время Великой Отечественной войны. С одной стороны, пресса и радио говорили об участии в защите Родины воинов всех национальностей, с другой - о подвиге именно русского солдата.
В выступлении на Красной площади 7 ноября 1941 года Сталин призвал советских воинов вдохновляться образами великих предков и перечислил исключительно русских полководцев - от Александра Невского до Кутузова. Ни украинские, ни грузинские, ни армянские, ни какие бы то ни было другие "великие предки" названы не были. А накануне, 6 ноября, выступая с докладом о годовщине Октябрьской революции, Сталин опять-таки говорил о "нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова" [34], то есть только о деятелях русской культуры. В переписке с Рузвельтом и Черчиллем во время войны Сталин не случайно не раз писал о "русской", а не о "советской" точке зрения.
Такая смена вех была вызвана несколькими причинами. Сыграло, несомненно, определенную роль стремление Сталина накануне войны в условиях, когда стало ясно, что мировая революция не состоится, избрать в качестве объединяющей народ идеи патриотизм, а не мессианизм. В этом есть свой резон. Но все же остается сомнение, правильный ли путь к сердцам людей избрал главный специалист по национальному вопросу. "Великому русскому народу" кадили фимиам, льстили его национальному чувству, надеясь, что он сможет забыть и простить ужасы коллективизации и раскулачивания, голода начала 30-х годов, жестокие расправы с людьми, тотальную слежку, короче - террор. Национальные же чувства других народов страны, не удостоившихся эпитета "великий", диктатор игнорировал.
Думается, не националистическая пропаганда, а реальное понимание смертельной опасности, надвинувшейся на всю многонациональную страну, ненависть к гитлеровцам, для которых все народы нашей страны были "низшей расой", объединили народы Советского Союза, которые и сумели вместе разгромить гитлеровскую Германию.
Для Сталина же не менее существенной была ставка на установление преемственности между царской Россией и своим режимом. Ему импонировали и самодержавие, и, особенно, наивный монархизм масс, обожествление государя. Недаром вождю понравилась книга Е. В. Тарле "Наполеон" о революционном генерале, ставшем "императором Французской республики". Не скрывавший, несмотря на множество оговорок, своего преклонения перед сильной личностью французского диктатора, академик Тарле был не только прощен, но стал одним из самых влиятельных советских историков. Хорошо помню его на кафедре - в пиджаке, украшенном несколькими медалями лауреата Сталинской премии. (И все же потом, в конце 40-х годов, и Тарле стал мишенью для проработки: во-первых, еврейская фамилия звучала теперь одиозно, а во-вторых, тот самый Тарле, которого в 1930 году обвиняли в русском шовинизме, теперь оказался недостаточно националистичен: ныне Наполеона надлежало изображать только при помощи черной краски.)
Приверженность Сталина к формам жизни его молодости объяснялась не только старческой ностальгией, хотя и этот момент нельзя сбросить со счетов. Сталин планомерно использовал для целей административно-командной системы опыт аппарата самодержавия. Нет, не случайно именно в 40-е годы красные командиры превращаются в офицеров и генералов, а наркомы в министров, на плечах военных, железнодорожников, юристов и даже дипломатов появляются погоны (а ведь совсем недавно в ходу было презрительное "золотопогонник"!), форма одежды в армии и флоте начинает подозрительно напоминать царскую, а суворовское училище в 1943 году предписывается создавать по образцу кадетских корпусов...
В послевоенные годы шовинистическая кампания усилилась. В учебниках, выпущенных до войны, честно писали о завоевательной политике царского правительства. Правда, еще в конце 30-х годов стали говорить, что завоевание Россией было для народов окраин Российской империи "наименьшим злом". В этом утверждении иногда была и доля истины. Но только иногда. Теперь же, пусть и наименьшее, но зло было оставлено, а в ход была пущена универсальная и в большинстве случаев лживая формула "добровольное присоединение". Народные движения, направленные против царского колониализма, стали рассматривать как антирусские и реакционные.
Пожалуй, самым ярким примером такой фальсификации истории была оценка борьбы горцев Кавказа под руководством Шамиля. В тех учебниках истории, по которым я учился в школе, Шамиль изображался как герой без страха и упрека (что было тоже преувеличением), вождь освободительной борьбы (что было правдой). Но вот в 1950 году наступает внезапный и резкий поворот. Азербайджанский ученый Г. Гусейнов, получивший Сталинскую премию за книгу по истории азербайджанской философии, был ее лишен через несколько месяцев, поскольку в своей монографии положительно писал о Шамиле. Вслед за тем в журнале "Большевик" (ныне - "Коммунист") появилась статья первого секретаря ЦК КП(б) Азербайджана М. Д. Багирова (впоследствии расстрелянного как сообщник Берия), в которой утверждалось, что Шамиль был агентом Англии и Турции [35]. Тем самым одновременно оправдывалось преступное выселение с Кавказа чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев. Тут же многие историки начали молниеносную перестройку. С. К. Бушуев, защитивший в свое время кандидатскую и докторскую диссертации об освободительном движении Шамиля, выпустивший на эту тему книгу (ее, кстати, осудил в своей статье Багиров), начал страстно разоблачать Шамиля и "реакционную сущность мюридизма" *.
* Воины Шамиля, имама, духовного главы мусульман Кавказа, считались его мюридами, то есть учениками.
(Когда в 1956-1957 годах на волне XX съезда был поднят вопрос о возвращении к оценке движения Шамиля как национально-освободительного, то именно Бушуев сопротивлялся больше всех.)
В 1949 году развернулась борьба с "космополитизмом". Началась она редакционной статьей "Правды" "Об одной антипатриотической группе критиков": речь шла о тех, кому не понравились откровенно бездарные пьесы А. Сурова и А. Софронова. А вскоре "безродных космополитов" и "антипатриотов" начали выискивать и "разоблачать" повсюду. Слово "космополит" эвфемистически заменяло слово "жид". Хорошо помню ход этой кампании на историческом факультете МГУ, где я тогда был студентом. Как сейчас вижу факультетскую стенгазету с карикатурами на профессоров и доцентов факультета, со статьей доцента М. И. Стишова "Главарь космополитов", посвященной академику И. И. Минцу, заведовавшему кафедрой истории СССР.
О стиле обвинений дает представление текст из журнала "Вопросы истории" за 1949 год:
"Историческая наука является одним из участков идеологического фронта, на котором кучка безродных космополитов пыталась вести свою вредную работу, распространяя антипатриотические взгляды при освещении вопросов истории нашей Родины и других стран" [36].
Разумеется, главный удар пришелся по историкам, занимавшимся советским периодом и новейшей историей. Но пострадали и другие, например Николай Леонидович Рубинштейн. Это был человек большого таланта, один из тех немногих, читая труды которых ощущаешь личность автора. Его перу принадлежат фундаментальные и острые работы по социально-экономической истории России XVIII века. Но мишенью для нападок стала его вышедшая еще перед войной книга "Русская историография", первая обобщающая советская работа по истории русской исторической науки. Даже сегодня, хотя с момента выхода книги Н. Л. Рубинштейна прошло уже полвека, она не потеряла значения. Отчет же о "проработке" в "Вопросах истории" сообщал:
"Н. Л. Рубинштейн пишет, что историческая наука в России не существовала как самостоятельная наука. Основоположниками исторической науки в России он считает немцев Миллера, Байера, Шлецера и др. Н. Л. Рубинштейн принижает русскую культуру, заявляя, что она плелась в хвосте восточной и западноевропейской. Он принижает марксистскую историческую науку перед буржуазной".
"Порочные буржуазно-объективистские взгляды проф. Рубинштейна неоднократно подвергались критике, однако он вновь счел необходимым изложить свою политически ошибочную концепцию на теоретической конференции аспирантов кафедры истории СССР МГУ".
Эти пассажи своим стилем говорят сами за себя, но все же нуждаются в некоторых комментариях. Разумеется, Н. Л. Рубинштейн не утверждал, что русской исторической науки до XVIII века не было, он лишь отмечал, что она тогда еще не выделилась в самостоятельную область научного знания, что совершенно справедливо. Рубинштейн подробно характеризовал таких русских историков XVIII века, как Татищев, Щербатов, Болтин, писал и о других. Но он отмечал и заслуги занимавшихся русской историей немецких ученых, подчеркивал, что они принесли с собой в Россию богатый опыт европейского источниковедения. Что же касается выступления на теоретической конференции, то, вероятно, речь идет о том, что, поскольку еще до кампании против космополитизма книга Рубинштейна подвергалась нападкам, Николай Леонидович был вынужден выступить с признанием ошибок, но не стал зачеркивать свой труд целиком.
Вынужденная самокритика не помогла и на сей раз.
"Профессор Н. Л. Рубинштейн, - читаем в том же отчете, - в своем выступлении сделал попытку признать свои космополитические антипатриотические ошибки... но сделал это непоследовательно. Он заявил, что взялся за работу, которая ему не под силу, он не только не сумел по-ленински переработать наследство буржуазной историографии, но, наоборот, сам оказался в плену у нее... Таким образом, всю свою многолетнюю порочную практику в научной и педагогической деятельности проф. Рубинштейн свел не только к отдельным «грубым ошибкам» объективистского характера, тогда как на самом деле его пороки коренятся не в отдельных ошибках, а в законченной системе взглядов, в концепции, чуждой марксизму-ленинизму".
Разумеется, трагична судьба ученого, безвинно подвергнутого публичному поношению. Но беда не только в этом. Дело в общем климате жизни в науке. Как отзывались все эти события на судьбе научной молодежи! От студентов и аспирантов требовали отмежевываться от своих учителей. Помню одного студента, ученика Н. Л. Рубинштейна. На комсомольском собрании его заставляли выступить с разоблачением своего учителя. Студент растерянно ответил, что критике подвергают труд по историографии, семинар же, в котором он занимался, был посвящен экономике XVIII века, а в этой области он никаких антимарксистских взглядов у Н. Л. Рубинштейна не заметил. Результат? Разгромная статья в стенгазете о беспринципности комсомольца, защищающего космополита.
Увы, другие ученики бывали менее щепетильны. Вспоминаю, например, "обсуждение" учебника истории СССР для неисторических факультетов, написанного М. Н. Тихомировым (тогда членом-корреспондентом АН СССР, впоследствии академиком) и С. С. Дмитриевым. Авторы были обвинены в "буржуазном объективизме": его приписывали тем, кто пытался честно изучать исторические источники и делать на их основании выводы и не имел к тому же отягчающего "пятого пункта" в анкете. Это было менее опасно, чем "безродный космополитизм", но все же сулило немало неприятностей. Один за другим поднимались на трибуну профессора, доценты, аспиранты и даже студенты и обличали грубые политические ошибки в учебнике. Один из дипломников М. Н. Тихомирова (он умер почтенным профессором), участник войны, член партбюро факультета, сокрушенно-умиленным голосом говорил:
- Нам, ученикам Михаила Николаевича, было тяжко и больно читать в его книге... Михаил Николаевич учил нас не этому...
О, это было умелое отмежевание: раз "учил нас не этому", значит, ученик-член ВКП(б) не утратил бдительность, а просто профессор умело маскировался.
Навсегда запомнилось заключительное слово М. Н. Тихомирова. Он вроде "признавал ошибки", но, признав, коршуном кидался на своего критика и уничтожал его иронией:
- Вот профессор Н. Н. говорит, что у меня неверно написано о том-то. Конечно, неверно. А как я мог написать верно? Ведь профессор Н. Н. уже двадцать лет пишет на эту тему докторскую диссертацию, да все никак не напишет. Вот мы и не знаем, что и как там происходило.
Прошелся Тихомиров и по молодым проработчикам:
- Здесь выступали некоторые мои ученики. И так складно, бойко говорили... Приятно слушать было. Наверно, в этом и моя заслуга есть?
Для многих из тех, кто выступил обличителем своих учителей, это была первая, но, увы, не последняя подлость на их научном пути, сломавшая их мораль, а следовательно, и погубившая их как ученых. А жаль! Многие из них были далеко не бездарны. Но не намного лучше судьба тех, кто до конца своих дней казнил себя за слабость.
А коллеги, иной раз нехотя, но все же исправно участвовавшие в разоблачении ученых, в вину которых не верили ни минуты? Не буду брать греха на душу и называть имена: многих заставляли это делать, для многих их выступления были минутной слабостью, а во многих других ситуациях они держали себя достойно. Как тот, кто не прошел через следственный изолятор, не вправе судить тех, кто дал лживые показания, так и я, бывший во времена борьбы с космополитизмом студентом, не вправе упрекать немолодых людей, хорошо помнивших 37-й год, за те или иные поступки (разумеется, если они не приняли на себя радостно роль главных громил).
Все эти кампании, проработки, "установки" ломали научную судьбу не только их жертв и не только разоблачителей. В той или иной степени оказывались искалеченными все историки, дышавшие отравленным воздухом тех лет. Как-то Константин Симонов заметил, что если бы незадолго до войны разбился самолет, в котором находились бы те военачальники Красной Армии, которые были репрессированы в 1937-1938 годах, то хотя мы все равно начали бы войну без Тухачевского, без Уборевича и других, результаты были бы гораздо менее трагичными: оставшиеся в живых не были бы заражены тем страхом, который не давал им возможности смело принимать самостоятельные решения.
Страхом совершить ошибку, страхом подвергнуться проработке были объяты и историки. Нередко именно страх, а не изучение фактов определял их научные взгляды. Судорожные поиски Б. Д. Грековым концепции, которая понравится Ему (о чем я писал несколько выше), - это не только вина, но и беда, большая человеческая трагедия крупного ученого.
Я глубоко уважаю Льва Владимировича Черепнина и как ученого, и как человека. В университете я слушал его блестящие лекции, занимался под его руководством палеографией, а потому и смею числить его среди своих учителей. К Льву Владимировичу я всегда относился с любовью. Болью за него, а не осуждением продиктованы эти строки.
Арест в молодости, тяжелая жизнь после освобождения - долгие годы он не имел права поселиться в Москве, потом боязнь потерять честным трудом завоеванное положение (профессор, заведующий сектором, член КПСС, в последние годы жизни - академик) наложили тяжелый отпечаток на его научную продукцию. Наряду с тонкими источниковедческими наблюдениями, озарениями, свежими оригинальными выводами в его трудах мы нередко находим дань идеологической обстановке времени. То это "москвоцентристская" точка зрения на процесс объединения Руси, то напряженные поиски классовой борьбы между крестьянами и феодалами даже там, где были обычные уголовные преступления, социологические схемы, тщательно подкрепленные частоколом цитат... Все это очень мало гармонировало с личностью этого интеллигентного, изысканно вежливого, острого, демократичного человека, с жадным интересом и доброжелательностью относившегося к людям.
Я, как сейчас, вижу его грузную фигуру на заседании сектора феодализма в Институте истории СССР, которым он заведовал (кстати, при нем в секторе регулярно устраивались интересные научные заседания). Холеное, спокойное лицо екатерининского вельможи, на первый взгляд оно может показаться отрешенным от происходящего. Но вот высказана яркая, нестандартная мысль: и как мгновенно оживляется лицо Л. В., словно ток пробегает по нему... Трагическая судьба!
- ТЕ, КТО ВЫСТОЯЛ
И все же находились люди не только благородные, но и смелые. Расскажу в этой связи один эпизод. Я занимался тогда в семинаре профессора Владимира Михайловича Лавровского, известного трудами по истории средневековой Англии и английской революции.
Темой моего доклада были памфлеты Лильберна, левого публициста революционной эпохи. Мне было тогда 19 лет, и я был глубоко пропитан духом времени. Использовав две статьи американских историков (чем невероятно гордился), я со страстью разоблачал их как дипломированных прислужников империализма. Сейчас я понимаю, как был огорчен В. М., знавший меня уже второй год и незаслуженно тепло ко мне относившийся. Прямо высказать все, что он думает о моей наглой бесцеремонности, В. М. мешало, видимо, несколько обстоятельств: и интеллигентная мягкость, не позволявшая ему обидеть кого бы то ни было, а особенно студента, и понимание того, что читающий свой развязный доклад мальчишка - продукт эпохи, и естественная осторожность: кто знает, какие последствия ждут беспартийного профессора, выступившего против пронизанного большевистской боевитостью доклада комсомольца. И все же В. М. сумел выразить свое отношение. Похвалив мой опус, В. М. продолжал:
- Но не кажется ли вам, что ваш доклад несколько слишком, как бы это сказать, памфлетен?
Следующие слова В. М. Лавровского будут понятны после небольшого комментария. В числе "разоблаченных космополитов" был и специалист по новейшей истории Англии Исаак Семенович Звавич. Ему ставили в вину, среди прочих обвинений, что в одной из работ, написанных в годы союза СССР с Великобританией, он не слишком "разоблачал" лейбористскую партию: ведь она входила тогда в состав правительственного кабинета союзной державы. Теперь это называлось восхвалением правых социалистов. В стенгазете, висевшей именно в эти дни на факультете, была помещена карикатура на И. С. Звавича, изображавшая профессора в виде персонажа оперетты "Свадьба в Малиновке" Яшки-артиллериста. Можно себе представить, как прозвучали в этой ситуации слова Лавровского:
- Не подумайте дурного - я глубоко уважаю Исаака Семеновича Звавича, но не кажется ли вам, что одной из причин его сегодняшних неприятностей стало несколько памфлетное направление его научного творчества?
"Глубоко уважаю"! Кого? "Разоблаченного космополита"!
И это сказано не шепотом в коридоре, а при всей студенческой группе, среди которой были разные люди.
А в коридоре, на перемене, уже наедине В. М. добавил:
- Я глубоко уважаю Исаака Семеновича. В молодости он написал несколько превосходных этюдов по средневековой аграрной истории Англии. А потом - политические статьи, конъюнктура...
Увы, я не понял преподанного мне урока, мудрое предостережение пошло не впрок: В. М. я воспринял как симпатичного, но забавного чудака, плохо ориентирующегося в острой идеологической борьбе.
Одним из историков, которому удалось отстоять свою внутреннюю свободу, был Степан Борисович Веселовский. Сформировавшийся как ученый еще до революции (он родился в 1876 году и был к 1917 году уже известным историком), избранный в 1929 году членом-корреспондентом АН СССР, а в 1946 году - академиком, Веселовский чудом уцелел от репрессий 1930 года. Кто знает, почему ему выпал тогда счастливый номер в лотерее? Быть может, дело в том, что он, судя по несколько раздраженному тону научной полемики, был в натянутых отношениях с С. Ф. Платоновым, "главой заговора", а следователи тогда еще пытались сохранить хотя бы элементы правдоподобия в сфабрикованных делах? Но хотя он не был ни арестован, ни сослан, он все же лишился постоянной работы, а в промежуток между 1929 и 1936 годами не вышла в свет ни одна его статья или книга. Впрочем, после разгрома школы Покровского Веселовский не присоединился к хору разоблачителей покойного диктатора исторической науки.
Твердость Веселовского проявилась, прежде всего, в сюжетах его исследовательских работ. Так, одной из основных его тем стала история русского боярства. Для советского историка тех лет - подозрительное пристрастие. Сталин в вошедшей в "Краткий курс истории ВКП(б)" работе "О диалектическом и историческом материализме" утверждал, что "история общественного развития есть вместе с тем история самих производителей материальных благ, история трудящихся масс", что историческая наука "должна, прежде всего, заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов" [37] Хотя эти слова прозвучали впервые в 1938 году, но уже задолго до того именно так очерчивался свыше круг дозволенных научных интересов. Без всякой надежды на публикацию Веселовский занимался исследованиями в области генеалогии, которая, по общему мнению тех лет, была призвана лишь "тешить барскую спесь".
Веселовский не только не стал марксистом, но в отличие от многих других ученых своего поколения никогда не маскировался под марксиста. В его фундаментальном труде по истории феодального землевладения почти не было цитат: всего одна из Маркса, одна из Ленина и ни одной из Сталина.
Один из собеседников Веселовского, причем совсем не принадлежавший к числу близких знакомых ученого, около 1946 года рассказывал по свежим следам о примерно таких словах Степана Борисовича: вот были люди, которые говорили, что они марксисты, и утверждали, что в прошлом в России ничего хорошего не было. Потом пришли другие люди, и тоже называют себя марксистами, и говорят, что в прошлом в России все было прекрасно. Так если сами марксисты не могут понять, в чем марксизм, что же делать нам, немарксистам?
Когда читаешь книги Веселовского, то возникает ощущение, что людям, глаза которых закрыты шорами различных концепций, ученый пытается растолковать, как обстояло дело в действительности. Ведь все было проще: достаточно заглянуть в источник, чтобы убедиться. Может быть, поэтому Веселовского нередко упрекали в том, что он не любит общетеоретических положений. Это неверно. Веселовский был только исключительно строг к фактической основе любой концепции. Он не задумывался, насколько выводы, к которым он приходит, соответствуют тем или иным аксиомам, в том числе "установкам", ибо знал, что наука - враг аксиом. Вовсе не чурался Веселовский концепций, он только считал, что они должны быть основаны на твердо установленных фактах. "...Оперирование в исторических исследованиях такими отвлеченными понятиями, как класс, социальные слои, процесс, явление и т. п., - писал Веселовский, - предъявляет к историку требования очень высокие как с точки зрения количества материалов и предварительной их критики, так и в отношении выправки логической мысли". И далее, явно говоря о советской исторической науке его времени, продолжал: "Фантастика произвольных психологических характеристик оказывается на деле часто замененной фантастикой общих фраз, столь же неубедительных и ни для кого не обязательных". В годы, когда абстрактная социологическая схема считалась первым признаком научности, а человек воспринимался как лишний и случайный штрих в общей картине исторического процесса, Веселовский писал: "Произвольные психологические характеристики действительно всем надоели, но правильно ли отказываться от них наотрез и задаваться целью писать историю без живых людей?" [38]
Главным гражданским и научным подвигом Веселовского стала его борьба против возвеличивания Ивана Грозного и его террора. Во время сталинщины, примерно с конца 30-х годов, Грозного в официальной науке рассматривали как "крупного государственного деятеля своей эпохи, верно понимавшего интересы и нужды своего народа и боровшегося за их удовлетворение", а его террор - как необходимое средство борьбы с "боярской изменой". Всякое сомнение в величии грозного царя объявлялось клеветой на патриота Русской земли. Веселовский с самого начала, когда появились только первые признаки оправдания террористической диктатуры царя Ивана, резко выступил против и продолжал борьбу до конца, даже после того, как в Постановлении ЦК ВКП(б) "О кинофильме "Большая жизнь" появился сразу ставший обязательным для цитирования восхитительный термин "прогрессивное войско опричников" [39] Два серьезных исследования по истории опричнины Веселовскому удалось опубликовать в 1940 и в начале 1946 года. Но после сентября 1946 года, когда появилось постановление ЦК, о печатании работ, в которых опричнина не восхвалялась, нечего было и думать. И тем не менее историк не прекращал своего напряженного труда. Труд этот не пропал даром: через одиннадцать лет после смерти ученого, в 1963 году, вышла в свет его книга "Исследования по истории опричнины". Ее опубликование сыграло исключительно важную роль в развитии не только исторической науки, но и общественного сознания: недаром рецензии на этот сугубо научный труд появились в литературных журналах - "Новом мире" и "Знамени". За рубежом статьей "Мифы и реальность об Иване Грозном" откликнулся в журнале "Ринашита" известный итальянский критик Витторио Страда [40].
Не надо думать, что смелость сошла с рук Веселовскому. В 1947 году вышел в свет первый том (второй том Степан Борисович не успел завершить) его фундаментального труда "Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси". Я уже писал, что в книге почти не было цитат из "основоположников", к тому же многие выводы были непривычны и разбивали укоренившиеся стереотипы. Вероятно, поэтому издательство снабдило книгу предисловием, в котором основное место было уделено критике автора за отступления от единственно верной теории. И все же: достаточно был удален от злобы дня предмет исследования. Так что трудно понять ту травлю Веселовского, которая развернулась в печати сразу после выхода книги, если не рассматривать ее как месть за работы по истории опричнины.
Ленинградский историк И. И. Смирнов озаглавил свою рецензию в "Вопросах истории" так: "С позиций буржуазной историографии". Даже критическое предисловие подверглось нападкам: оно, по мнению И. И. Смирнова, затушевывало "методологическую порочность книги".
Еще более был резок некто А. Кротов (мне так и не удалось выяснить, кто он такой; другие его статьи мне не попадались), который в "Литературной газете" писал, что, "критикуя методологические установки автора, составители «предисловия» не дают им острой большевистской оценки" и "расшаркиваются" перед Веселовским. "Читая книгу С. Б. Веселовского, - восклицает Кротов, - трудно поверить, что автор ее - советский ученый" [41]
От разносной критики Веселовского не спасли ни звание академика, ни даже то, что только что, в 1945 и 1946 годах, он был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Организаторы кампании против Веселовского добились поставленной перед ними цели: Веселовского перестали печатать. В 1948-1950 годах не вышло в свет ни одной написанной им строчки, а в 1951 году, незадолго до кончины ученого (он умер в январе 1952 года), были напечатаны подготовленные им к публикации документы по истории России XVII века...
Веселовский - лишь один, быть может, наиболее яркий, пример мужественной стойкости ученого. Но были и другие.
Вспоминаю один эпизод из своего детства. Это было во время войны. Я занимался тогда в историческом кружке Московского дома пионеров, где руководителем был замечательный педагог Александр Феоктистович Родин (подробнее о нем - несколько ниже). Как-то Александр Феоктистович пригласил к нам Сергея Константиновича Богоявленского, одного из старейших наших архивистов, члена-корреспондента АН СССР. С. К. Богоявленский выглядел уже не просто старым, а дряхлым, говорил тихо и без особого блеска. Не помню уж почему, но зашел разговор об Иване Грозном, и я, начитавшийся панегириков этому царю, стал хвалить опричнину. "Но ведь опричнина - это террор", - с латинским семинарским ударением на первом слоге возразил С. К. Думаю, ударение было не случайным: ведь по латыни terror - ужас. "Ну и что?" - подумал ученик советской школы, бодро отвечавший на уроках и о прогрессивном якобинском терроре, и о красном терроре времен гражданской войны, читавший в газетах о том, что врагов народа надо уничтожать, как бешеных собак. Точно не помню, видимо, примерно так я защищал опричнину. "Но ведь это террор", - снова повторил Богоявленский, уверенный, что ужас нельзя одобрять. Нет, я не понял тогда старого ученого. Но сегодня я восхищаюсь его мужеством.
Один из коллег рассказывал мне, как в первом послевоенном году, в 1946-м, профессор историко-архивного института Павел Петрович Смирнов так говорил со студентами об Иване Грозном, что они холодели от ужаса: не перед деяниями царя, а перед возможной судьбой профессора. Мало того, что было опасно осуждать "великого патриота", но параллели были слишком очевидны. Я никогда не видел П. П. Смирнова, знаю его только по работам. Уверен, что он был смелым и честным человеком. Одно из свидетельств тому - его книга "Посадские люди и их классовая борьба". Только ее название - дань времени и моде. А содержание? В то время, когда всю историю пытались свести к резко выраженному классовому антагонизму, П. П. Смирнов совершенно спокойно писал об "одиначестве", союзе между посадскими людьми и боярами во время московских мятежей - городских восстаний XVII века.
Но, быть может, еще труднее, чем Веселовскому и Смирнову, было проявить мужество и стойкость человеку, не увенчанному высокими академическими званиями. Я говорю об Александре Феоктистовиче Родине, в историческом кружке которого я занимался с 1942 года. А тесные контакты с этим замечательным человеком я сохранил вплоть до его кончины в 1963 году. В голодной и холодной военной Москве наш исторический кружок был удивительным оазисом культуры и раскованной мысли. Мы свободно спорили обо всем, жили напряженной интеллектуальной жизнью. У нас в гостях постоянно бывали крупные ученые: Александр Феоктистович никогда не боялся, что от общения с ними может как-то померкнуть в наших глазах его авторитет. Часто мы приходили к нему домой и рылись в книгах его обширной библиотеки, хорошо знали его домашних; сын Александра Феоктистовича Олег, наш сверстник, был нашим приятелем, хотя и не бывал в кружке.
Но здесь я хочу вспомнить о двух эпизодах, не связанных с наукой непосредственно. Шла война, и мы писали работы на конкурс "Города-герои Великой Отечественной войны". Для двоих кружковцев, вывезенных из блокадного Ленинграда, работами стали их воспоминания: Александр Феоктистович думал о создании новых исторических источников. Один из ленинградцев читал эти свои воспоминания на заседании кружка. Он дошел до самого трагического места: умирающая от голода мать говорит ему перед смертью:
- Саша, продай мебель и купи хлеба.
Александр Феоктистович вскинулся и взволнованно прервал Сашу:
- Кто же покупал мебель в осажденном городе?
- Как кто? А пекаря.
- Ты обязательно напиши об этом. Это тоже история, и об этом тоже должны знать люди.
Такой урок запомнился навсегда: на конкретном примере мы увидели, что правда истории неделима, ее нельзя селектировать, сохраняя ту, что "нужна", и отбрасывая неудобную. Второй пример я привожу не без некоторого смущения: а не воскликнут ли люди из "Памяти" или из "Нашего современника": "А, понятно, масон!"
Короче: в возрасте тринадцати лет мы с моим приятелем решили создать масонскую ложу, хотя наши сведения о масонстве ограничивались тем, что можно прочитать в "Войне и мире". Был написан устав, а себе самим мы присвоили громкий титул, который нельзя найти в реальной масонской иерархии: братья-философы. Не знаю, как узнал о ложе Александр Феоктистович. Впрочем, мы особенно не скрывались, да и тайн от любимого учителя у нас практически не было. Не знаю (или не помню), о чем он говорил с моим другом. Но мне А. Ф. сказал следующее:
- Ты знаешь, один мой знакомый недавно вернулся из командировки на Дальний Восток и видел там лагеря. Ты думаешь, там нет твоих сверстников? А ты знаешь, что один из наших уже там? (Речь шла о будущем известном писателе и публицисте, ныне покойном Камиле Икрамове, нашем кружковце, который исчез неясным для нас образом, а как потом я узнал, был арестован, едва ему исполнилось шестнадцать.) А ты знаешь, что после этого на Лубянке на меня и на всех вас заведены досье? Смотри, ты играешь с огнем.
Если бы Александр Феоктистович стал мне втолковывать, что масоны - это плохо, что философский материализм всесилен, ибо верен, а идеализм - заблуждение, то, вероятно, из мальчишеского духа противоречия я бы стоял на своем и даже еще больше укрепился в "масонстве". Но наш руководитель пошел по другому пути, более результативному. А ведь можно себе представить, что ждало бы Александра Феоктистовича, отца двоих детей, если бы я разболтал содержание нашего разговора. И главное - мог я это сделать совсем не злонамеренно: по-моему, А. Ф. даже не предупредил меня, что надо хранить тайну. Для него тогда было важно только одно: спасти своего ученика. Кстати, когда через несколько лет, уже студентом, в сталинском лагере оказался мой "брат-философ", то Александр Феоктистович писал ему туда и посылал книги.
Мне давно хотелось посвятить светлой памяти моего учителя что-нибудь из написанного мною. Я не случайно избрал для этого помещенный в этой книге очерк об угличском следственном деле: Александр Феоктистович очень любил такие "тайны истории", а делом о смерти царевича Дмитрия занимался и специально.
- ПОСЛЕ СТАЛИНА
Но вот наконец умер Сталин. Пахнуло свежим воздухом, наступила оттепель. Конечно, не весна. Как писала тогда Юнна Мориц: "О, топоры не лед, они не тают". Возможности историков расширились, начались острые дикуссии по прежде запретным темам; западных историков перестали считать всех, как одного, фальсификаторами: некоторых перевели в разряд честно заблуждающихся. Кое-кто из них даже приезжал сюда и мог выступить, правда, нередко перед специально отобранной аудиторией. И все же рамки дозволенного оставались. Они стали шире, выход за их пределы карался уже не по конвойному принципу: "Шаг вправо, шаг влево - стреляю без предупреждения". Людей не арестовывали за научные взгляды, даже редко увольняли с работы. Но проработки остались. Опальных историков на некоторое время переставали печатать, запрещали им совместительство в вузах, старались искоренять ссылки на их работы в статьях и книгах коллег.
Можно привести не один пример таких проработок. Разгон редколлегии "Вопросов истории", осуществленный под непосредственным руководством М. А. Суслова, стоивший жизни главному редактору журнала академику Анне Михайловне Панкратовой (она вскоре умерла от инфаркта). Погром группы ученых, занимавшихся нестандартно изучением социальных отношений в России накануне, революции (А. Я. Аврех, П. В. Волобуев, К. Н. Тарновский и др.). Исключение из партии А. М. Некрича за книгу о начале Великой Отечественной войны. Проработка А. Я. Гуревича за книгу о генезисе феодальных отношений в Западной Европе.
Лучше других аналогичных "дискуссий" как непосредственный свидетель и отчасти участник событий я знаю историю с работой моего учителя Александра Александровича Зимина, посвященной "Слову о полку Игореве".
Оригинальный и глубокий ученый, наделенный острым скептическим умом, Зимин пришел к выводу, что "Слово о полку Игореве" - не средневековое произведение XII века, а гениальная стилизация второй половины XVIII. Дело не в том, прав был Зимин или нет, хотя я лично убежден его аргументами. Дело в другом. Ведь и кроме Зимина были ученые, сомневавшиеся в традиционной датировке "Слова...", относившие его то к концу XVII, то к XVIII веку. Но, зная религиозно-фанатическое отношение к этому памятнику, помня, как обвиняли в антисоветизме крупнейшего французского слависта Андрэ Мазона, считавшего "Слово..." подделкой, они не решались ни обнародовать свои сомнения, ни потратить годы напряженного труда на серьезное исследование, сулящее лишь тернии без лавров. Зимин же считал, что, выступив открыто со своей точкой зрения, он поможет утвердить мысль, что в науке нет запретных тем, нет источников, которые не могли быть подвергнуты критическому анализу.
Обширная монография, объемом в своем первом, тогдашнем варианте около 700 машинописных страниц, была написана и представлена в Отделение истории АН СССР. Долгие переговоры, нудные бюрократические игры - обсуждения, согласования, виляния... И наконец, по тем временам, победа: в 1964 году на ротапринте было напечатано 100 пронумерованных экземпляров, только для "служебного пользования". Была организована дискуссия - с заранее отобранным составом участников. Некоторое количество разрешили пригласить и Зимину. Так я, молодой кандидат наук, оказался владельцем экземпляра (который было ведено сдать по окончании дискуссии) и участником обсуждения.
У входа в зал Института истории, где обсуждалась книга о "Слове о полку Игореве", стояли крепкие ребята - младшие научные сотрудники из сектора истории советского общества, такие, кого не интересовало особенно средневековье, и строго проверяли приглашения у входящих. При мне, например, не пустили в зал замечательного ученого, археолога и антрополога Михаила Михайловича Герасимова.
Дискуссия шла три дня, один председатель сменял другого, но никто из них по тематике своих работ не имел отношения к обсуждавшейся проблеме:
академик Евгений Михайлович Жуков - специалист по новой и новейшей истории Японии,
Владимир Михайлович Хвостов, директор Института, - автор работ о международных отношениях XIX-XX веков и консультант МИДа,
Виктор Иванович Шунков - он чуть ближе стоял к теме дискуссии: изучал историю Сибири XVII века.
Большинство выступавших использовало трибуну для нападок на Зимина. Я слушал и поражался: ведь выступают ученые, они хорошо знают, что Зимин искал только истину, что прекрасно понимал, на какой риск идет. Увы, из тех, кто выступал против выводов Зимина, не нашлось, кроме Николая Калинниковича Гудзия, никого, кто бы сказал: я не согласен с Зиминым, но уважаю его научную честность, а полемизировать с его взглядами буду только после опубликования книги. Утверждали даже, что Зимин взялся не за свое дело, что он не специалист в области древнерусской литературы, хотя до тех пор его работы систематически печатались в "Трудах отдела древнерусской литературы" Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР. Были и струсившие: те, кто обещал поддержку, но в последнюю минуту решил не приходить, или пришел, но смолчал, а то и выступил против.
Все розданные экземпляры, как я уже упоминал, подлежали сдаче. Стало известно и для чего: чтобы их уничтожить. И хотя я человек довольно дисциплинированный и законопослушный, я взбунтовался и решил свой экземпляр не отдавать. На самый последний день дискуссии, чтобы не было возможности поддаться слабости, я просто не принес книгу Зимина и лицемерно-смущенно сказал, что забыл положить в портфель. Около года мне время от времени звонили, требовали принести. Я отвечал, что-де обязательно, как-нибудь, когда освобожусь... Потом звонки прекратились. Так что и эта книга Зимина есть в моей библиотеке. Но я до сих пор с печалью вспоминаю сцены возвращения участниками дискуссии экземпляров исследования. Вот маститый ученый, много сделавший и сегодня делающий для развития науки, занимающий в наши дни очень благородную и прогрессивную гражданскую позицию, с подчеркнутым омерзением вытаскивает из портфеля три ротапринтных томика и, нарочито радуясь, что освобождает свой портфель от этого, отдает их сборщику из команды уничтожения...
А вскоре в "Вопросах истории" появился неподписанный, анонимный отчет о дискуссии, над которым трудилось несколько человек; редактировали его, как стало вскоре известно, в отделе науки ЦК КПСС. Грубая фальсификация была характерна для этого документа от первой до последней строчки. Дело не только в том, что выступления тех, кто поддержал концепцию Зимина, в том числе и мое, были только названы, а не изложены, не были приведены аргументы. Была еще изменена последовательность выступлений: сначала сообщалось о выступлениях сторонников Зимина, а потом приводились аргументы его противников. Таким образом у неискушенного читателя создавали ощущение, что несколько неумных и доверчивых людей подпали под влияние Зимина, но другие, более квалифицированные, их поправили [42].
Тогда же я отправил в редакцию письмо, в котором на нескольких страницах подробно разбирал методы, которыми был сработан этот отчет. Ответа я не получил, хотя мне достоверно известно, что мое письмо дошло. Где оно сейчас хранится - в архиве журнала или в архиве ЦК КПСС (ибо письмо как будто читали и там, где на самом деле готовили материал), не знаю.
И все же это было уже не сталинское время. Помню, как Александр Александрович, потирая руки, говорил:
- Что ж, подведем итоги. Меня били. Но меня били не так, как в тридцать седьмом. И не так, как в сорок девятом.
Действительно, не только книги и статьи Зимина после небольшого перерыва продолжали печатать, но ему даже удалось опубликовать отдельными статьями, часто в обрамлении разгромных, ругательных статей своих "оппонентов", значительную часть своего труда. Но в целом книга остается до сих пор не опубликованной. А ведь Зимин все полтора десятка лет между дискуссией и своей безвременной кончиной продолжал ее дописывать: учитывал новую литературу, отвечал на новые возражения. И тот машинописный экземпляр, который хранится у вдовы ученого Валентины Григорьевны, содержит уже больше тысячи двухсот страниц.
Пожалуй, последней по времени проработкой была травля, направленная против ленинградского историка Игоря Яковлевича Фроянова, который выступил с оригинальной, хотя и спорной концепцией социального строя Киевской Руси. Фроянов считает Киевскую Русь не раннефеодальным, а раннеклассовым обществом, в социальном строе которого сочетались элементы родового строя, рабовладения и феодализма, без точной формационной принадлежности. С этими выводами можно спорить (бесспорное в науке обычно тривиально и неинтересно), но основаны они на изучении источников, на их новом прочтении. Короче, концепция Фроянова заставляет думать и, следовательно, дает импульсы для развития науки.
Так и отнеслись к трудам Фроянова многие серьезные ученые. Например, Лев Владимирович Черепнин, исследованиям которого во многом (и пожалуй, в наиболее существенном) противостоит фрояновская концепция, тем не менее не только полемизировал со своим коллегой, но и счел для себя возможным выступить официальным оппонентом на защите его докторской диссертации и поддержать предложение о присуждении своему научному противнику ученой степени. Ах, как бы легко жилось в науке, если бы все ученые только так отстаивали свои научные взгляды! Увы, слишком распространена другая модель. Ее с удивительной откровенностью продемонстрировал как-то один уже покойный исследователь. Вручая мне свою книгу, он заметил: "Тех, кто не согласен с моей концепцией, я разделяю на дураков и подонков". Замечу, что многие умные и порядочные люди не были убеждены доводами этого яркого, но увлекающегося историка.
Но вернемся к фрояновскому сюжету. Концепция его пришлась не по нраву некоторым влиятельным ученым, обладающим высокими званиями и должностями. В этом беда нашей науки: авторитет звания и должности в глазах обывателя часто заменяет научный авторитет. Ведь он академик, он директор института - часто можно услышать. Это беда не только исторической науки: как умело пользовались высокопоставленные чиновники экспертными оценками академиков и членов-корреспондентов и для обоснования поворота сибирских рек, и для строительства АЭС там, где их нельзя строить. А тот, кто хотя бы издали знаком с кухней академических выборов, знает, сколько крупных ученых, определяющих лицо науки, остается за бортом академии и сколько серых, научно бесплодных людей (естественно, наряду с учеными действительно высокого ранга) туда входит...
Одним из главных научных противников Фроянова, перенесшим свою полемику и в сферу организационных действий, стал академик Борис Александрович Рыбаков, лауреат Ленинской премии и Герой Социалистического Труда. Даже в годы перестройки он позволил себе в интервью в газете "Советская Россия" нападки на Фроянова, правда завуалированные ("нашлись ученые"). Изучая родовой строй древних славян, Фроянов имел неосторожность провести параллель с классической моделью родо-племенного строя, использованной еще в прошлом веке американским этнографом Морганом, а вслед за ним и Энгельсом, - с североамериканскими индейцами ирокезами. Вероятно, воспринимая ирокезов на основании детских воспоминаний о романах Фенимора Купера и Майна Рида исключительно как воинственных дикарей, многие, в том числе и Б. А. Рыбаков, возмутились: как смеет Фроянов сравнивать с какими-то ирокезами нашу Киевскую Русь? Об ирокезах поминал Б. А. Рыбаков и в своем интервью.
Была и еще одна причина неприятия исследования Фроянова: опасались, что оно может нанести удар по формационному учению в том жестком виде, в каком оно было сформулировано Сталиным в четвертой главе "Краткого курса истории ВКП (б)", не хотелось расстаться с привычной со студенческих лет простотой и погрузиться в сложный и неоднозначный мир реальной истории.
В начале 80-х годов, как по команде (а вероятно, в самом деле по команде, и, возможно, не из Отделения истории АН СССР, а повыше), в двух ведущих исторических журналах - "Вопросах истории" и "Истории СССР" появились совершенно разгромные рецензии на книги Фроянова [43]. Их авторы не желали видеть в этих монографиях ровным счетом ничего положительного, а тон их заставлял вспомнить "сороковые роковые". В Москве состоялось обсуждение (а вернее, коллективное осуждение) концепции Фроянова, на которое самого Фроянова не сочли нужным пригласить. Правда, в своем городе Фроянов не подвергся преследованиям (здесь сошлось несколько счастливых случайностей), даже стал и заведующим кафедрой истории СССР, и деканом исторического факультета Ленинградского университета. Тем не менее его книга по историографии Киевской Руси была задержана печатанием на несколько лет и вышла в свет лишь сейчас, в эпоху гласности.
Дело не в том, что Б. А. Рыбаков не соглашался с И. Я. Фрояновым, а в том, что Рыбаков был до последнего времени монополистом в изучении истории средневековой Руси, лицом неприкасаемым. Лишь очень немногие авторы решались на полемику со взглядами и научной методикой Рыбакова, еще меньше редакций и издательств осмеливалось пропустить в печать критику его работ. Сейчас, когда Б. А. перестал занимать должность директора академического института, в печати стали появляться критические замечания о его трудах [44] Я знаю, что некоторые из моих коллег воспринимают появление таких выступлений без восторга: мол, пока Рыбаков был у власти, молчали, а теперь, когда полемизировать с ним стало безопасно, разговорились. Однако на самом деле было не так. Смелых авторов хватало, смелых редакций было маловато. Так, в течение долгого времени оставалась неопубликованной статья Я. С. Лурье, содержащая анализ источниковедческих приемов Б. А. Рыбакова.
Свой опыт был и у меня. В середине 60-х годов я получил от одного из журналов заказ написать рецензию на первые два тома выпускавшейся Институтами истории СССР и археологии АН СССР 12-томной "Истории СССР". Первый том, главным редактором которого был Б. А. Рыбаков, содержал, на мой взгляд, далекие от исторической действительности концепции. Прежде чем согласиться, я предупредил редакцию о своем критическом отношении к этому тому. В своей рецензии я вовсе не покушался на право академика Б. А. Рыбакова нметь и публично излагать свою, отличающуюся от моей, тогда еще совсем молодого научного работника, недавно лишь защитившего кандидатскую диссертацию, точку зрения. Возражал я только против того, что издание, претендующее на то, чтобы подвести некий итог развития советской исторической науки, выдает взгляды одного ученого за общепринятые. В такой книге, считал я (и считаю сейчас), должны быть отражены и другие мнения. И я напоминал об этих мнениях.
В редакции напугались (тем более что я писал по-молодому запальчиво) и передали мой текст на отзыв человеку, который концепционно был гораздо ближе к Рыбакову. В результате появилась удивительная рецензия на рецензию, в которой мне было предъявлено обвинение в антипатриотизме (тогда еще не было пущено в ход словечко "русофобия"). "Кому-то, - писал мой рецензент, - очень хотелось бы подорвать корни патриотизма в душах наших людей". Поминалось и что я "подхватил в свое время спекулятивную идейку Зимина". Короче, рецензия в свет не вышла.
- ЧЕСТНОСТЬ ИСТОРИКА
Годы, элегантно именуемые "застойными", требовали от историков иного мужества, чем сталинские времена, но тоже мужества. Оказалось, что страх потерять работу давит на человека почти с той же силой, что и страх сесть в тюрьму. В условиях государственной монополии на идеологию монополизированы и рабочие места. Учитель, сотрудник научно-исследовательского института, музейный работник, вузовский преподаватель - все состоят на государственной службе и соответственно могут быть лишены хлеба насущного, если не подчинятся жестким идеологическим требованиям государства. Даже люди "свободной профессии" - писатели, не имеющие трудовой книжки, не состоящие нигде в штате, и те - члены Союза писателей и литфонда. А потому нарушение ими правил игры влечет за собою не отлучение от "кормушки", как презрительно сказали бы многие, но просто лишение нормального заработка, превращение в безработного, а следовательно, в преследуемого по суду тунеядца.
Но помимо кнута был силен и пряник. Количество и качество соблазнов возросло во много раз по сравнению со сталинской эпохой. Как тяжело, должно быть, было "выездному" (сам автор "выездным" никогда не был и ездил лишь туристом в соцстраны, да и то после начала перестройки) превратиться в "невыездного" и распроститься с приятными вояжами "за бугор". И как хотелось приобщиться к таким поездкам тем, кто не покидал ни разу пределы своего любезного, но вечно нищего отечества. Машина, дача, цветной телевизор, хороший холодильник - весь этот набор простых полезных вещей, создающих элементарный комфорт, становился доступным тому, кто верой и правдой служил единственному подлинно научному учению и не поддерживал подозрительных знакомств.
Открытый протест, диссидентство для историка означали уход от своей профессии. Ведь историк не может плодотворно работать без архива. А допуск туда открыт только по ходатайствам научных учреждений, где работают исследователи. В крайнем случае "отношение" дает издательство или редакция журнала, которые собираются напечатать книгу или статью историка. А кто же даст такое отношение диссиденту!
Иногда историков упрекают в том, что в отличие от писателей они редко решались писать без надежды на публикацию, в ящик стола, и, когда наступила гласность, большинству из нас нечего было предъявить. Я бы не сказал, что это обвинение полностью справедливо. Есть разница в специфике работы писателя и ученого. Хорошая литература не стареет. Роман Булгакова, прочитанный через сорок лет после написания, остается великолепной прозой. Разумеется, и хорошая научная работа надолго сохраняет свое значение. И все же: стареет она быстрее. Труды историков пушкинской поры сегодня интересны либо как памятники истории науки, либо (Карамзин) - как литературные произведения. А Пушкин остается неотъемлемой составной частью нашей сегодняшней культуры.
Обычная же добротная монография стареет быстро. Пока она вылеживалась в ящике письменного стола, появлялись новые исследования на ту же тему, входили в научный оборот новые источники. Если историк дожил до снятия цензурного запрета, то для подготовки своего старого труда к публикации ему нужно затратить не намного меньше усилий и времени, чем для того, чтобы написать его заново. Столько сносок надо проверить, столько новых книг, статей, публикаций источников учесть! Да и в конце концов сами научные взгляды по конкретным вопросам могут за годы претерпеть изменения.
Но и в этих условиях многие историки находили возможность и писать, и оставаться честными. (Впрочем, такие примеры есть и в литературе: печатались бескомпромиссно честные романы, повести и рассказы Юрия Трифонова: нет ни одного стихотворения, от которого приходилось бы открещиваться, у Андрея Вознесенского.)
Чтобы сохранить порядочность, у историков были разные пути. Поскольку наиболее тяжелому идеологическому давлению подвергалась, естественно, история XX века, то многие уходили в изучение более ранних периодов. Порой нас обвиняли за это в "бегстве от современности". Это было действительно бегство - от конъюнктурщины и бесчестности. Но и в истории далекого прошлого приходилось искать свою "экологическую нишу". Поясню это обстоятельство на собственном примере. В свое время мне буквально шел в руки очень интересный и нетронутый материал о русском старообрядчестве второй половины XIX - начала XX века. Соблазн был велик: тема, совершенно не изученная, а общение со старообрядцами во время экспедиций за рукописями (см. в этой книге очерк "По избам за книгами") вызывало у меня к ним особый интерес и симпатию. Но я преодолел искушение, понимая, что в условиях 60-х годов работа о старообрядчестве могла быть написана только с антирелигиозных, воинствующе атеистических позиций. Хотя я человек неверующий, но все же не считал для себя возможным, во-первых, разоблачать, а не изучать (или вернее - подчинять изучение разоблачению) сложное историческое явление, а во-вторых, полемизировать с теми, кто не может мне публично ответить.
В истории русского средневековья такой же запретной для меня стала тема внешней политики. Ибо в стереотипах, существовавших до самого последнего времени (не только в сознании, но и в неписаных редакционно-издательских законах), во внешней политике Россия всегда была права, даже если на престоле был Иван Грозный или Николай I. Поэтому мне не хотелось писать о правоте русской внешней политики и в тех случаях (а их было немало), когда она и в самом деле была права. Любопытный парадокс: чтобы сохранить внутреннюю свободу, приходилось подвергать себя самоограничению.
Многие историки, занимавшиеся изучением истории XX века ("Век двадцатый, век необычайный! Чем эпоха интересней для историка, тем для современника печальней", - писал Николай Глазков), уходили от общих проблем, от больших тем в исследование конкретной фактической истории, в скрупулезный анализ источников. И в этом находили творческое удовлетворение.
Только считанным талантам удавалось не только сохранить свою личность, но и создать такие труды, которые по-настоящему двигали вперед науку. В этой связи я хотел бы написать о тех двоих из числа таких историков, которых уже нет с нами и кого я знаю, пожалуй, лучше, чем других.
Александр Александрович Зимин. О нем уже шла речь на страницах этой книги. Высокий, худой и долго остававшийся моложавым, Александр Александрович рано вошел в большую науку. Когда я с ним познакомился, ему было лет 36-37, он был на пороге защиты докторской диссертации, причем многие из тех, кто знал Зимина только по работам, были уверены, что он уже давно профессор. Я помню первое чувство ошеломления: этот мальчишка и есть тот самый Зимин? Быстрый и в движениях и в работе, щедро одаренный от природы, Александр Александрович был удивительно трудолюбив и трудоспособен. Причем со стороны он мог показаться легкомысленным баловнем судьбы. Вот он быстрой, легкой, слегка пританцовывающей походкой входит в читальный зал архива, целует ручки дамам, отводит в сторону кого-то из коллег, чтобы поделиться свежими новостями (не обязательно только научными: с пристальным интересом А.А. следил и за политикой, и за борьбой кланов в руководстве исторической наукой, и за фильмами на международных кинофестивалях), присаживается бочком на стул и, на первый взгляд очень быстро читая рукопись, делает своим неповторимо неразборчивым почерком какие-то косые пометки на разрозненных листках. А потом оказывается, что нет практически рукописи, содержащей материал по истории средневековой России, которую не изучил бы Зимин.
Быстрота Зимина могла показаться непостижимой человеку, не привыкшему к А. А. Помню, как первый раз он читал мою статью при мне. Честно говоря, я сначала даже немного обиделся: статья была небольшая, страниц 20-30 на машинке, и я надеялся, что Зимин прочитает ее сразу и тут же сделает замечания. А вместо этого он начал перелистывать рукопись, изредка чуть-чуть задерживая внимание на какой-нибудь странице.
Всю рукопись он держал в руках минуты три, от силы - пять. Я ждал услышать: "Ну, через недельку созвонимся и поговорим". Зимин же тут же сделал как всегда доброжелательный, но критический разбор всего написанного. Разбор тщательный, подробный, включая библиографию, в которой обнаружились пробелы. Зиминская память была поразительна: он не только помнил все, что было написано или опубликовано из источников по любому вопросу, но и мгновенно находил нужное место в книге.
Зимина я, должно быть, чаще, чем других историков, наблюдал за работой. И это обстоятельство опять-таки связано с особенностями его личности. Большинство из нас умеет работать только наедине. Приход гостя, собеседника прерывает работу. Зимин же никогда не терял ни секунды. Вот во время разговора он дал тебе что-то интересное почитать. Те 10-15 минут, которые ты занят чтением, он посвящает работе: что-то правит в тексте, делает какие-то сноски, что-то ищет в одной из многочисленных книг, лежащих грудами на столе. Да и в середине разговора, не прекращая беседы, может быстро открыть свою рукопись и сделать пометку.
Зимин был трудолюбив в точном, этимологическом значении этого слова: он любил свой труд, никогда им не тяготился. Занятие историей как наукой было основным способом его существования.
Диапазон научных интересов Зимина был на редкость широким, его труды посвящены истории России с древнейших времен и до конца XVII века, он изучал и экономику, и социальные отношения, и политическую борьбу, и идеологию, и культуру. Не раз Зимин говорил, что историк, занимающийся средневековьем, не может быть только историком: ему приходится выступать и в роли экономиста, юриста, филолога.
Зимин всегда с огромным уважением относился к своим учителям и предшественникам. Может быть, поэтому его первые статьи и книги, вводившие в науку массу нового, свежего материала, содержавшие много интересных, оригинальных наблюдений по конкретным вопросам, тем не менее, были в основном традиционны: и по методике и по выводам. Обычно бывает иначе: молодой исследователь в начале своего пути готов зачеркнуть все сделанное поколениями отцов и дедов.
Пришел он, "красивый двадцатидвухлетний", чтобы все перевернуть, все сделать по-новому, не повторить ошибок стариков. Только с годами приходят сначала взвешенность оценок, а затем, увы, и ретроградство. Зимин же прошел путь прямо противоположный. С годами он становился все менее и менее традиционным, все более свежими и оригинальными оказывались выдвигаемые им концепции. С возрастом к нему приходила все большая раскованность, независимость мысли. Сам он говорил, что сдирает с себя ослиную шкуру. И очень строго, по-моему, слишком строго судил свои ранние работы. Это не было кокетством. Раз, услышав одно его несправедливо резкое суждение о самом себе, я возразил. Зимин помрачнел, почему-то обиделся и отчужденным голосом ответил: "Вероятно, у нас с вами разные точки отсчета".
А ведь Зимину было, пожалуй, тяжелее, чем людям моего поколения. Казалось бы, страх и вызванное им приспособленчество должны были завладеть его душой. Зиминская среда (родители были дворяне, отец - полковник старой армии, умерший от тифа незадолго до рождения сына) испытала столько ударов репрессивного механизма, что остаться смелым было нелегко. Когда Зимину было 15 лет, проходили массовые репрессии против дворян после убийства Кирова. 1937-1938 годы он пережил 17-18-летним юношей. Начинающий ученый, молодой кандидат наук и преподаватель историко-архивного института - он свидетель жестокой и грязной "борьбы с космополитизмом"...
Нет, конечно, как и все, он иногда был вынужден идти на компромиссы, и ему не чуждо было чувство страха. Но он научился преодолевать его. Помню, на одном заседании после мрачного, наполненного идеологическими клише доклада одного талантливого, но очень руководящего ученого, когда коллеги либо смущенно отмалчивались, либо говорили о том, как своевременно докладчик "дал бой", Зимин мне признался: "Страшно выступать. Но все же выступлю". И выступил. В слегка шутливой, вроде добродушной манере Зимин иронизировал над докладчиком, который обрушивался на тех, кто отступает от единственно верного идеологического курса: по словам А. А., у докладчика чувство локтя заменяется порой чувством колена.
Один литературовед (занимавший, как ни странно, важный пост в ЦК КПСС) в откровенном разговоре вскоре после смерти Зимина мне сказал: "Я думаю, если бы Александр Александрович не выступил со своей работой о "Слове о полку Игореве", а оставил свою точку зрения внутри себя, он погубил бы себя как ученого". Мой собеседник был, несомненно, прав: именно это преодоление страха дало Зимину силы уйти в своих последующих работах от привычных стереотипов, а в последние годы, когда он был тяжело и неизлечимо болен, писать одну книгу за другой, не добиваясь их издания, не желая тратить то недолгое время, которое, он знал, ему было отпущено, на хлопоты. Потому-то за десять лет, прошедшие после кончины ученого (Зимин умер в 1980 году), вышли в свет четыре его монографии, на подходе пятая и ждут своей публикации еще минимум три.
Свою последнюю книгу "Витязь на распутье", о событиях кровавого междоусобья на Руси в середине XV века, Зимин писал на одном дыхании, не думая о том, насколько "проходимо" то, что выходило из-под его пера. По широте мыслей я могу сопоставить Зимина в отечественной историографии только с одним историком - Ключевским; недаром Зимин так его уважал и любил. По скрупулезности источниковедческого исследования, по интересу к генеалогии, то есть к людям в истории, я могу сравнить Зимина только со Степаном Борисовичем Веселовским. Говоря о советской исторической науке, Зимин как-то заметил: "Классиков-то у нас много, а историк один - Степан Борисович".
Александр Александрович прожил по современным меркам недолгую жизнь: он умер через три дня после своего шестидесятилетия. Но сделанного им хватило бы на куда больший срок.
Зимину была дорога мысль, которую он часто повторял в своих беседах: плохой человек не может быть хорошим историком. Зимин иногда разъяснял, что такой историк на собственном опыте будет искать только низменные мотивы в действиях людей прошлого. Мне кажется, эта мысль шире: плохой человек не только не в состоянии бескорыстно служить истине (в исторической науке, как мы видели, это служение почти всегда требует мужества), но он не любит людей. Они для него лишь фигуры на шахматной доске, объект для игры ума, упражнений логического мышления. Своим примером Зимин показал, какие плоды дает сочетание таланта, трудолюбия и горячего, неравнодушного сердца.
Другой историк, ушедший от нас почти в том же возрасте - пятидесяти девяти лет, - Натан Яковлевич Эйдельман. Не помню, когда мы с ним познакомились, ведь мы учились на соседних курсах - он поступил в университет в 1947 году, я - годом раньше. Мне кажется, мы знали друг друга всегда. Долгое время Эйдельмана воспринимали, скорее, как талантливого популяризатора, чем как исследователя. В самом деле, под псевдонимом "Н. Натанов" (сам он еще не был уверен, что популярные книги - это серьезно, и берег тогда свою подлинную фамилию для чисто академических изысканий) он выпустил книгу для детей "Путешествие в страну летописей" - о "Повести временных лет" и о великом ученом Алексее Александровиче Шахматове, создавшем методы текстологического изучения памятников древнерусской письменности, и в первую очередь летописей. Книгу, которую, несмотря на жанр и адресата, я постоянно рекомендую студентам. Хотя по своей научной специальности я вроде ближе к летописям, чем Эйдельман (поэтому я по его просьбе даже рецензировал рукопись книги для издательства), она мне дала очень много. Но все же это было не исследование, а сделанная на исключительно высоком уровне популяризация.
Эйдельмана интересовало все, и он всем увлекался. Многие его популярные книги - результат такого увлечения. Например, однажды он написал на совершенно неожиданную тему: о происхождении человека, об истории антропологии. Но я не был удивлен таким поворотом в его творчестве: задолго до того при встречах в читальном зале, на улице он, захлебываясь, с восторгом рассказывал о последних работах по антропологии, об опытах над обезьянами, о которых прочитал.
Но главной темой Эйдельмана-ученого была Россия XVIII-XIX веков. Я уверен, что читатель этой книги знаком с произведениями Эйдельмана о декабристах Лунине и Муравьеве-Апостоле, о тайных корреспондентах герценовской "Полярной звезды", о времени Павла I ("Грань веков"), с романом об Иване Ивановиче Пущине "Большой Жанно", с трудом о замечательном русском историке Н. М. Карамзине ("Последний летописец"), с изысканиями о Пушкине, наконец, со сведенными в одну книгу глубокими размышлениями о судьбах реформ в России - "Революции сверху"... Потому-то я позволю себе не останавливаться на его выводах, а попытаюсь охарактеризовать в целом его творчество. Это не так легко: много уже написано, сказано о нем, да и отсутствие дистанции мешает. Слишком хорошо помнится сам Натан (мне трудно писать о нем официально, как о Натане Яковлевиче): легкий в общении, жизнерадостный человек, лишенный напрочь комплекса знаменитости, добрый и веселый товарищ. И все же попытаюсь.
Эйдельман - это прежде всего удивительный человеческий феномен. Он обладал редко сочетающимися в одном человеке талантами: скрупулезный, дотошный исследователь, не вылезающий из архива, строгий ученый: и вместе с тем - настоящий писатель. Дело здесь не только в неповторимом ярком стиле, редком умении увидеть за деталью и через деталь общее, разглядеть в прошлом большие общечеловеческие проблемы. Натан, как никто другой, умел посмотреть на предмет своего исследования с разных, подчас неожиданных сторон. Вспомним хотя бы его книгу о Карамзине. Обычно этот историк представал перед читателем либо как обладающий хорошим стилем реакционер, сторонник и проповедник самодержавия, "представитель дворянской историографии", либо как великий патриот, совершивший бессмертный подвиг. В обеих точках зрения заключена частица правды, их же простое механическое объединение ("с одной стороны" и "с другой стороны") плоско и тривиально. Эйдельман увидел в Карамзине прежде всего честного человека. Порядочный, убежденный сторонник самодержавия не мог не стать неудобным для самого самодержавия - вот, пожалуй, главная мысль книги Эйдельмана. Мысль не априорная, а вытекающая из всей ткани повествования.
Неожиданные сопоставления, парадоксальные на первый взгляд рассуждения уводят мысль читателя книг Эйдельмана далеко за пределы непосредственного повода для них, заставляют задумываться над самыми главными вопросами жизни. Книги и статьи Эйдельмана в годы застоя показывали читателю (в этом, думаю, секрет их популярности), что есть на свете такие понятия, как честность, порядочность, служение истине.
А ведь прожил Эйдельман нелегко. Он был студентом, когда в сталинском лагере оказался его отец, впоследствии реабилитированный (к счастью, не посмертно). В 1957 году арест грозил и самому Натану: он был дружен с участниками так называемой "группы Краснопевцева" - одного из первых диссидентских кружков, возникшего еще в период "оттепели", выступавшего за более решительное движение нашего общества по пути демократизации, в том числе и в идеологии. Члены группы получили сроки - от шести до десяти лет лагерей, Натан чудом уцелел, но был исключен из комсомола, уволен с работы. В сочетании с пресловутым "пятым пунктом" его анкета и в последующие годы не давала ему возможности стать штатным научным сотрудником, преподавателем вуза. Боже мой, сколько талантов теряет зазря наша страна, каким украшением университета были бы лекции и семинары Эйдельмана! Но эта грань его таланта оказывалась ненужной и невостребованной.
И все же и Зимин и Эйдельман прожили короткие, но счастливые жизни, были счастливыми людьми, потому что хорошо делали дело, которое любили. И могли сказать о себе словами Пушкина: "Твой труд тебе награда; им ты дышишь". Как Веселовский в сталинские времена, так и Зимин и Эйдельман и другие в годы застоя спасали честь отечественной исторической науки.
Сегодня же, во времена гласности, в науке, слава богу, идет свободная борьба мнений. Исчез сковывающий страх, что написанное окажется несоответствующим духу, а то и букве "единственно верного научного учения". Мягче и деликатнее стали редакторы: им теперь тоже нечего бояться.
- ПРАВИЛА НАУЧНОЙ ИГРЫ
Именно поэтому сегодня важнее, чем когда бы то ни было, оказался вопрос о научном качестве нашей продукции, о ремесле ученого-историка, о тех правилах научной игры, которые мы все обязаны соблюдать в своем творчестве не менее строго, чем шахматисты - правила игры в шахматы.
Вопрос этот стоит тем острее, чем рост интереса к истории в обществе плодит множество дилетантов, пробующих силы в писании работ по истории, которые нередко оказываются опубликованными. Здесь и математики, и физики, и инженеры, которым кажется, что, прочитав Карамзина, Соловьева и Ключевского, они уже стали историками, да к тому же и независимыми. Здесь и серьезные, талантливые и по-настоящему прогрессивные публицисты, которые походя пишут как об открытиях об общеизвестном или аргументируют как истиной устаревшими или не нашедшими признания в научной среде выводами. Всех их подводит одно убеждение: знание фактов и начитанность в общей литературе они считают вполне достаточным условием для исследовательской работы в области истории. Между тем гораздо важнее другое, что дается только напряженным трудом, серьезной школой, - овладение методикой научного исследования. О ней и пойдет речь.
Часто можно услышать: историк, как и всякий ученый, должен прежде всего быть верен фактам, основываться на фактах. Но для широкой публики в тени обычно остается другой вопрос: а откуда историк берет эти факты, как он их добывает? Совершенно естественно, что каждый из нас узнает о тех или иных фактах истории не только научным путем. Скажем, об Отечественной войне 1812 года человек сначала услышал от своих родителей или старших родственников, потом прочитал о ней в детских книгах, в школьном учебнике истории, наконец, в романе Льва Толстого; увеличило его знания и посещение музея. Только если этот человек станет научным работником, специалистом по истории России XIX века, он будет вчитываться в донесения Кутузова и Барклая-де-Толли, переписку современников, рескрипты Александра I и приказы Наполеона, в дневники и мемуары и в другие исторические источники. Разумеется, каждому из нас не нужно сидеть над летописями, чтобы узнать о Куликовской битве. Но все же общество в целом знает и о войне 1812 года, и о Куликовской битве, и всех других событиях отечественной и мировой истории только из исторических источников.
Не берусь давать строгое научное определение историческому источнику: и потому, что это не соответствовало бы избранному здесь жанру, и по другой, может быть, более веской причине. Помню конференцию историков-источниковедов в Новороссийске, на которой в течение целого дня с перерывом на обед спорили: как определить, что такое исторический источник. Мне иногда приходит в голову еретическая мысль, что в нашем стремлении к точным дефинициям отразилась традиция семинарской схоластики, воспринятая семинаристом Джугашвили за то недолгое время, когда он обучался в этом учебном заведении. Мне представляется, что источник - это любой текст, любой предмет, любое явление, из которых мы узнаем о прошлом. Мне приходилось больше заниматься письменными источниками. На их примере и попытаюсь разобрать современные представления об источниках.
Источником может стать любой текст, но только в зависимости от целей исследования. В самом деле. Эта книга - отнюдь не источник для большинства сведений, которые в ней содержатся, она сама основана на источниках. За одним исключением. Несколько раз на протяжении этого очерка я позволил себе обратиться к собственным, личным воспоминаниям. В этих случаях читатель получает в руки мемуарный источник.
Не льщу себя надеждой, что когда-нибудь моя личность станет предметом научных изысканий. Но если бы эту книгу написал ученый более высокого класса, оставивший более глубокий след в науке, то для будущего историографа, изучающего его творчество, эта книга оказалась бы источником. Источником она станет и для того исследователя, который будет изучать общий уровень исторической науки и представлений историка о своем труде, существовавшие в 90-х годах XX века, на шестом году перестройки.
Станет текст источником или нет, зависит не только от цели исследования, но и от того, насколько сохранились другие источники о том или ином времени, по тому или иному вопросу. Так, например, чтобы изучить национальный состав города XIX-XX веков, исследователь обратится к документам, регистрирующим его жителей, к данным переписей населения и т. п. Историк же античности будет скрупулезно изучать особенности обряда погребения на городских кладбищах и анализировать имена на надгробных плитах. Большой материал для характеристики социального строя Древней Греции историки извлекают из поэм Гомера - "Илиады" и "Одиссеи". Отсюда и идет термин - "гомеровская Греция", тот период ее истории, о котором мы знаем по Гомеру. Естественно, речь идет не об историчности хитроумного Одиссея и его встречи с одноглазым циклопом Полифемом. Историк помнит, что перед ним - поэма. Но из отдельных штрихов, вроде описания судна Одиссея или выступления Терсита на народном собрании, выступают многие конкретные жизненные ситуации и черты быта.
Так и чисто литературное произведение, если в распоряжении историка нет ничего другого, оказывается историческим источником. В наши дни нам нет необходимости, скажем, из поэмы А. Т. Твардовского "Василий Теркин" извлекать сведения о конкретном ходе Великой Отечественной войны. И о том, например, что советские солдаты зимой были обуты в валенки, мы знаем не из разговора Теркина со стариком крестьянином:
Позволь, товарищ,
Что ты валенки мне хвалишь?
Разреши-ка доложить.
Хороши? А где сушить?
Но если бы свершилось нечто, к счастью, невозможное и исчезли бы все источники, говорящие о Великой Отечественной войне, кроме поэмы Твардовского, то и "Василий Теркин" стал бы историческим источником.
Овладение ремеслом историка состоит в умении находить в источнике необходимую информацию. Попытаюсь продемонстрировать этот путь исследования на примере одного достаточно хорошо известного сообщения Ипатьевской летописи, датированного 1147 годом. Речь в нем идет о том, что ростово-суздальский князь Юрий Владимирович по прозвищу Долгорукий пригласил на встречу своего союзника по междоусобной борьбе чернигово-северского князя Святослава Ольговича для переговоров и послал к нему гонца со словами: "Приди ко мне, брате, в Москов". Здесь он и устроил в честь гостя "обед силен" [45]
Что ж, сообщение на первый взгляд малозначительное и тривиальное: много было княжеских междоусобиц (а Юрий Долгорукий, князь-хищник, был их активным участником), немало было и встреч князей друг с другом, порой гораздо более важных. Привлекло же это известие особое внимание тем, что до этой даты, до 1147 года, слово "Москва" ни разу не упоминалось в текстах исторических источников. Это первое летописное упоминание о Москве. Поэтому с 1147 года мы ведем отсчет истории города и принимаем эту дату условно за дату "основания Москвы". (Как видим, на самом деле никакого основания в 1147 году не произошло: просто в науке принято считать условной датой основания города, если нет датированных сведений о его начале, тот год, когда он впервые упомянут в источнике, уже из самого сообщения видно, что Москва существовала и до 1147 года.)
Но из этого краткого сообщения можно узнать и больше, оно позволяет в общих чертах представить себе, какой была Москва в середине XII века. Встреча князей состоялась в начале апреля: в среднерусских краях это еще достаточно холодное время, кое-где в лесах даже сохраняется нестаявший снег. Ночевать в такую погоду в шатрах (тогдашних палатках) не очень уютно. А ведь у князя Юрия, естественно, был достаточно большой выбор места для встречи в пределах юго-западной окраины своего княжества. Следовательно, остановив свой выбор именно на Москве, Юрий знал, что сможет разместиться здесь достаточно комфортно и сам со своей дружиной и оказать гостеприимство союзнику, разумеется, тоже с дружиной. Для пира были нужны припасы. Некоторые на месте нельзя было найти: виноградные вина, которые доставляли на Русь из Крыма и Византии, "импортировавшиеся" оттуда же, с юга, фрукты, "овощеве разноличные", как называл их летописец. Но мясо, молоко, овощи было бы странно везти за десятки верст: они должны были быть на месте. Следовательно, Москва была уже достаточно крупным пунктом, с налаженным княжеским хозяйством, где было немало скота и существовали большие кладовые.
Такой анализ летописного сообщения подтверждается и материалами, добытыми археологами. Например, при раскопках в Московском Кремле обнаружили остатки укреплений рубежа XI-XII веков, то есть возведенных примерно на полвека раньше, чем Юрий Долгорукий пировал здесь со Святославом Ольговичем.
Опрос источника - дело не такое простое, как может показаться не искушенному в исторической науке человеку. Историку всегда необходимо учитывать, когда создавался источник и почему, какой информацией располагал его автор, какие цели он ставил перед собой. Летописи и хроники, воспоминания и правительственные сообщения, то есть источники повествовательные или, как иногда говорят, нарративные (от латинского нарро, нарраре - рассказывать), всегда тенденциозны, всегда ставят перед собой цель убедить в чем-то читателя. Это по принятой в науке терминологии "историческое предание", те тексты, в которых прошлое сообщает нам о том, о чем хочет сообщить. Не буду говорить подробно об анализе тенденциозных источников, ибо его примеры читатель найдет в очерке "Гробница в Московском Кремле", помещенном в этой книге. Остановлюсь лишь на двух моментах.
Во-первых, слово "тенденциозность" в научном языке имеет несколько иное значение, чем в бытовом: в нем звучит не обвинение, а лишь констатация субъективности, неизбежной для каждого живого человека. Тенденциозность - еще не фальсификация. Во-вторых же важно, что сама тенденция источника - это тоже факт истории и, следовательно, объект изучения. Исследование тенденции источника помогает лучше представить себе и политическую борьбу прошлого, и социальную, общественную психологию, и системы ценностей разных эпох и разных общественных групп.
Приведу лишь один пример. В древнейшей русской летописи, в "Повести временных лет", записан легендарный рассказ о том, как апостол Андрей Первозванный занимался миссионерской деятельностью на пути "из варяг в греки". Поднявшись вверх по Днепру и дойдя до места будущего Киева, "гор Киевских", он благословил эти горы и сказал своим ученикам, что здесь Господь воздвигнет великий город, что "на сих горах" воссияет благодать Божия, и водрузил крест. Летописец рассказывает об этом предсказании с восторгом, и металлические ноты слышны в его голосе. Но вот Андрей достигает территории ильменских славян, где впоследствии возникнет Новгород Великий. Здесь апостол уже ничто не благословляет, а лишь с удивлением наблюдает "бани древены", которые раскаляют докрасна, людей, которые хлещут себя вениками - "прутьем младым", обливаются "квасом уснияным" - кислотой для дубления кожи, бьют себя до того, что слезают (видимо, с полка) еле живы, обливаются водою студеной и "тако можиут". "И то творят по вся дни, не мучими никими но сами ся мучат. И то творят мовенье собе, а не мученье". Нет, летописец ничего дурного о новгородцах вроде и не сказал. Но если посещение апостолом "гор Киевских" стало поводом для торжественного пророчества, то посещение новгородской земли - лишь для юмористического изображения заимствованной у угро-финских племен парной бани. Если же припомнить, что летописный текст в дошедшем до нас виде создавался в Киеве в XII веке, то мы увидим, что и к этому времени на Руси не была еще изжита межплеменная рознь.
Доказательство тому мы найдем и в других рассказах летописца. Крайне недоброжелательно относится он ко многим восточнославянским племенам - и к древлянам, и к вятичам, и к радимичам, которые "живут в лесе, яко и всякий зверь" и "ядят все нечисто". Зато поляне, племя, живущее вокруг Киева, - это "мужи смыслени" [46] Не эти ли натянутые отношения между разными племенами (или, вероятно, точнее - племенными союзами) послужили одной из предпосылок для раздробления Руси на отдельные княжества как раз в эти же времена, в конце XI - начале XII века? Так изучение даже явно недостоверных и тенденциозных рассказов летописца помогает нам лучше понять жизнь того времени, когда это писалось.
Но вот перед историком не летопись, не воспоминания, а документ. Не "историческое предание", а "исторический остаток", попавший нам в руки кусочек прошлого. Создатели документа были озабочены делами своих дней и не ставили себе задачей рассказать нам о себе. Привычной нам тенденциозности нет. Если перед нами не фальшивка, мы можем быть уверены, что Иван действительно продал свою вотчину Петру, а Семен действительно составил завещание, лежащее перед нами. Но возникает существенный вопрос: а насколько этот документ и соответственно отраженная в нем ситуация типичны? Чем вызвана та или иная степень сохранности документов такого рода? Опять обращусь к примеру.
От XV-XVI веков до нас дошло немало приговоров по судебным спорам о земле между крестьянами и монастырями. Все эти тяжбы заканчиваются в пользу монастырей. Отсюда исследователи часто делали простой вывод: монастырь - это феодал, хотя и коллективный, феодалы покушались на крестьянские земли, захватывали их, а феодальный суд, стоя на страже интересов своего класса, решал дела всегда в пользу феодала, а не крестьянина. Правда, оставались некоторые неясности. Во-первых, почему, если крестьяне по опыту знали, что их обращения в суд останутся безрезультатными (а они как современники лучше, чем мы, сегодняшние историки, знали нравы и обычаи своего времени), они тем не менее без всякой надежды на успех подавали челобитные, учиняли монастырям иски, шли для этого на большие расходы? Только из чистого правдоискательства? Сомнительно. Крестьяне - люди практические. Недаром народ создал пословицу: "Плетью обуха не перешибешь". Второе обстоятельство: в сводах законов конца XV - XVI века, Судебниках 1497 и 1550 годов для исков крестьян к феодалам предусмотрен льготный, двойной срок исковой давности. Законодатель, следовательно, учитывал, что крестьянину труднее, чем феодалу, собрать необходимые документы, и облегчал его положение.
Как же разрешить это противоречие? Ларчик открывается довольно просто. В России XV-XVI веков судебный приговор именовался "правой грамотой", ибо выдавался на руки только одной стороне - той, которая выиграла дело, признана правой. Ведь проигравшему приговор был не нужен: не создавал для него никаких имущественных прав. Архивы же крестьянских общин не сохранились. Зато сохранились монастырские архивы. Таким .образом, в руках у историка есть приговоры лишь по тем делам, которые завершились в пользу монастырей.
Это логическое построение подтверждается фактами. Известно, что правительство покровительствовало землевладению "государевых служилых людей", дворян, которые выходили на государеву службу: вотчины и поместья были для них материальным обеспечением их участия в военных действиях, заменяли денежное жалованье, которого в те времена почти не платили. Поэтому правительство всегда старалось ограничить монастырское землевладение, чтобы земля "не выходила из службы": ведь монастыри платили в казну деньги, но не выставляли воинов-профессионалов. Тем не менее по спорам между светскими феодалами и монастырями до нас также не дошло ни одного судебного решения не в пользу монастыря: дворянские архивы XVI века не сохранились. Более того, известен случаи, когда тяжба шла между двумя монастырями, архивы которых сохранились в равной степени хорошо. Приговор - "правая грамота" - дошел до нас только в составе архива того монастыря, который выиграл дело.
Немало труда приходится затратить историку, чтобы установить сами факты. Это нелегко. Труднее всего, разумеется, обстоит дело с древнейшими периодами истории: чем дальше от наших дней, тем меньше источников имеет историк в своем распоряжении, тем чаще ему приходится ловить их случайные обмолвки, порой восстанавливать общую картину по отдельным деталям. В этих случаях от историка требуется определенное мужество: и для того, чтобы иногда сказать "не знаю", а иногда предупредить и читателя, и в первую очередь самого себя о том, что гипотеза, которую ты создал, сложное логическое построение, которым так гордишься, - не единственно возможные. Мне кажется, есть один очень хороший тест на профессионализм историка (должно быть, не только историка, а всякого научного работника, но я знаю историков). Если автор часто употребляет слова "несомненно", "с уверенностью можно сказать" и т. п., его профессионализм под большим вопросом. Напротив, для дилетанта, которому, как правило, все всегда ясно (имею в виду лишь того дилетанта, который не сознает своего дилетантизма), не типичны такие выражения, как "возможно", "не исключено", "быть может".
Трудности в установлении фактов относятся не исключительно к древнему периоду, а даже к истории совсем недавнего прошлого. Не только по злой воле или из-за трусости историков до сих пор до конца не исследованы "неназываемого века недоброй памяти дела" (Твардовский) . Например, весьма противоречивы и отличаются друг от друга во многих, порой достаточно существенных, деталях воспоминания об аресте Берия в 1953 году, исходящие от разных, в том числе и от самых главных, участников событий. В последнее время опубликовано немало мемуаров об обстоятельствах переворота 1964 года, свергнувшего со всех постов Н. С. Хрущева. Но, чтобы установить подлинные обстоятельства этого исключительной важности события, требуется большая кропотливая работа по сопоставлению разных версий. И наконец, совсем уже близкое время: с какими трудностями столкнулась комиссия Верховного Совета СССР, чтобы восстановить процесс принятия решений, приведших к гибели мирных людей в Тбилиси 9 апреля 1989 года. До сих пор не прояснены многие противоречия в показаниях свидетелей и участников. Вспомним хотя бы полемику между Э. А. Шеварднадзе и Е. К. Лигачевым, между тем же Лигачевым и А. А. Собчаком.
Сразу возникает вопрос: а архив? Секретность в наших архивах, недоступность для исследователей очень многих важных фондов, относящихся к XX веку, привели к тому, что в обществе созрело убеждение: откройте все архивы, и вся правда выйдет наружу. Ах, если бы все было и впрямь так просто! Ведь архивных дел - десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы страниц, их надо еще прочитать и сопоставить, надо знать (на то и профессионализм историка), в каком фонде, а внутри фонда - в каком деле может найтись документ, дающий ответ на твой вопрос.
Но главное - в архивах-то есть далеко не все. Вспомним опять события в Тбилиси. Ведь не велась даже протокольная запись, не говоря уже о стенограмме того заседания, на котором решался вопрос о применении военной силы в Тбилиси. А ведь протокол - уже только изложение того, что говорилось, сделанное секретарем заседания, а не реально произнесенные его участниками слова. Нет и записей телефонных переговоров между ЦК КПСС и ЦК КП Грузии, а собеседники пока не жаждут поделиться воспоминаниями. Ни в каких архивах не сохранились и те личные, сугубо конфиденциальные беседы, которые вели между собой с глазу на глаз главные участники событий, руководители государства и партии. А были бы стенограммы? Ведь они тоже не такой уж объективный источник, как может показаться: ошибки стенографистки в неправленой стенограмме, редактирование текста оратором, чтобы сделать выступление более причесанным и благопристойным. Стенограммы неадекватно отражают реакцию слушателей на слова выступающих (например, в стенограмме - "аплодисменты", но неизвестно, большинство или меньшинство зала аплодирует, какие именно депутаты или делегаты аплодируют, а какие выражают неудовольствие). За пределами стенограммы остаются интонация, мимика и жесты ораторов, которые могут иметь порой значение не меньшее, чем сами слова.
Сложность постижения истины ясно видна на примере вопроса, который много обсуждается в нашей публицистике и, к сожалению, реже в исторической литературе, - о числе жертв сталинских репрессий.
Конечно, тот или иной ответ на этот вопрос не меняет общей оценки преступной политики Сталина и его присных. Нельзя утверждать, что уничтожить, скажем, 10 миллионов допустимо, а двадцать - преступно. Преступление - погубить одну невинную жизнь. Но все же даже сама память о жертвах требует, чтобы мы знали, сколько их было. Оставим в стороне те или иные недобросовестные попытки манипулировать цифрами в угоду заранее принятым схемам. Подумаем о тех трудностях, которые встают перед настоящим, честным историком. Ведь методика таких подсчетов может быть очень разной. Включать ли, например, в число казненных, говоря военным языком, безвозвратных потерь жертвы голода начала 30-х годов? С одной стороны, их смерть - прямой результат сталинской политики, с другой - их не расстреливали, не вешали, даже не арестовывали. А люди, гибшие при депортациях? Мы знаем, что и от тяжелых условий перевозки, и от не менее тяжелых условий жизни на месте ссылки гибло иногда до половины, а то и больше и раскулаченных, и "наказанных народов". Казалось бы, мы вправе присоединить их к числу казненных. Но ведь сначала надо установить, какова была бы естественная смертность, если бы не было депортации. Совершенно ясно, что высылка в скотном вагоне, почти без еды и питья, без медицинской помощи, в стужу семидесятилетнего старика ускоряла его смерть. Но когда бы она последовала в нормальных условиях? Может быть, двадцатью годами, а может быть, всего неделей-двумя позже?
Тот же вопрос возникает и относительно узников ГУЛАГа: в нечеловеческих условиях многие, а порой и большинство погибали там всего за несколько месяцев. Почти каждый из оставшихся в живых после политических лагерей - случайно уцелевший.
Не говорю здесь о других сложностях: плохо сохранились архивные материалы (например, на оккупированной гитлеровцами территории они были просто сожжены ) . Нелегко установить точное число расстрелянных еще и потому, что в приговорах сталинских судов "десять лет лишения свободы без права переписки" были часто словесной (только словесной!) заменой расстрела. А считать ли казненным военнослужащего, несправедливо осужденного во время войны, отправленного в штрафной батальон и погибшего в первом же бою, где шансы выжить были ничтожны? Но ведь он входит и в число жертв войны. А если он был осужден за действительную вину? Ведь все равно он фактически был осужден на казнь. А ведь наказание может и не соответствовать вине (например, человек, не сумевший выполнить боевой приказ, осужден за измену Родине). Вопросы, вопросы, вопросы...
А если попытаться установить число не только казненных, но всех репрессированных? Трудностей не меньше. Многие подвергались "суду" и аресту не один, а два, три и даже четыре раза. В 1949 году был даже целый поток "повторников". Так как это обстоятельство не всегда отражено в итоговых документах, то за счет этих людей общее число репрессированных может возрасти по сравнению с реальными цифрами. Но, с другой стороны, не исключено, что к числу репрессированных надо отнести и их родственников: ведь если они и не были высланы административным порядком, то все равно оказывались людьми неполноправными, подвергались многочисленным ограничениям при приеме в высшие учебные заведения, поступлении на работу, прописке и т. п. Невероятно сложно отделить тех, кто был осужден за уголовные преступления, от незаконно репрессированных по политическим мотивам. Вспомним хотя бы известный указ о заключении на длительные сроки за хищение "социалистической собственности", "указ о трех колосках", как его иногда называют. Можно ли считать ворами, уголовниками полуголодных колхозников, которых отправили по этому указу на лесоповал? Как при масштабе жертв в десятки миллионов историк может разобраться в каждой индивидуальной судьбе и отделить женщину, принесшую своим голодным детям мешок колхозной картошки, от жулика и мошенника, осужденного по заслугам? Ведь у них в деле одна и та же статья!
Итак, хотя архивы открывать, конечно, надо, и мы с этим безбожно запаздываем, но само по себе открытие архивов - не панацея. Главными инструментами добывания истины остаются ум и наблюдательность историка, его умение логически мыслить и сопоставлять факты, его изобретательность в поисках методов извлечения информации из источников.
Вот передо мною объемистый том, опубликованный в 1939 году тиражом 300 тысяч экземпляров: "XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 10-21 марта 1939 г.: Стенографический отчет". Классический сталинский съезд: делегаты все время встают и стоя аплодируют. Ремарки отчета наполнены публицистической риторикой.
Например, после того как Молотов предоставляет слово Сталину, как сообщает отчет, "Бурной овацией, стоя, съезд встречает товарища Сталина. На всех языках народов Советского Союза раздаются возгласы: "Да здравствует товарищ Сталин!", "Ура!", "Вождю, учителю и другу товарищу Сталину - ура!", "Да здравствует наш родной, любимый Сталин!". Долго длится овация - выражение беспредельной любви всей партии к своему вождю. Звонок председателя тонет в буре аплодисментов, приветствий съезда".
Или другая ремарка: "Появление на трибуне председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР .Вячеслава Михайловича Молотова делегаты съезда встречают бурными овациями. Несмолкаемое "ура" гремит в зале. Все делегаты стоя приветствуют товарища Молотова".
Казалось бы, какую правду можно найти в таком официозном документе? Разве что он позволяет лучше понять масштабы официального холуйства.
Не будем торопиться. Правда и здесь вылезает наружу, ибо ее, как и шило в мешке, не спрячешь. В своем докладе Сталин говорит, что
"за отчетный период (с 1934 года . - В.К.) партия сумела выдвинуть на руководящие посты по государственной и партийной линии более 500 тысяч молодых большевиков, партийных и примыкающих к партии".
Но ведь не на пустые места они пришли, эти полмиллиона руководящих работников. Какая-то часть их предшественников умерла своей смертью, ушла на пенсию, но не столько же всего за пять лет! Таким образом, именно эта цифра говорит нам о масштабе репрессий против руководящих кадров. В выступлениях других делегатов находим подтверждение такого вывода и его конкретизацию. Так, секретарь Московского обкома партии Б. Н. Черноусов приводит такие данные:
"Свыше 60% секретарей горкомов и райкомов партии и подавляющее большинство секретарей парткомов Московской области работают в качестве секретарей меньше года".
А чего стоит такое признание известного сталинского подручного Л. М. Кагановича:
"Троцкистско-пятаковско-зиновьевско-бухаринским бандитам удалось вовлечь в шпионаж часть хозяйственников. Партия, государство и социалистическое хозяйство очистились от них. В некоторых звеньях приходилось снимать по несколько слоев (курсив мой . - В.К.)".
Поразительные цифры привел в своем докладе А. А. Жданов. Оказывается, среди руководящих партийных работников (к ним отнесены все секретари райкомов, горкомов, обкомов, крайкомов и ЦК союзных республик, а также заведующие отделами обкомов и выше - всего 11745 человек) люди с партстажем с 1924 года и позже, то есть не участвовавшие как члены партии ни в революции, ни в гражданской войне, составляли 93 процента, почти столько же - 92 процента были в возрасте моложе 40 лет. Куда же делись старые кадры, как они освободили место? На пенсию им было уходить рано. Из материалов XVIII съезда вытекает: состав руководства партии между 1934 и 1939 годами полностью обновился.
Масштаб репрессий против партийно-государственного аппарата вызывал, видимо, некоторое глухое недовольство в самом аппарате: слишком уж ненадежным стало положение функционеров. Сталин прибег к своему обычному шулерскому приему: разгул репрессий он свалил на врагов (Ежов и его подручные) и недоумков, на "перегибы". Так же, как в годы коллективизации в статье "Головокружение от успехов" Сталин приписал излишнему усердию местных работников результаты собственных указаний. Аналогичный спектакль был разыгран и на съезде.
Мрачное впечатление производят палачи, произносящие на съезде страстные речи о недостаточном внимании к рядовым коммунистам, о необоснованных репрессиях. Но перед нами сейчас исторический источник, наша задача не давать волю эмоциям, а анализировать факты, которые приводят эти люди. Факты тем более убедительные, что они содержатся в официальных партийных речах ближайших приспешников Сталина, а не в воспоминаниях пострадавших или в эмигрантской печати.
Вот, например, Л. 3. Мехлис, стоявший тогда во главе Главного Политического управления Красной Армии, неуемно восторгается тем, как под руководством товарища Сталина наша армия очистилась от своего командного состава. "Грязь, накипь мы будем смывать каждый день. Врагов и изменников будем уничтожать, как бешеных собак". Но уже на следующей странице стенографического отчета в той же речи читаем: "Мы должны признать, что количество неправильно исключенных из партии очень велико". В связи с этим Мехлис рассказывает такой, по его словам, "дикий случай": "Уполномоченный особого отдела одного полка заявил комиссару, что он хочет забрать начальника клуба политрука Рыбникова. Комиссар Гашинский шепнул об этом партийной организации, и Рыбников был исключен низовой парторганизацией из партии. Вскоре выяснилось, что Рыбников неплохой большевик и что особисты хотели взять его... к себе на работу. Ошибка была исправлена, но тов. Рыбников порядочно поволновался". Итак, порядки таковы, что достаточно особисту сказать комиссару, а тому "шепнуть" в парторганизацию, ни слова не говоря о причинах, по которым политрука собираются "забрать", чтобы он был исключен из партии.
Еще более яркими фактами наполнен доклад Жданова. Вот он цитирует "показания" одного из бывших украинских секретарей обкома (раз "показания", значит, секретарь уже "разоблачен как враг народа"):
"В течение 5-6 дней я разогнал аппарат обкома, снял почти всех заведующих отделами обкома, разогнал 12-15 инструкторов и заменил даже технический аппарат обкома... После "расчистки" аппарата обкома под тем же флагом я приступил к разгону горкомов и райкомов. За короткое время снял с работы 15 секретарей и целый ряд работников, на которых никаких компрометирующих материалов я не имел".
Некто Ханевский из Киевской области, оклеветавший много коммунистов, написал в обком: "Я выбился из сил в борьбе с врагами, а поэтому прошу путевку на курорт". Жданов рассказывает о секретаре парткома Иркутского облзо (земельный отдел) Нефедове, который разбил членов партии на три группы:
"Первая фигура, если сильно активничает, значит, его проверять надо, наверняка дорожка ведет к врагу.
Вторая фигура, если есть у него "багаж", тяжелая гиря, то ясно, что он будет отставать, гиря ему мешает, учесть тоже надо, проверить, и дорога, видимо, тоже поведет к врагу.
И третья фигура, когда найдем человека, который работает не-за совесть, а за страх, то наверняка не прогадаешь - враг".
Секретарь райкома партии из Архангельской области Гладких "давал задания каждому коммунисту найти врага народа и предупреждал заранее, что "перегибов от этого никаких не будет". А заведующий райпарткабинетом из Красноярского края Алексеев "завел себе список со специальными графами: "большой враг", "малый враг", "вражек", "враженок" [47].
Ах, товарищ Жданов, не о себе ли вы говорили, не вы ли прославились такой борьбой с "врагами народа" в Ленинграде, Уфе, Казани, Оренбурге? Но это уже рассуждения из другой области, нас же сейчас интересует даже не та картина, которая вырисовывается из официального документа сталинского времени, а методика, которую может применить историк, чтобы воссоздать эту картину.
С этой точки зрения для историка не существует источников хороших и плохих, достоверных и недостоверных: в каждом источнике так или иначе отразилась какая-то частица исторической действительности.
Впрочем, я уже слышу возражение: а фальшивки?
В самом деле, столько, сколько существует письменность, существуют и подложные документы. И характер, и мотивы подлога (а они тесно связаны) могут быть очень разными. Нередко фальшивый документ изготавливает современник, чтобы извлечь материальную выгоду: он подделывает документ о покупке земли, квитанцию об уплате налогов, документ об образовании и т. д. Но документы подделывают и по идеологическим и по политическим мотивам. В этом случае появляются то якобы старинная рукопись, то современный политический документ. Более того, сами мотивы могут даже показаться благородными. Так, чешский ученый Ганка, чтобы доказать древность и высокий уровень культуры родного чешского народа, сфабриковал так называемую "Краледворскую рукопись", содержавшую старинные чешские сказания и легенды. Кстати, сегодня творение Ганки изучается как памятник чешской литературы XIX века, ибо художественный уровень его подделки был достаточно высоким, как и песен древнего шотландского барда Оссиана. сочиненных в XVIII веке поэтом Макферсоном. К такого же рода подделкам (но уже с куда менее благородными мотивами у фальсификаторов) можно отнести многочисленные грамоты великих князей и царей, данные дворянам за их верную службу, которые усиленно сочиняли в XVIII веке отпрыски дворянских родов, стремясь удревнить свое происхождение и сделать пышнее родословную.
Некоторые подделки такого рода носят ярко выраженный клеветнически-политический характер, направлены на компрометацию политических или идеологических противников. Так, в начале XVIII века по заказу иерархов Православной церкви было изготовлено "Соборное деяние на еретика арменина Мартина Мниха", якобы решение Собора русских епископов, состоявшегося в XII веке и осудившего ересь армянина Мартина, основные положения которой полностью совпадали с тем, что отстаивали старообрядцы. Миссионеры официальной церкви стали уличать бунтарей-старообрядцев в том, что их "ересь" - не защита старины, ибо была осуждена еще шесть веков тому назад. За анализ "Деяния" взялся один из образованнейших вождей старообрядчества Андрей Денисов (князь Андрей Денисович Мышецкий) и в своем труде "Поморские ответы", применив множество остроумных источниковедческих приемов, доказал подложность "Деяния". С тех пор "Поморские ответы" стали любимым чтением старообрядцев, а руководители официальной церкви вынуждены были забыть о загадочном "Мартине Мнихе".
Аналогичный характер носят так называемые "Протоколы сионских мудрецов", родившиеся в недрах царской охранки в начале XX века как подспорье для антисемитской пропаганды и борьбы с революционным движением. В "Протоколах" шла речь о некоем собрании руководителей мирового еврейства - "сионских мудрецов", составивших план завоевания мирового господства при помощи "разрушительной" пропаганды. Эту фальшивку активно использовали в гитлеровской Германии, а сегодня ее взяли на вооружение руководители общества "Память" и объединения "Отечество". Один из руководителей "Отечества" профессор Московского государственного педагогического института А. Г. Кузьмин, член редколлегии журнала "Наш современник", даже публично высказался за переиздание этой антисемитской фальшивки. Такую публикацию уже запланировал на 1991 год * "Военно-исторический журнал": не иначе как для улучшения межнациональных отношений в наших вооруженных силах.
* Писалось в 1990 году. (Примеч. ред.)
Если подделки, создаваемые современником документа для извлечения материальной пользы, действительно малоинтересны для историка (если их тогда же разоблачили, то историк может выяснить, какими методами велась борьба за собственность, изучить способы экспертизы документов в период, когда была создана фальшивка), то документы, создаваемые потомками, крайне интересны. Ибо они хорошо отражают ту эпоху, когда были изготовлены: скажем, амбиции и социальную психологию дворянства, позицию клерикалов, деятельность полиции по борьбе с революционным движением, национальную политику царского правительства и т. д.
Наконец, есть еще один вид подделок: изготовление "ценного исторического памятника" для продажи коллекционеру, музею, библиотеке. В первой половине XIX века на такого рода фальшивках специализировался московский купец А. И. Бардин. Более бескорыстным был живший тогда же в Петербурге отставной гвардейский офицер А. И. Сулакадзев: он не продавал свои крайне неумело сделанные подделки, а только хвастался ими и пытался на их основании делать "научные открытия".
Впрочем, среди такого рода неподлинных документов встречаются и не фальшивки. Так, например, художник-старообрядец Иван Гаврилович Блинов по просьбам купцов-собирателей мастерски изготовлял копии старинных рукописей, которых не хватало в коллекциях. Блинов никогда не скрывал, что делает лишь копии, и даже в конце рукописи обычно делал запись о том, когда переписал "сию книгу" Иван Блинов. Однако точность, с которой Блинов воспроизводил и почерк, и цветовую гамму, и заставки, настолько велика, что его творение можно принять и за древнюю рукопись, особенно если не обратить внимания на бумагу: Блинову не могло удаться подобрать к каждой рукописи однородную бумагу, точно соответствующую времени написания оригинала. При утрате последнего листа с подписью Блинова неопытный сотрудник музея мог принять рукопись Блинова за подлинник.
Подобный конфуз произошел с одним чешским лингвистом, написавшим ценное исследование о языке памятника русской письменности XI века - "Архангельского евангелия", будучи уверенным, что изучает подлинную рукопись, неведомыми путями попавшую в Чехо-Словакию. Однако он держал в руках великолепно исполненное фототипическое издание 1912 года. Издатели, как и Блинов, ничего не фальсифицировали, никого не хотели обмануть, но обман все же произошел.
Могут ввести в заблуждение и талантливые шуточные мистификации, хотя их авторов тоже нельзя отнести к фальсификаторам. Например, знаменитый французский писатель Проспер Мериме повинился перед Пушкиным, когда узнал, что поэт перевел на русский язык сочиненные Мериме якобы подлинные "песни западных славян" (точнее - южных). Пушкин не только не оскорбился, но, публикуя свою переписку с Мериме, не без удовольствия сообщил, что на ту же удочку попался Адам Мицкевич, "а какой-то ученый немец написал о них (песнях . - В. К.) пространную диссертацию". Актер и писатель И. Ф. Горбунов так вжился в русский язык XVII века, что его шуточное описание путешествия русского боярина в Германию на воды принял за подлинное знаток древнерусской литературы академик Н. С. Тихонравов, удивившись лишь тому, что уже в XVII веке существовала игра в рулетку ("в paлетку", как ее окрестил Горбунов).
Рукописи и тексты, изготовленные в подражание старинным (с целью обмануть или без), обладают одной несомненной ценностью: они позволяют узнать, каков был уровень знаний о древней письменности в то время, когда эти подделки совершились.
Итак, даже фальшивки, при условии, что историк не заблуждается на их счет, исследователь не вправе игнорировать.
Как и многие другие профессии, работа историка издалека, со стороны порой представляется и сравнительно легкой, и романтичной. За многие годы работы в вузе я не раз сталкивался с пришедшими на исторический факультет юношами и девушками, испытывавшими чувство острого разочарования. Они читали исторические романы и научно-популярные книги по истории и представляли ее себе как серию ярких событий политической борьбы, остроумных или патетических фраз. произнесенных историческими деятелями. Того же они ждали и от учебы в институте. А оказалось, что нужно вчитываться в писанные малопонятным древним языком статьи "Русской правды" и на основе их утомительно-тщательного анализа выяснить, чем отличались (и отличались ли) смерды от "людей", а холопы от челяди.
Чем дальше в лес, тем больше дров. Углубляясь в научное исследование (хотя бы на уровне семинарского доклада или курсовой работы), молодой человек убеждается, что красивые и стройные концепции рождаются только из фактов, причем не отдельных, но всего их комплекса, а вовсе не из вольного полета мысли. Как писал наш замечательный востоковед И. Ю. Крачковский, "за минуты синтеза надо платить годами анализа" [48]. Приходится не только вчитываться в документы, но и подчас заниматься долгими и скучными подсчетами. К тому же каждый документ в отдельности нередко тривиален, малоинтересен, только их комплекс откроет перед историком ту картину жизни, общую характеристику явления, которые он ищет. Но как утомителен этот путь, как порой нудно идти по нему! Но только тот, кто с удовольствием идет по этой дороге, кто радуется не только результату, но и процессу исследования, достигнет успеха. Имею в виду не карьерный и материальный, а настоящий, творческий успех.
Опасно для историка пренебрегать этим черновым этапом работы: тогда станешь не исследователем, а парящим над фактами "размышлителем". Факт тогда неизбежно превратится из инструмента познания прошлого в подобранное доказательство заранее созданной концепции. А ведь нет ничего проще, чем, используя факты как иллюстрацию, доказать любую, самую вздорную концепцию: достаточно лишь закрыть глаза на другой ряд фактов, не укладывающийся в любезную твоему сердцу схему. Такие априорные схемы, основанные лишь на части фактов, хотя бы сами эти факты и были бесспорными, сеют в обществе ошибочные, а потому и вредные представления о своем прошлом и подрывают доверие и уважение людей к исторической науке.
Например, долгие годы вся наша официальная историческая наука не видела ничего хорошего в жизни дореволюционной России (за исключением внешней политики, которая всегда считалась заслуживающей одобрения) . Читая наши учебники, мы могли наблюдать постоянное, из года в год, из века в век "ухудшение положения трудящихся масс" и "обострение классовой борьбы". Мне было лет семь-восемь, когда я, начитавшийся уже детской популярной литературы по истории, спросил своих родителей:
"Вы жили при царе?"
- "Да" .
- "Как же вы выжили?"
Сегодня возникает противоположный стереотип - сытой, благополучной страны, снабжавшей от собственного изобилия хлебом весь мир. Стереотип, который столь же неверен и односторонен, как и прежний.
Вот передо мною газета "Неделя "Вестника знания" за 1911 год, не слишком политизированное либеральное издание, рассчитанное на мелких служащих, крестьян и рабочих, стремящихся к самообразованию. Читаю письмо читателя из Тульской губернии:
"Жизнь крестьянина незавидна, даже печальна. Жилище его - это изба, кирпичная или деревянная, в 2-4 окна, с низким потолком и малого размера окнами. Пол обыкновенно земляной, от которого при сырости бывает много грязи, а когда сухо, много пыли. Нередко в такой маленькой избушке помещается до 15 человек. Это было бы еще хорошо, если бы в доме жили одни только люди. Но на это же помещение имеет притязания и скот, который необходим для крестьянского хозяйства; а чтобы не поморозить приплод, его также помещают в хату, и зиму до тепла крестьянину приходится жить вместе со скотом... И так живет из года в год наш крестьянин, питаясь хлебом, картофелем да водой. От такого изысканного меню в зимнее время дети крестьян ходят с мертвенно-бледными лицами, с ввалившимися глазами и отвисшим большим животом, что красноречиво свидетельствует о скудной пище и жилище, не отвечающих никаким требованиям гигиены".
В другом номере в письме из Гороховецкого уезда Владимирской губернии мы знакомимся с фактами не только печальными, но и отрадными.
Да, "в связи с темнотой и невежеством процветает пьянство, чем в особенности отличаются базарные села. Обыватели этих сел не пропускают ни одного базарного дня, чтобы не напиться. С пьянством развиваются грабежи, кражи, развращаются дети. Они приучаются нищенствовать и даже воровать. В Сергиевской вол. есть деревни, для которых нищенство составляет промысел".
Но вместе с тем: "Открылись кредитные товарищества в селе Сергиевы Горы, Святе, Фоминке и в дер. Польше. Кооперативное движение все развивается, члены кредитных товариществ считаются сотнями, а нынешним летом открыто еще одно товарищество в с. Гришине. Население все более и более доверяет кредитным товариществам, вклады денежные исчисляются десятками тысяч..."
Кроме того, "в глухом селе Сергиевы Горы уже года два устраиваются народные спектакли, разыгрываются любителями драматического искусства преимущественно пьесы А. Н. Островского. Окружающее население заинтересовалось театром и охотно посещает спектакли" [49]
Итак, перед нами факты, и только факты. Но можно их выстроить в один ряд и говорить о страшной, беспросветной жизни русского крестьянства, а можно - в другой, и писать о великолепной жизни мужика, пользующегося помощью кредитных товариществ и играющего в народном театре. Дело же в том, что в реальной жизни сочеталось и то и другое. Ни нарочито идеализировать прошлое, ни представлять его только в черных тонах нельзя. Жизнь не похожа на черно-белую гравюру. Она - живопись маслом, с разными оттенками и подчас незаметными, тонкими переходами от одного цвета к другому.
По отношению к своему прошлому наше время представляется мне эпохой перевернутых стереотипов. Мы никак не хотим отрешиться от стереотипного мышления как такового, от схематизма и простоты оценок. Мы только меняем плюс на минус и наоборот, превращая былых грешников в праведников, а праведников - в грешников. Но сохраняем само безоговорочное деление на "своих" и "чужих". Детский уровень мышления: те, кто "за нас" и те, кто "против нас"!
На смену старому стереотипу гражданской войны, в которой аскетические герои в черных кожанках самоотверженно сражались против пьянствующих насильников, морфинистов и кокаинистов в золотых погонах, приходит новый, но снова стереотип: чуждые стране садисты и убийцы в черных кожанках и с маузерами в руках с одной стороны и сражающиеся за светлые идеалы "корнет Оболенский, поручик Голицын" - с другой. А ведь гражданская война тем и отвратительна, что в ней нет правых и виноватых, что с обеих сторон есть и люди, самоотверженно жертвующие жизнью за то, что они считают благом для своей Родины, и убийцы, садисты, насильники. Самое же ужасное, что в обстановке раскола страны на два вооруженных лагеря в одном и том же человеке мог уживаться самоотверженный романтик, готовый отдать жизнь за товарищей, и убийца безоружных, но принадлежащих к "чужому" лагерю. "Белый" для красного, "красный" для белого переставал быть человеком.
Историк должен тщательно проверять те факты, которыми он оперирует, чтобы не принять ложный факт за подлинный. Поэтому незыблемый закон для него - черпать материал из источника, из первых рук, не доверяясь сочинениям самых выдающихся, самых честных, самых порядочных историков. Ведь никто не застрахован от ошибки, а научная честность еще не гарантия научной правоты. К тому же каждый историк, создавая концепцию, вольно или невольно, но проводит отбор фактов. Так что и в истории "свой глаз - алмаз".
Отношение к факту только как к подпорке для концепции, на мой взгляд, одна из бед нашей науки. Такой подход открывает путь к манипулированию фактами. Вот один достаточно характерный пример. А. Г. Кузьмин в течение долгого времени отстаивал и развивал точку зрения тех ученых, которые полагают, что рассказ о призвании на княжение в Новгород Рюрика и других варяжских князей, сохранившийся в "Повести временных лет", - позднейшая легенда, не имеющая никакого отношения к исторической действительности. Однако в науке накопился материал, заставляющий предполагать, что в варяжской легенде есть, по крайней мере, некоторое рациональное зерно. Вместе с тем А. Г. Кузьмин со временем отказался от взгляда на летописных варягов как на норманнов, скандинавов и присоединился к давно высказывавшейся, но не получившей признания в науке точке зрения о том, что варягами на Руси называли выходцев из славянского Поморья на территории нынешней Германии. Тем самым призвание варягов стало означать приход на Русь не иноземцев-норманнов, а единоплеменников-славян. И А. Г. Кузьмин тут же соглашается принять варяжскую легенду и пишет, что его прежний "подход логичен, если исходить из представления о "варягах" как скандинавах. Пересмотр этого положения существенно меняет оценку всего предания" [50]. А. Г. Кузьмин лишь с наивной откровенностью выразил то убеждение, которое существует у части историков: достоверность фактов, сообщаемых источниками, зависит от того, какую концепцию принимает исследователь. Концепция оказывается важнее фактов. Тем самым утрачивается критерий истинности концепции, а любая фальсификация, любая подгонка фактов под априорные общие суждения становится простым и легким делом.
Но есть еще одно обстоятельство. Мы часто забываем, что факт ценен сам по себе. Задача историка не только в том, чтобы объяснить происходившее, но и в том, чтобы выяснить, что происходило. Ведь людям свойствен бескорыстный интерес к истории. Им важно знать, как жили люди прошлого, в какие отношения они вступали друг с другом, за какие цели боролись, какую одежду носили и какие блюда ели, как любили друг друга, что их радовало и что печалило. Если все это будет нас интересовать исключительно для создания логически выверенной концепции, то история как наука гуманитарная (от homo - человек), наука о человеке перестанет существовать, превратившись в социологию прошлого. Человек - это главный и субъект и объект исторического процесса. Обезлюдевшая история - следствие сталинского представления о человеке как винтике, замены действий и интересов людей действиями и интересами абстрактных "больших масс".
Поскольку история - наука о людях, то историк не вправе относиться равнодушно к людям прошлого. Он не может не испытывать к ним сочувствия. Если он безразличен к их радостям и бедам, к их успехам и страданиям, то, конечно, сумеет, если обладает умом и трудолюбием, написать немало полезных и даже ценных исследований по конкретным вопросам, но никогда не будет способен решить большие, кардинальные проблемы истории. Логическая, но бездушная схема подменит в его трудах многоцветный, звучащий множеством разнообразных голосов мир.
Здесь мы подходим к еще одной проблеме - большой и не имеющей, вероятно, однозначного решения: историк и мораль. Вправе ли историк вершить суд над людьми прошлого? Нередко возражают: в каждое время существует свое представление о морали, нельзя по одной и той же шкале ценностей судить князя XII века и современного государственно-политического деятеля. Историк прежде всего должен разобраться в мотивах и причинах действий людей прошлого, понять их обусловленность теми или иными факторами. А суд над историческим деятелем - занятие бесперспективное, обывательское, нарушающее объективность историка.
Что ж, эти возражения до какой-то степени резонны, в них есть немалая доля истины. В самом деле, А. И. Герцен в конце 50-х годов XIX века не подавал руки морскому офицеру, применявшему к матросам телесные наказания. A в XVIII веке мы вряд ли нашли бы хотя бы одного офицера или генерала и в армии и во флоте в России и в других странах (кроме, может быть, революционных армий), который бы не порол солдат и матросов. Так можем ли мы применять критерий середины XIX века к военачальникам XVIII?
А вправе ли мы требовать от Улугбека, одного из наследников Тимура, знаменитого не столько своей политической, сколько научной деятельностью, великого астронома, чтобы его поведение соответствовало тем же нормам морали, права, законности, что и у астронома, жившего, скажем, в Германии XVIII века? Поведение человека во многом обусловлено той средой, в которой он вырос, воспитанием, системой ценностей общества, в котором он живет, социальной группы, к которой он принадлежит по рождению.
И все же было бы опасным заблуждением забывать о том, что есть общечеловеческие, вечные нормы морали. Замена морали общечеловеческой - моралью классовой, "абстрактного" гуманизма - социалистическим, утверждение, что морально все то, что идет на пользу пролетариату и его диктатуре, привели к расшатыванию моральных ценностей общества, к моральному релятивизму.
Да, нередко мы можем осуждать поступки, но не тех, кто их совершал, понимать обусловленность тех или иных малопривлекательных для нас действий особенностями времени и воспитания. Но не оправдывать же под предлогом целесообразности или общей жестокости века бессудные убийства, массовые казни, агрессивные войны, измену и предательство. Иначе мы перестанем быть людьми и не будем вправе претендовать на такое же сочувствие наших далеких потомков к нам, людям жестокого XX века. Изгоняя мораль из истории, мы неизбежно изгоняем ее и из современности. Можно согласиться с Виталием Рубиным, который в 1967 году записал в своем дневнике: "...история, лишенная нравственного содержания, становится не только занятием пустым и неинтересным, но и занятием в известной степени вредным" [51].
- ЧЕМ ОПАСНА НАША ПРОФЕССИЯ?
Нить моих рассуждений подходит к концу. Осталось объяснить, почему я считаю опасной профессию историка. Опасной не только вчера, но и сегодня, и во все времена. Дело не только в тюрьме, а то и в расстреле, которые не обошли стороной историков в сталинское время. Дело и не только в том, что проработки и изгнание с работы за отступление от идеологических позиций, от "методологической дисциплины мысли", как выразился однажды К. У. Черненко [52], грозили историкам всегда. Важнее, что сам историк - дитя своего времени, человек с определенными политическими и идеологическими пристрастиями - всегда рискует: либо, пусть невольно, пусть незаметно для себя, но погрешить против истины ради своих взглядов, либо перенести свои сегодняшние представления о людях на недавнее или далекое прошлое. Но и тому историку, который счастливым образом избежал хотя бы части этих опасностей, грозит подчас общественное осуждение за то, что он не оправдал ожиданий, нашел не ту истину, которую хотели от него получить. "История и истина - не одно и то же. Начала - вместе, окончания - врозь", - пишет Олжас Сулейменов. Должно быть, добиться полного совпадения этих двух понятий - несбыточно. И в этом главная опасность для историка. Но каждый честный историк стремится к тому, чтобы понятия эти стали друг к другу как можно ближе.
ЛИТЕРАТУРА
1. Историки и писатели о литературе и истории // Вопросы истории. 1988. № 6. С. 33.
2. Герцен А. И. Былое и думы. Л., 1947. С. 108.
3. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. С. 6.
4. Там же. С. 7.
5. Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 349.
6. Там же. С. 259.
7. Тихомиров М. Н. Российское государство XV-XVII веков. М., 1973.С. 306.
8. Ключевский В. О. Соч. М., 1958. Т. 4. С. 266.
9. Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1950. С. 352.
10. Там же. С. 71-72.
11. Сталин И. В. Соч. М., 1951. Т. 13. С. 38-39.
12. Цит. по: Валк С. Н. Иван Иванович Смирнов // Крестьянство и классовая борьба в феодальной России: Сб. статей памяти Ивана Ивановича Смирнова. Л., 1967. С. 9.
13. Там же. С. 11.
14. Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. М., 1932. С. 216.
15. Пионтковский С. А. Великорусская буржуазная историография последнего десятилетия // Историк-марксист. 1930. Т. 18/19. С. 160.
16. Покровский М. Н. Историческая наука и борьба классов. M.: Л., 1933. С. 331.
17. Быковский С. Н. Какие цели преследуются некоторыми археологическими исследованиями // Сообщения Гос. академии истории материальной культуры: Проблемы истории материальной культуры. 1931. № 4/5. С. 21.
18. Резолюции, принятые на общем собрании Общества историков-марксистов от 19/III-30 г. // Историк-марксист. 1930. Т. 15. С. 165.
19. Покровский М. Н. О задачах марксистской исторической науки в реконструктивный период // Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 3-4.
20. Покровский М. Н. Очередные задачи историков-марксистов // Историк-марксист. 1930. Т. 16. С. 18-19.
21. Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 115-118.
22. Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. С. 99, 249.
23. Покровский М. Н. Избранные произведения. М.. 1965. Кн. 2. С. 222.
24. Цит. по: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955. Т. 1. С. 318-319.
25. Все постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР по вопросам истории и ее преподавания, а также "Замечания" Сталина, Кирова и Жданова цитируются здесь и далее по сборнику.: К изучению истории. М., 1946.
26. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. 4. С. 514; Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1940. Т. 4. Стлб. 1000.
27. Против исторической концепции М. Н. Покровского. М.. Л., 1939. С. 3, 5.
28. Покровский М. Н. Историческая наука и борьба классов. С. 307.
29. Панкратова А. М. Развитие исторических взглядов М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского. С. 6, 35, 36, 38, 41, 57-59.
30. Нечкина М. В. 1) Крестьянские восстания Разина и Пугачева в концепции М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского. С. 244-275. 2) Восстание декабристов в концепции М. Н. Покровского // Там же. С. 303-336.
31. Греков Б. Д. Киевская Русь и проблема происхождения русского феодализма у М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского. С. 116.
32. См.: Энтин Дж. Спор о М. Н. Покровском продолжается // Вопросы истории. 1989. № 5. С. 154-159.
33. Очерки истории СССР. Период феодализма: IX-XV вв. / В 2-х ч. М.. 1953. Ч. 1. С. 766.
34. Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. С. 51, 71-72.
35. Cм.: Багиров М. Д. К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля // Большевик. 1950. № 13. С. 21-37.
36. Вопросы истории. 1949. № 2. С. 151-158.
37. История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): Краткий курс. М., 1953. С. 116.
38. Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 97.
39. Правда. 1946. 11 сент.
40. См.: Дорош Е. Я. Книга о грозном царе // Новый мир. 1964. № 4. С. 260-263, Дубровский С. М. Еще раз о "великом государе": Новые труды об опричнине // Знамя. 1965. № 1. С. 21 1-216; Strada V. Mito e realta di Ivan il Terribile//Rinascita, 1964. 14 nov. P. 23-24.
41. Cм.: Смирнов И. И. С позиций буржуазной историографии // Вопросы истории. 1948. No 10. С. 1 13-124; Кротов А. Примиренчество и самоуспокоенность // Литературная газета. 1948. 8 сент.
42. Обсуждение одной концепции о времени создания "Слова о полку Игореве" // Вопросы истории. 1964. №9. С. 121-140.
43. См.: Пашуто В. Т. По поводу книги И. Я. Фроянова "Киевская Русь. Очерки социально-политической истории" // Вопросы истории. 1982. № 9. С. 174-178; Лимонов Ю. А. Об одном опыте освещения истории Киевской Руси: Летописи и исторические построения в книге И. Я. Фроянова // История СССР. 1982. № 5. С. 173-178; Свердлов М. Б., Щапов Я. Н. Последствия неверного подхода к важной теме // Там же. С. 178-186.
44. См.: Новосельцев А. П. Источник - основа работы историка; Назаров В. Д. Хранить и развивать лучшие традиции исторической науки ("Круглый стол") // Вопросы истории. 1988. № 3. С. 29-30, 48.
45. Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. 2. Стлб. 339-340.
46. См.: Повесть временных лет. М., 1950. Т. 1. С. 12-16.
47. XVIII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 10-21 марта 1939 г.: Стенографический отчет. М., 1939. С. 8, 30, 267, 275- 276, 282, 521-522, 529, 556.
48. Крачковский И. Ю. Избранные сочинения М. -Л, 1950. Т. 1. С. 74.
49. Неделя "Вестника знания". 1911. No 7. С. 8-9: No 1. С. 13-14.
50. Кузьмин А. Г.: 1) К вопросу о происхождении варяжской легенды // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967. С. 53: 2) "Варяги" и "Русь" на Балтийском море. // Вопросы истории. 1970. № 10. С. 30.
51. Рубин В. Дневники. Письма. Иерусалим, 1989. Т. 1. С. 88.
52. Черненко К. У. Актуальные вопросы идеологической массово-политической работы партии // Справочник партийного работника. М., 1984. Вып. 24: 1984. Ч. 1. С. 30.
Декабрь 2002
ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ КОБРИН (1930-1990)
Воспроизведено по изданию:
Владимир Борисович Кобрин: Биобиблиографический указатель.
Сост.: Р.Б. Казаков, Л.Н. Простоволосова; Вступ. ст. А.Л. Юрганов;
РГТУ ИАИ. М., 1999. 55 с. (Ученые РГГУ).
Имя этого историка уже прочно вошло в анналы исторической науки, Тому свидетельство - посвященная памяти профессора В.Б. Кобрина конференция, проведенная в Историко-архивном институте в январе 1992 г., научные статьи о его творчестве, новые публикации трудов и живой интерес современников к еще не опубликованному наследию ученого...
Серьезная увлеченность русской историей проявилась у Владимира Борисовича рано - тринадцатилетним школьником он написал конкурсное сочинение на тему о судьбе опричного двора в Москве. В юношеском дневнике находим генеалогические схемы родословий опричников, заметки об историках и истории XVI в. под общим заголовком "Социальный состав опричнины". Путь к профессиональным занятиям по русской истории не был прямым и легким, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что, будучи учеником М.Н. Тихомирова (на первых курсах), он на последних курсах "уходит" в современность и защищает в 1951 г. дипломную работу по истории современной Италии. Желание активно участвовать в общественной жизни страны увлекло его и переориентировало исследовательский интерес. Лишь через несколько лет молодой историк вернется из Сталина (Донецка), куда он был распределен по окончании университета, и вновь займется русской историей XVI в. Это было связано с тем, что после "дела врачей" В.Б. Кобрин изменил свою точку зрения на природу партийной власти и советского общества. Скептицизм станет с этого момента характерной чертой личности ученого. До полного разочарования в юношеских идеалах было еще далеко, но стало очевидным, что наука "указаний" уже не увлекает творчески одаренного человека. Возвращение к прежним средневековым сюжетам осмысливалось им как возвращение к подлинной науке, где не властвуют идеологические догмы.
Удачей всей его жизни можно считать знакомство с А.А. Зиминым. Он и рекомендовал в 1957 г. молодого аспиранта (руководил которым В.Н. Бочкарев) на работу в Государственную библиотеку им. В.И. Ленина. Общение с А.А. Зиминым многое изменило во взглядах Кобрина на науку - то была настоящая, полноценная "школа", столь необходимая каждому, кто входит в "храм науки".
Стремление уйти от концептуального прессинга к анализу источников видно из его рецензии на книгу И.И. Смирнова "Очерки политической истории Русского государства 30-50-х годов XVI века" (М.; Л., 1958). Он писал:
"Вряд ли во всех политических действиях в XVI в. нужно обязательно искать направленность, укладывающуюся в схему: либо на пользу дворянству, либо на пользу боярству, ведь и дворяне и бояре были представителями одного и того же класса феодалов".
Этим "классом", его интересами, пристрастиями, темными и светлыми сторонами собирался заниматься историк, считая принципом своей деятельности интеллектуальную честность:
"Доказанную Д.Н. Альшицем тенденциозность этого источника (Царственной книги - А.Ю.) И.И. Смирнов не отрицает, но использует его несколько субъективно. Те сведения, которые не укладываются в его концепцию, он объявляет вымышленными... Это, по нашему мнению, неверно".
Принцип "честности" историка манифестирован им и в рецензии на монографию А.А. Зимина "Реформы Ивана Грозного": "Актор проявляет обычно максимум осторожности, не стремится подчинить схеме сложную историческую действительность". В этих утверждениях обозначился собственный путь историка - сначала доказательства, потом выводы, концепция. "Жизнь" - то, что предшествует осмысленной схеме. Для Кобрина источниковедение стало чем-то большим, чем научной методикой, в том смысле, что оно определяло уровень его исторической образованности и даже стиль мышления в условиях советской тоталитарной действительности. Тезисам "от идеологии" он всегда умел противопоставить живую мысль "от факта". Уникальная память и громадная эрудиция в области так называемых вспомогательных исторических дисциплин делали его порой заложником собственного знания: ему, например, нелегко было воспринимать искусство, безразличное к тем деталям, от которых, как он считал, и зависело ощущение подлинности.
Защищенная в 1961 г. кандидатская диссертация была посвящена изучению состава опричного двора Ивана Грозного. Составленный им список 277 "несомненных опричников" основывался на опубликованных источниках и многочисленных архивных материалах. Впервые в науке было фронтально изучено феодальное землевладение опричников. В капитальном труде об опричнине А.А. Зимин ссылался на работы молодого историка почти столь же часто, как и на труды С.Б. Веселовского. В диссертации проявилась «научная осторожность» самого Кобрина - его нежелание декларировать то, что еще не проверено исследованием. Отсюда источниковедческие оговорки в общих выводах, косвенно свидетельствовавшие о высокой степени зрелости историка:
"...состав Опричного двора был несколько "худороднее" доопричного и главное - современного ему земского... разницу между опричниной и земщиной не следует преувеличивать, она не была настолько велика, чтобы мы были вправе резко противопоставлять их друг другу...".
В очерке "Государевы опричники" (1972) он писал:
"Современная наука все дальше отходит от классического представления об опричнине как о политике, направленной против боярства и крупного землевладения. Жизнь оказалась гораздо сложнее этой схемы. Водораздел между сторонниками и противниками центральной власти далеко не всегда проходил по этой, казалось бы, такой ясной линии...".
Деятельность "честного историка" Кобрин понимал как неподчинение сложной действительности прошлого заранее придуманной схеме.
Собственная ориентация на максимально полное изучение источников, предшествующее концептуальному осмыслению, была для него рефлексией (и внутренним протестом) против той легкости, с которой официальные историки подгоняли "факты" под тезисы". Проверкой научности, честности и гражданского мужества для многих историков была известная дискуссия 1964 г. о времени создания "Слова о полку Игореве". А.А. Зимин отстаивал не только свое мнение, но и право на него. В.Б. Кобрин поддержал учителя идейно и научно. В отзыве на эту монографию он излагал не только научные, но и гражданские позиции:
"Заслугой А.А. Зимина является большая научная честность, щепетильность, добросовестность. Он приводит не отдельные факты, вырванные из окружения, а все факты, а том числе и такие, которые, на первый взгляд, говорят не в его пользу. Именно поэтому так убеждает его аргументация, именно поэтому самый придирчивый взгляд (даже человека, не разделяющего его основных положений) не найдет в работе А.А. Зимина, следовательно, вольной или невольной подтасовки, подгонки фактов под концепцию"... *
* Личный архив В.Б. Кобрина.
В последующие годы основным предметом изучения В.Б. Кобрина стал правящий слой России XV-XVI вв. Он принялся изучать взаимоотношения власти и собственности, государства и экономического положения русской аристократии и дворянства, для чего потребовалось провести фундаментальное исследование персонального состава тех, кто проводил определенную политическую линию - был сторонником или противником правительственных мероприятий, "выигрывал от их осуществления или оказывался жертвой, раздавленной колесницей нового государственного порядка". Путь к пониманию синтеза власти и собственности лежал через анализ феодального землевладения: важно было восстановить не только картину размеров владений, но и их характер, географическое размещение, объем владельческих прав. Результатом такого многолетнего исследования явилась докторская диссертация "Землевладение светских феодалов и социально-политический строй России XV-XVI веков" (1983).
Кобрин был убежден: выводы должны соответствовать содержанию всей совокупности источников, относившихся к теме. Им были исследованы фонды РГАДА, Отдела рукописей Российской государственной библиотеки, Отделов рукописей и старопечатных книг и письменных источников Государственного исторического музея (Москва), РГИА, Архива санкт-петербургского филиала Института российской истории. Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, государственных архивов Владимирской, Тверской, Костромской и Ярославской областей. Костромского и Ярославского музеев-заповедников.
С каждым видом источников Кобрин умел обращаться как мастер, знающий свое дело до тонкостей и обладающий "ювелирной техникой". Характерный пример: опубликованная еще в прошлом веке грамота Василия Темного (от 9 октября 1461 г.) Ларе Бунаку княж Михайлову сыну Хотетовского на два села в Вяземском уезде не вызвала подозрений в подложности у второго публикатора (и крупнейшего знатока актов) И.А. Голубцова. Как на подлинную ссылался на нее Б.Н. Флоря (указывая, правда, на уникальность одной из формулировок грамоты). Кобрин доказал подложность акта, увидев в нем несоответствия: Вяземский уезд в 1461 г. находился еще в составе Великого княжества Литовского (т. е. вне юрисдикции Василия Темного); запрет же в грамоте принимать в села людей из земель великого князя и разрешение перезывать "инокняжцев" из Можайска - вообще вне реалий: с 1454 г. Можайск входил во владение Василия Темного, и люди из Можайска не были в 1461 г. "инокняжцами". Историк определил мотивы подделки -
"в конце XVII в. подложную грамоту представили в Разрядный приказ вяземские дворяне Бунаковы, тем самым пытаясь вывести свой род от князей Хотетовских".
Как источниковед Кобрин обладал редким даром - тонким ощущением живого русского языка разных эпох. Он безошибочно утадывал стилизацию или подделку уже по языку документа. И в спорах с историками о подложности того или иного акта ученый находил в тончайших семантических и фонетических оттенках слов аргументы, решавшие спор.
Историком было изучено более 4 тыс. актов феодального землевладения XVI в. - почти весь сохранившийся корпус источников. На основе такого фронтального исследования он создал картотеку по персональному составу правящей элиты России XVI в. Нужно было вжиться в эпоху, понять поступки людей, их психологию, ментальность, генеалогические связи, чтобы реконструировать судьбы феодальной собственности, переходившей из рук в руки по наследству. Следуя правилу, которое сформулировал знаменитый арабист И.Ю. Крачковский, - "за минуты синтеза надо платить годами анализа" - Кобрин, лишь убедившись в полноте изученного материала, осознал на новом теоретическом уровне смысл политической истории XV-XVI вв.
На XI сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы (Одесса, ноябрь 1969 г.) В.Б. Кобрин сделал сообщение "К вопросу о репрезентативности источников по истории русского феодального землевладения XV-XVI веков". Оно стало событием в науке. Как монастырские архивы отражают землевладение светских феодалов? Имеем ли мы право по сохранившимся актам судить о характере самого землевладения? Репрезентативность определялась им в зависимости от цели исследования:
"...если для составления полной карты феодального землевладения в том или ином уезде необходима (при отсутствии писцовых книг) сохранность всех без исключения актов феодального землевладения на данной территории, то для изучения истории формуляра той или иной разновидности акта достаточно сохранности лишь части документов, лишь бы причины гибели одних из них и наличия в архивохранилищах других были случайными и не связанными с содержанием и формуляром актов".
В ходе исследования выяснилось:
"До нас дошло не менее половины актов из архивов всех духовных феодалов XVI в. Следует подчеркнуть, - писал В.Б. Кобрин, - что па цифра получена при помощи заведомо заниженных данных (при подсчете не учитывались монастыри в районах поместного землевладения, принят намеренно минимальный процент сохранности... а потому возможно, что в действительности до нас дошло больше - до двух третей реально существовавших актов".
Насколько же естественна выборка, которая дошла до нас? Что можно на основании этой выборки изучать в истории феодального землевладения? Кобрин со свойственным ему остроумием писал:
"Гибель каждого документа в отдельности была обусловлена какими-то определенными причинами, на первый взгляд случайными: сырое помещение для хранения архива, небрежность хранителя, пожар и т. п. Закономерно, однако, что на протяжении веков многим документам приходилось испытывать действие этих факторов... Мышь не делала выбора между купчей и данной, плесневый грибок равно съедал меновую и очищальную... Именно поэтому мы вправе рассматривать эту естественную выборку как приближающуюся большей частью к случайной".
Итак, фронтальное изучение актов феодального землевладения XVI в. привело Кобрина к таким выводам в его докторской диссертации, которые значительно разошлись с традиционными представлениями в историографии. Политическая история XV-XVI вв. рассматривалась обычно через призму борьбы боярства и дворянства. Чтобы решить важнейший вопрос -"миф это или реальность" - потребовалось изучить, как феодальное землевладение определяло социально-политический строй России. В.Б. Кобрин пришел к выводу, что нет
"оснований для разделения феодалов на помещиков и вотчинников, ибо одновременное владение вотчинами и поместьями было характерно для многих служилых людей XVI в.".
Не противопоставляется поместье вотчине и как ненаследственное владение наследственному: новгородское поместье было наследственным в первой половине XVI в. (это выяснили Г.В. Абрамович и A.Я. Дегтярев). По остроумному предположению историка, термин "помещик" возник раньше, чем термин "поместье", и первоначально обозначал феодала, помещенного на новом месте. Поместье - это "вторичный термин, обозначающий владение помещика". Черная земля, пущенная в поместную раздачу, не меняла своего верховного титульного собственника - государя - "и продолжала юридически и психологически осознаваться как волостная". Поместье и вотчина в первой половине XVI в. были еще схожи: различие состояло в запрете продажи, заклада, дарения для поместья. Только в ходе дальнейшего развития поместье стало резко противопоставляться вотчине. Для первой половины XVI в. характерна близость состава помещиков и вотчинников - "они нетолько были выходцами из одних и тех же социальных групп господствующего класса, но зачастую совмещались в одном лице".
Изучение серии приговоров 1551 и 1562 г. по княжескому землевладению показало, что
"правительственная политика по земельному вопросу в середине - третьей четверти XVI в. не имела в течение всего этого периода какого-то одного общего направления. То она способствовала консолидации господствующего класса и консервации основных прав местных феодальных корпораций (Приговор 1551 г.), то она шла в наступление на княжеское землевладение под видом его защиты (Приговор 1562 г.), то возвращалась к политике 1551 г. (Приговор 1572 г.). В результате так называемая антибоярская политика правительства оказывалась скорее историографической легендой, закрепленной в сознании многократным повторением, чем исторической реалией".
В.Б. Кобрин считают, что светское феодальное землевладение утвердилось на основной территории будущего единого государства на рубеже XIII-XIV вв., главным образом путем княжеского пожалования, что повлекло за собой большую степень зависимости русского феодала от своего сюзерена и меньшую его связь с земельными владениями, чем в ряде друтих европейских стран. Создание единого государства отвечало интересам всего "класса феодалов" - как "верхов", так и "низов". Анализ жалованных грамот показал, что княжеская формула "пожаловал есмь" сменяется формулой вотчинного типа - "дал есмь". Наиболее раннее ограничение княжеских прав испытали суздальско-нижегородские князья.
Истоки концепции борьбы боярства и дворянства Кобрин усмотрел в XVI в., - в публицистике самого царя Ивана, который страстно любил тему "боярской измены". Эти размышления привели его к рассуждениям об исторических путях России и Западной Европы. Попытку объяснить политическую историю России с точки зрения противоборства реакционного боярства и прогрессивного дворянства он связывал со стремлением историков "найти в России явления, стадиально близкие западноевропейскому средневековью". В концепции С.М. Соловьева и К.Д. Кавелина о борьбе родовых и государственных начал важное место занимало представление о борьбе боярства против самодержавия, хотя историки "государственной школы" и не искали корней оппозиции знати царям и великим князьям в землевладельческих интересах боярства, а говорили лишь о "привычке русской аристократии к старому порядку вещей и традиции родового быта".
Особенно четко стремление отождествить пути развития России и Западной Европы проявилось в трудах Н.П. Павлова-Сильванского, который "с поразительной находчивостью сумел окрестить почти каждое явление русского средневековья". В.Б. Кобрин так характеризовал самые существенные особенности национального развития: Восточная Европа в отличие от Западной не знала синтеза "разлагавшегося рабовладельческого общества и разлагавшегося первобытного строя"; на Руси не было воинственных, самоуправных и независимых феодалов по образцу западноевропейских баронов; самое же существенное отличие русского боярина от западноевропейского собрата состояло, по мнению ученого, в том, что на Руси не было боярских замков.
Выступая на последнем в своей жизни Всесоюзном симпозиуме по изучению проблем аграрной истории (Минск, октябрь 1989 г.), В.Б. Кобрин говорил о городе как о "центре феодального властвования": "ремесленно-торговое население естественно концентрировалось вокруг князей и их дружинников, а впоследствии вокруг феодалов-землевладельцев как наиболее платежеспособных потребителей"; "нет ни города без князя, ни князя без города"; именно "тесная связь с землевладением всей городской верхушки воспрепятствовала созданию в русских городах бюргерского городского патрициата"; "с княжеским характером русского города связано отсутствие специфического городского права и собственно «городских вольностей»".
Таким образом, анализ обширного актового материала по истории феодального землевладения позволил В.Б. Кобрину высказать суждения, которые противостояли традиции, берущей свое начало от "государственной школы", рассматривать политическую историю с точки зрения прогрессивного самодержавия и борющегося с ним боярства: "реальная жизнь слишком сложна и противоречива, чтобы во всех своих проявлениях подчиняться логической схеме". По мнению ученого, "создание в России единого государства и его централизации отвечало коренным интересам господствующего класса в целом, а не какой-то его, пусть и многочисленной части". Сравнивая средневековую Россию с Западной Европой, В.Б. Кобрин увидел "неклассичность" русского феодализма в том, что возникшее в конце XV в. (в силу комплекса причин) деспотическое самодержавие превратило даже высшего сановника в холопа государя, тогда как в западноевропейской государственности, основанной на традициях вассалитета, за феодалами закреплялись значительные права и привилегии.
Такова основная "биография идей" замечательного историка. О многом, конечно, не сказано в силу разных причин. Историк жил и творил в определенное время, отпечаток которого как "отблеск костра", освещает любой жизненный путь. Те мирские страсти, коими был попющен ученый в своей жизни, теперь улеглись, многое видится в ином свете, возникают иные ощущения и мысли, и естественным образом они создают новую связь между живым человеком и его временем...
Еще предстоит, конечно, глубоко и всесторонне осмыслить тот историографический этап развития исторической науки, в котором навсегда остались не только В.Б. Кобрин, но и его учитель, А.А. Зимин. Уже очевидно, что важную роль в нем сыграла борьба ученых с тоталитарной системой за отстаивание права исторической науки на собственное понимание исторического процесса. В такой борьбе - и в условиях несвободы - возникла методология выживания исторической науки. Она выразилась в позитивистском источниковедении, для которого характерно было стремление, основываясь на источниках, а не на априорных идеях, обнаружить то, что было "на самом деле".
Позитивизм в нашей стране сыграл роль самозащиты исторической науки от монопольных посягательств на истину. Право говорить "от источника" о том, какой была "подлинная" история, внушало мысль, что самое существенное о настоящем можно сказать, прибегнув к прошлому. В нем, считал В.Б. Кобрин, как бы повторяются те сюжеты, с которыми приходится сталкиваться в настоящем, потому что неизменна сама психофизическая природа человека. Кроме того, "поток жизни" не всегда поддается глубокому осмыслению, тогда как поток "остановившийся" дает возможность через опыт "подлинного" прошлого увидеть смысл драмы настоящего. В последней написанной им статье "Смутное время - упущенные возможности" особенно ощущается, как неотрешенно от событий своего времени думал историк над тем, "где и какую бабочку мы раздавили". А потому он говорил о "продолжении русской истории в советское время", в котором не случайно "начинается возрождение имперского сознания, опричнины, чинопочитания и прочих традиций, уходящих корнями в далекое прошлое".
Благодаря таким историком, как В.В. Кобрин, защищавший права исторической науки на собственное понимание прошлого, мы сегодня можем позволить себе многое - думать о разных путях изучения исторического опыта, сомневаться в том, что психическая природа человека неизменна, допускать разные методы изучения источников. А главное - ничего не бояться.
А.Л. Юрганов
Октябрь 2002