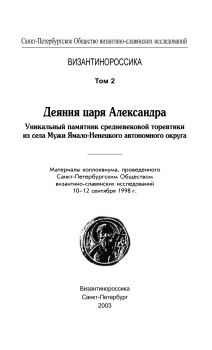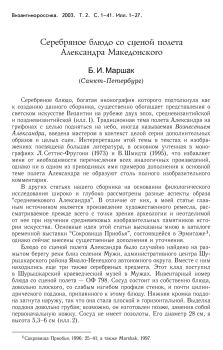(1). Состав клада
2
(2). Пути в Приобье
4
(3). Вопрос о светском серебре Византии. Дата блюда
6
(4).
Восточные мотивы
11
(5).
Некоторые особенности стиля
15
(6).
Образ Александра
17
(7).
Боковое поле
22
(8). Сцена боя и ее значение
26
(9).
Композиция в целом
32
Литература
34
Список иллюстраций
40
Серебряное блюдо, богатая иконография которого подтолкнула
нас к созданию данного сборника, существенно обогащает представления о
светском искусстве Византии на рубеже двух эпох, средневизантийской и
поздневизантийской (илл. 1). Традиционная тема полета Александра на грифонах
с целью подняться на небо, иногда называемая Вознесением Александра,
введена мастером в контекст целой серии дополнительных образов и целых сцен.
Интерпретации этой темы в текстах и изображениях посвящена большая
литература, в основном учтенная в монографиях Л. Сеттис-Фругони (1973) и В.
Шмидта (1995), что избавляет меня от необходимости перечисления всех
аналогичных произведений, однако ни в одном из приводимых ими примеров
дополнения к основной теме полета Александра не образуют столь полного
изобразительного комментария.
В других статьях нашего сборника на основании филологического
исследования широко и глубоко рассмотрены разные аспекты образа
“средневекового Александра”. В отличие от них, в моей статье главным
источником является произведение художественного ремесла, рассматриваемое
прежде всего с точки зрения археологии и неотделимой от нее при изучении
средневековых изобразительных памятников истории искусства. Основные идеи
этой статьи высказаны мною в каталоге временной выставки “Сокровища Приобья”,
состоявшейся в Эрмитаже [1], однако сейчас внесены существенные дополнения и
уточнения.
Блюдо со сценой полета Александра было случайно найдено на
размытом берегу реки близ селения Мужи, административного центра
Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Вместе с ним
находились еще три также серебряных предмета. Этот клад поступил в
Шурышкарский краеведческий музей в Мужах. Инвентарный номер блюда со сценой
полета — ОФ 798. Сосуд состоит из собственно блюда, довольно плоского, со
слабым изгибом профиля стенок, и почти цилиндрического поддона, припаянного
к этому блюду. Нижняя кромка поддона загнута наружу, так что она стала
плоской и горизонтальной. Выделка поддона довольно грубая; возможно, он
изготовлен позже, заменив собой первоначальную ножку. Сосуд не имеет
позолоты. Его диаметр 28 см, а высота 5,3-6 см (илл. 2).
1.
Сокровища Приобья, 1996: 25-41; а также Marshak, 1997.

2
Лицевая сторона блюда состоит из медальона на дне, бокового
поля и массивной подтреугольной в сечении закраины. Декор выполнен разными
техническими приемами. Высокий рельеф центрального медальона отчеканен с
оборота, тогда как рельеф орнамента плоского борта получен выборкой
углублений. Боковое поле имеет плоский графический рисунок. Линии выполнены
пунктирной чеканкой и затем пройдены резцом; детали, в особенности черты
лица, лишь намечены, что создает нарочитое впечатление легкости и какой-то
эскизности рисунка, контрастирующее с четкостью очень высокого рельефа. Фон
бокового поля обработан кольцевидным пуансоном. Таким же пуансоном и
точечным чеканом с лицевой стороны дополнительно проработан рельеф.
(1).
Состав клада
Перед тем как перейти к исследованию иконографии наиболее
семантически значимых элементов декора, попытаемся определить датировку
блюда и его место в развитии художественного ремесла Византии и культурно
связанных с ней стран на основании состава клада, манеры исполнения и
деталей узора.
Большое значение для датировки имеют даты других серебряных
изделий из той же находки: резервуара чаши, в свое время снабженной ножкой и
крышкой, утраченными впоследствии, и двух крышек от чаш (илл.
3-4),
одна из которых имеет приклепанную ручку-навершие, изготовленную не для нее,
а для какой-то четвертой, несохранившейся чаши. Этот ремонт был произведен
не для последнего сибирского владельца, который, по-видимому, отнюдь не
стремился восстановить первоначальный облик доставшихся ему неполных
сосудов. Скорее всего, чаша лишилась ручки где-то неподалеку от места
производства, там где оказалось возможным подобрать деталь, близкую по стилю
к декору крышки и, очевидно, самой чаши (илл.
3).
Форма чаш очень характерна: профили резервуара и крышки
симметрично повторяют друг друга. Резервуар имеет овальное в сечении тулово
с выпуклым плечиком и вертикальным бортом, на который надевается такой же
борт крышки. Симметрию низа и верха нарушают усеченно-коническая ножка и
ручка-навершие на крышке. Такая тщательно разработанная форма была
распространена очень недолго, примерно с середины XII по первую четверть
XIII в., причем она была в употреблении одновременно в Византии и, вероятно,
в потерянных Византией в XI-XII вв. христианских землях на востоке Малой
Азии и в Верхней Месопотамии, а также в Англии, английских владениях в
Западной Франции и, возможно, северо-западной Германии. На Западе известны
как церковные, так и светские сосуды этого типа
[2],
а на Востоке — только светские. В I половине XIII в. чаши
2.
Skubiscewski 1965; Andersson 1983.

3
становятся подчеркнуто стройными, а к середине этого века
вообще исчезают
[3].
В кладе из Мужей найдены части четырех светских
западно-европейских чаш
[4].
Самая ранняя из них (кат. № 73) относится примерно к третьей четверти XII в.
(илл. 5), а самая поздняя — к самому началу XIII в. (илл.
3).
Надо отметить, что на этой крышке
[5]
самые поздние элементы декора, типичные для XIII в. (илл. 6-7), находят
аналоги и в более ранних миниатюрах XII в. Так, изображение бородатого
старика в высокой шапке украшает инициал в латинской рукописи
Иудейских древностей
[6],
а чудовище с головой в капюшоне в украшениях английской рукописи
засвидетельствовано уже около 1180 г.
[7].
Крышка попала в клад не вскоре после ее изготовления, а после какого-то
промежутка времени, когда она лишилась навершия и затем была
отремонтирована. Похожую судьбу имела серебряная чаша, найденная на Украине,
в кургане половецкого предводителя
[8]
(илл. 8-9). Эта чаша с крышкой, изготовленная, скорее всего, около 1200 г.
мастером из Пикардии или Фландрии (о чем говорит близость его орнамента к
декору сибория из Сент-Омера
[9]),
была превращена в курильницу другим ремесленником, который на крышке
поместил вместо ручки ажурное филигранное навершие 1170-x-1180-х
гг., вероятно, кельнской работы
[10]
(ср. также декор сибориума того же времени из Браувайлера
[11],
или реликвария-ларца св. Аннона 1183 г.
[12],
который, впрочем, сильнее отличается от навершия курильницы). Целая партия
западноевропейских пиршественных чаш или их разрозненных частей была, по
всей вероятности, завезена в низовья Оби в первые десятилетия XIII в. Мы не
знаем, почему человеку, зарывшему клад, достались одна чаша без поддона и
крышки, две крышки и блюдо, сохранившее свой поддон. Возможно,
некомплектными чаши оказались еще до их привоза в северную Сибирь: в
Чернигове найдена золотая крышка без чаши
[13],
другая серебряная крышка находилась в Екатеринодаре
[14],
а чаша с крышкой, но без навершия и поддона обнаружена в Тарту
[15].
Чаши и крышки могли попасть в разные руки
3.
Skubiscewski, 1965.
4.
Сокровища Приобья, кат. № 72-74, аннотации М.Я. Крыжановской.
5.
Сокровища Приобья, кат. №74.
6. Bibl. Nat., lat. 5047, fol.2 - Lauer, 1925: 81-82,
pl.XLIII, 4
7. Durham. Cathedral Library, A. 11. fol.4v — Kaufmann, 1975:
122, cat. no. 99, fig. 286.
8. Отрощенко, Рассамакин, 1986; Rolle et alii, 1991: 276-279,
343, Kat. Nr. 207
9. Verdier, 1974; Gauthier, 1987, fig. 9; 1983: 115, 116,
118, ill. 66.
10. Ср., например, с навершиями купольного реликвария
1175-1180 гг. из “сокровищницы Вельфов” - Kotsche 1973: 35-39, 71-73, Taf.
VII, VIII
11. Skubiscewski, 1965: 6.
12. Rhein and Maas: Kunst and Kultur 800-1400. Koln 1972:
321-322, Kat. Nr. КЗ.
13. Даркевич, Едомаха, 1964; Даркевич, 1977: рис. 55-58
14. Marschak, 1986: Abb. 151.
15. Банк, 1962.

4
уже на пирах своих знатных владельцев: как показывает,
например, один из средневековых рассказов о щедрости “юного короля” Генриха,
брата Ричарда Львиное Сердце: “Один бедный рыцарь увидел однажды крышку от
серебряной чаши и подумал: “Если мне удастся ее похитить, мои домашние будут
обеспечены на многие дни”, — и украдкой взял ее. Мажордом, убирая со стола,
пересчитал серебро. Обнаружилось, что нет крышки от чаши. Стали кричать об
этом в один голос и принялись у двери обыскивать рыцарей. Король-юноша
приметил того, у кого была эта крышка, и, тихонько к нему подойдя,
прошептал: “Передай крышку мне: меня не станут обыскивать”. Устыдившийся
рыцарь так и сделал. Король-юноша возвратил ему и вручил эту крышку за
дверью, а позднее, распорядившись вызвать его к себе, отдал ему и саму чашу”
[16]. Сосуды пострадали еще на родине, это могло снизить их цену и облегчить
их скупку купцом, собиравшимся обменять их на меха и бивни моржа у охотников
Арктики, среди которых до сих пор существует традиция использовать для
жертвенного мяса только металлические, обычно привозные, сосуды.
(2).
Пути в Приобье
Обмен серебряной посуды на меха, спрос на которые был очень
велик в течение всего средневековья, охватил с VI-VII вв. лесное Прикамье и
в меньшей мере Приобье. Сначала дорогу на север по Волге и Каме освоили
восточные, преимущественно среднеазиатские, купцы. Примерно с X в. торговля
мехами и серебром перешла в руки торговцев вновь возникшего государства
Волжская Болгария, с этого времени и далее до начала XIII в. они во все
возрастающей степени осваивали также приобский рынок. В X в. до устья Оби
добираются по морю скандинавские викинги, а в XI в. в страну Югры, т. е.
обских угров, проникают новгородцы, причем тогдашние ученые уверяли их, что
за Югрой находится стена Александра Македонского, защищающая мир от свирепых
народов Гог и Магог, которые завоюют мир перед концом света. В XII в. Югра
платила новгородцам дань, а в 1193 г. восстала и разбила новгородское
войско. Если волжско-болгарский импорт в Приобье достаточно хорошо
прослеживается [17], то русских вещей очень немного, и они невыразительны
[18]. Вероятно, более сильные в военном отношении новгородцы, подчинив угров, не торговали с ними, а получали пушнину, серебро и “рыбий зуб” в виде
дани.
В Западную Европу приобские товары попадали через Новгород,
где существовало торговавшее ими специальное купеческое объединение
Югорщина. Со второй половины XIII в. Югра упоминается в договорах
16. Жизнеописания трубадуров. 1993: 348-349.
17. Федорова, 1991; Сокровища Приобья.
18. Могильников, 1991.

5
как новгородская волость [19]. Впрочем, и в XIV в. новгородцы
снаряжали грабительские отряды ушуйников, нападавшие на Югру. Кроме того, в
1229 г. немецкие купцы из Риги, Любека и других городов благодаря своему
договору со Смоленском и одновременному договору Владимиро-Суздальского
княжества с волжскими болгарами получили доступ в Болгар [20].
Однако целая серия серебряных сосудов, бронзовых водолеев и
других западно-европейских изделий, найденных в Приобье, попали туда, скорее
всего, в отрезок времени между разгромом новгородских “даньщиков” в 1193 г.
и договорами 1229 г., поскольку они датируются концом XII или началом XIII
в. [21]. Представляется наиболее вероятным, что морской путь вокруг
Скандинавии из Англии и земель к югу от Северного моря к устью Оби, когда-то
пройденный викингами, снова функционировал в эти десятилетия, ненадолго
оказавшись выгоднее получения приобской пушнины через новгородцев или, после
укрепления немцев-крестоносцев в устье Западной Двины в начале XIII в.,
через целую цепь посредников: Ригу, Полоцк, Смоленск, Суздальские земли и
Волжскую Болгарию. Арабские купцы второй половины XIII в. покупали югорские
товары в Болгаре, болгарские — в Чулымане, находившемся в лесостепном
Приобье, а чулыманские — в самой Югре, тогда путь в Западную Европу, “к
франкам”, тоже шел через Болгар [22].
Блюдо со сценой полета Александра выделяется среди сосудов
клада как единственное изделие не северо-европейского, а византийского
культурного ареала. Однако и оно могло попасть на Обь из земель, лежавших
близ Северного моря, поскольку Лотарингия, Фландрия и Англия дали много
деятелей Крестовых походов, сохранявших связь со своей родиной. В частности,
графы Булони и Фландрии стали князьями Эдессы, королями Иерусалима и,
наконец, императорами Константинополя. Не только политические, но и
художественные связи северо-запада Европы с Востоком были очень тесными.
Недаром сложная форма чаш с поддоном, о которых шла речь выше, получила
распространение как в этом регионе, так и в византийском мире.
Состав клада позволяет думать, что в него входят вещи,
одновременно, в первые десятилетия XIII в., привезенные на Обь западными
моряками, хотя это, конечно, не исключает возможность несколько более ранней
датировки отдельных вещей: так, чаша с изображениями птиц и монстров
[23]
относится примерно к третьей четверти XII в.
19. Договор 1270 г. с великим князем Ярославом Всеволодовичем
— Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949, № 3.
20. Рыбаков, 1948: 341, 349.
21. О датах вещей см.: Даркевич, 1966; Крыжановская, 1996:
165-199.
22. Тизенгаузен, 1884: 225, 236-237.
23. Сокровища Приобья, кат. №
73.

6
(3).
Вопрос о светском серебре Византии. Дата блюда
Что касается самого блюда со сценой полета Александра, то
определение художественно-ремесленной традиции, к которой восходит его
декор, и датировки этого декора начнем с анализа тех деталей, которые
объединяют его с византийским художественным ремеслом. Надо учитывать при
этом, что светские серебряные сосуды, на которых нет клейм и надписей
времени их изготовления, как правило, становятся загадкой для ученых. Если
по археологическому контексту обычно удается все же определить
приблизительные даты, то о месте производства судить гораздо труднее, и
споры специалистов длятся десятилетиями.
Византийскими XII — начала XIII в. разные авторы считали три
взаимосвязанные группы сосудов [24] или две из этих групп
[25]. Необходимо
остановиться на всех трех группах, из которых одна обнаруживает явное
сходство с блюдом со сценой полета Александра по таким признакам, как
сочетание высокого рельефа, выполненного с оборота, на главных частях сосуда
с плоским рисунком, оставленным резервом на канфаренном фоне, причем фигуры
людей и животных дополняются растительным орнаментом. Эта группа
определенно, без кавычек, византийская. В нее входят крышка от чаши
[26],
чаша с аркадой [27], чаша с пиром императрицы (илл. 10)
[28], два блюда с
четырьмя крылатыми львами в центральном медальоне [29]. К ней принадлежит и
бронзовый диск канделябра из монастыря Св. Екатерины на Синае [30].
Датируется группа XII в. по русской надписи XII в., процарапанной поздним
владельцем на дне чаши с пиром, и по находке блюд в кладе с византийскими
монетами, зарытом, вероятно, в 1189 г. у Татар-Пазарджика (название более
позднее), когда Фридрих Барбаросса шел через эту местность на Балканах в
крестовый поход. На всех сосудах есть грубоватый рисунок, оставленный
резервом на фоне из точек. Рельефные изображения двух чаш видны только с
лица, их изнанка скрыта вторым внутренним листом металла, линии ровные.
Черни нет ни на одном из сосудов этой группы, изобразительные
24. Даркевич, 1975.
25. Банк, 1978: 45-63.
26. Банк, 1959; Bank, 1962: 555-561; Банк, 1966: илл.
208-212; Даркевич, 1975, с. 100-117, 127-131, 165-171, 173, 175, 176, 178,
179, 182, 187, 204, 210-211, 215-217, 219, 220, 222, 229, 230, 233, 267;
Искусство Византии, 1977, т. 2: 89, кат. № 554; Банк, 1978: 55,56, рис. 39;
Сокровища Приобья, кат. № 68.
27. Банк, 1978: 51-54, рис. 34-36; Даркевич, 1975: 60, 61,
63-77, 127-131, 149-149, 151-159, 215-219, 229-234; Искусство Византии,
1977, т. 2: 89, кат. № 553.
28. Спицын, 1906: 270-273, р. 80, 84, табл. IX; Банк, 1938:
255-260, табл. 43-45; Bank, 1962: 556-561; A. Grabar, 1968, t. I: 233; t.
III: pl. 79 b, 80; Даркевич, 1975: 78-99, 127-131, 144, 147, 148, 159-164,
167-169, 171-173, 175-177, 179-185, 187-190, 193-198, 200, 201, 204,
207-217, 225-229, 232, 233, 240, 252, 267, 274; Искусство Византии, 1977, т.
2: кат. №552, с. 86, 88; Банк, 1978: 46-51, 53, 55, рис. 33; Сокровища
Приобья, кат. № 67.
29. Банк, 1978:56-58, рис. 43.
30. Bouras, 1991.

7
мотивы разнообразны и сложны, находят много аналогий в
византийских памятниках, но их расположение часто довольно случайное. Так, в
композиции с пиром императрицы ничем не выделена сама фигура государыни,
теряющаяся среди других деталей. На одном из сосудов есть греческая надпись.
Растительный орнамент иногда образует округлые медальоны или витки,
обрамляющие изображения (илл. 11). Он статичен, листья и пальметты
прорисованы без особой тщательности.
Во вторую группу входят чаши из Тарту и Барсова Городка в
Приобье [31], а также блюдо, найденное в Татар-Пазарджике в Болгарии вместе
с византийскими монетами и блюдами с крылатыми львами. Оно соответственно
датируется не позднее 1189 г. Чаши происходят из кладов XII в. (Тарту) и
XIII в. (Барсов Городок) (илл. 12). У сосудов этой группы ни рельефов, ни
точечного фона нет. Рисунок очень тщательный и при этом динамичный, в линиях
хорошо заметен слегка пунктирный ход переставляемого острия чекана.
Пальметты и листья стилизованы и сведены к нескольким типам, напоминающим
восточные узоры сельджукского времени, но сохранившим известное своеобразие.
Орнамент образует звездчатые фигуры, сплетенные между собой, в нем нет
круглых медальонов. Звери нарисованы элегантными и упругими линиями. Их
движение передано очень убедительно. Они находят аналогии в сирийском
[32] и
армянском [33] искусстве. Вторая группа более обособлена от собственно
византийской традиции, ее связи с Востоком яснее.
С обеими группами по разным признакам сближается еще одна,
состоящая из двух похожих друг на друга ваз, найденных в Чернигове и в
Вильгорте в Прикамье [34] (илл. 13). Обе чаши сочетают рельеф, открытый с
оборота, и звездчатый узор с чернью фонов. Чернь в отличие от второй группы
не сплошная, а из маленьких спиралей. На таком фоне резервом оставлены
фигуры и побег растительного орнамента, причем все это выполнено очень
похоже на работы мастеров Сирии [35]. Сюжетные изображения находят
византийские аналогии, но стиль их далек от византийского. Наиболее
вероятная из предложенных атрибуций — армянское царство в Киликии
[36]. Во
всяком случае попытки обособить вазы друг от друга и приписать их на
основании оттенков стиля разным странам абсолютно не оправданы [37].
Первая группа обоснованно отнесена к византийской
провинциальной продукции [38]. Сложнее обстоит дело со второй группой.
31. Федорова, 1982; Marschak, 1986: 115-118, Abb. 150;
Сокровища Приобья, Кат. № 66.
32. Ulbert, 1990: Abb. 10, Taf. 2.
33. Федорова, 1982.
34. Орбели, 1938; Даркевич, 1975; Банк, 1978: 58-61, рис.
45-49; Marschak, 1986: Abb. 152-154, 157 и др.
35. Лампада (?) и потир из Ресафы: Ulbert, op. cit.
36. Орбели, 1938; Банк, 1978: 58-61.
37. Банк, 1981, ср.: Poutsko, 1974; Бочаров, 1988.
38. Банк, 1962; 1978: 62-63.

8
Она сильно отличается и от обеих киликийских ваз, и от
византийских сосудов первой группы, и от сирийских изделий, но связана с
традициями каждой из этих стран. Чаша с поддоном и крышкой с навершием из
Барсова Городка не только по форме, о которой уже шла речь в связи с
находками из Мужей, но и по звездчатой композиции узора с вписанными
фигурами птиц, зверей и чудовищ близка западноевропейской крышке XII —
начала XIII в. [39], так что надо учитывать и соприкосновение с “франками”,
как называли на Востоке европейцев-католиков. Блюдо из Болгарии по
звездчатой сложной композиции в центре близко как к иранскому образцу
[40],
так и к орнаменту “чаши св. Сигизмунда” [41], а по веточкам в полях между
звездчатыми переплетениями — к деталям орнамента прямоугольного подноса из Барсова Городка. Этот поднос с арабской надписью изготовлен, скорее всего, в
начале XII в. в западно-сельджукских княжествах близ границ Киликии и
государств крестоносцев [42]. Его декор по ряду признаков сходен также с
узорами чаши из Тарту: квадрифолии с “процветшими” ромбами, перья хвоста
дракона на подносе, трактованные так же, как бордюры на чаше. Надо отметить,
что восточные примеры несколько старше западных, что, возможно, говорит о
подражании Востоку на Западе. Такой широкий круг аналогий заставляет думать
о пограничье между византийским и иранским мирами, где местная христианская
культура была не столь греческая, сколь армянская и сирийская и куда
крестовые походы привели людей Запада, как о месте выделки чаш и блюда этой
группы. К этому пограничью относилась, в частности, область Эдессы в верхней
Месопотамии, принадлежавшая франкам-крестоносцам с 1098 по 1144 г., а затем
перешедшая к исламским правителям. В ней жили армяне, эмигрировавшие туда в
XI в. и игравшие важную роль при франках, но немало было также сирийцев и
греков, оставшихся со времени византийского правления в X-XI вв. При
франкских графах сначала сохранялись и “острова” с мусульманским населением,
например город Сурудж, где было много ремесленников, и его окрестности.
После падения графства в Эдессе осталось местное христианское население: в
1160-1170 гг. там переписывали и украшали армянские Евангелия [43]. Графство
считалось одним из самых богатых феодов крестоносцев, так что граф Эдессы,
как и князь Антиохии, был богаче короля Иерусалима, своего номинального
суверена. Серебряные сосуды второй группы могут быть отнесены к Эдессе и ее
округе сугубо предположительно. Их могли делать и в других городах вдоль
менявшихся с каждой войной границ между мусульманскими сельджукскими
княжествами
39. Marschak, 1986: Abb. 151.
40. Fehérvári, 1976: fig. 28b — дно изделия XII-XIII вв.,
вырезанное из бронзового блюда XI — начала XII вв.
41. Франция?, начало XIII в.; Skubisztwski, 1965: г. 24, 30;
Даркевич, 1975: 221, рис. 360, 361.
42. Федорова, 1982: 190-193, рис. 5, 6; Сокровища Приобья:
кат. № 65.
43. Измайлова, 1978.

9
и христианскими государствами крестоносцев в принадлежавших
прежде Византии землях. Особая манера рисовать побег со стилизованными
листьями сближает между собой все сосуды этой группы, но на блюде из
Болгарии нет черни, на чаше из Тарту она сплошь заполняет фоны и идет вдоль
линий рисунка, а на чаше из Барсова Городка полосы черни делят
орнаментальное поле на звездчатые участки (илл. 12). Кроме того, на барсовской чаше изображения птиц, зверей и чудовищ сплошь заполнены ею.
Полное отсутствие орнаментально разделанных фонов с чернью отличает все три
предмета от светских киликийских и сирийских изделий. Впрочем, на бесспорно
киликийском церковном серебре черни нет совсем [44].
В обширном Киликийском царстве, где население тоже было
смешанным, и на соседних с ним территориях работали, очевидно, мастера
нескольких школ, причем возможность распределить вещи по этим школам не
означает еще, что можно точно установить, к какому народу принадлежал тот
или иной мастер. Кроме того, кем бы ни были создатели сосудов второй группы,
они рассчитывали на любого покупателя: армянина, грека, сирийца, франка или
тюрка — и поэтому не помещали надписей ни на каком языке и не обращались в
своем творчестве к религиозной или политически прокламативной тематике.
Серебряные сосуды разных стран хорошо сопоставляются между
собой, поскольку заграничные дорогие вещи всегда вызывали интерес и
подражания, однако их сравнение с произведениями других видов искусства
редко выявляют точные аналогии. Тем не менее некоторые особенности чаши из
Барсова Городка напоминают в той или иной степени детали и композиционные
приемы армянской книжной графики. Листья узора на шаровидном навершии ее
крышки напоминают, в частности, некоторые детали лиственного орнамента
Евангелия, переписанного в Эдессе в 1171 г. [45]. Фигурки зверей в сочетании
с растительным побегом и сами по себе в известной мере схожи с
соответствующими деталями декора не только армянских, но и тех византийских
рукописей, которые считают никейскими начала XIII в. [46].
Богаче параллели с более поздними армянскими рукописями
второй половины XIII в. и первой половины XIV в. Длинные, свисающие набок
шапки сфинксов чаши есть на сфинксах и сиринах заставок и миниатюр этого
времени [47]. В искусстве других стран такие шапки вообще неизвестны. Очень
похожи на чаше и миниатюрах легкие фигуры животных, сходно членение
орнаментальной композиции на фигурные поля с помощью переплетающихся полос
из дуг и отрезков прямой и заполнение этих полей фигурами вздыбленных зверей
на фоне растительного побега [48].
44. Каковкин, 1975.
45. Измайлова, 1978: рис. 1, 3, 4в, 86.
46. Пуцко, 1982: 102-123, рис. 9, 10, 19.
47. Дурново, 1967: рис. 48; Settis-Frugoni, 1973: 14, fig. 1.

10
Миниатюристы этого времени обратились к орнаментальным
композициям, задолго до них выработанным в декоративно-прикладном искусстве,
поскольку чаша из Барсова Городка может быть датирована не позднее первых
десятилетий XIII в. как по сходству ее с другими сосудами той же группы,
которые бесспорно изготовлены в XII в., так и по составу клада, в котором
она найдена.
Таким образом, сосуды, определенные А. В. Банк, иногда
предположительно, как провинциально-византийские, представляются теперь
выполненными в XII в. на бывших землях Византии у ее восточных пределов и в
самой Византии. Что же касается противопоставления вполне византийских
вещей, которые здесь включены в первую группу, константинопольским
произведением, то А. В. Банк писала об этом, учитывая различие превосходного
качества церковного столичного серебра и грубоватой выделки этих светских
сосудов. Светское серебро столичного уровня XII-XIII вв. тогда не было
известно.
Однако теперь, после находки блюда со сценой полета
Александра, положение меняется. При всем сходстве с вещами наиболее
византийской группы блюдо выполнено несравненно лучше, чем все относящиеся к
ней сосуды. Вполне возможно, что его сделал мастер столичной,
константинопольской, выучки, хотя у нас нет никаких данных о том, где он
работал. Некоторое время блюдо находилось в руках, скорее всего,
грекоязычного владельца, о чем говорит тайнопись на основе греческого
алфавита, использованная человеком, процарапавшим магическую надпись на
нижней стороне блюда [49].
Термины “столичный” и “провинциальный” условны, поскольку
качество работы и в столице иногда было невысоким, здесь и далее первый из
них соответствует технически совершенному, а второй — довольно небрежному
исполнению. Надо отметить, что византийские чаши с рельефным декором были
изготовлены из двух листов серебра, так что изнанка рельефа была
замаскирована, а киликийские — из одного, так что вогнутая изнанка видна
человеку, который рассматривает изображение на внутренней стороне. Блюдо со
сценой полета Александра тоже сделано из одного листа, однако у него изнанка
обращена вниз и поэтому заведомо не видна пользователю. Стилистически оно
гораздо дальше от киликийских ваз, чем от чаш с двойными стенками. Одна чаша
и крышка от другой чаши провинциально-византийской группы были найдены в
Приобье, а одна в Прикамье. При этом одна из них, с древнерусской надписью
XII в. на дне, очевидно, побывала на Руси, перед тем как попасть на Обь
[50], но кроме нее русских надписей в Приобье на средневековых вещах не
засвидетельствовано. Владелец обозначил вес в 35 гривен, что очень сильно
превышает вес чаши (около 1 кг), но цифра
48. Например: Miniature Armenienne, 1984: pls. 17, 21, 111,
119, 139.
49. Сокровища Приобья: 157, 161 — текст В.Н. Залесской.
50. Если только она действительно была найдена на Оби: см.:
Сокровища Приобья: 142-143.

11
может быть реальной, если чаша имела крышку и была взвешена
вместе с ней. В этом случае, скорее всего, имелась в виду северная гривна в
51,19 г.
Блюдо на поддоне — это шедевр, о котором, вероятно, будут
размышлять поколения ученых. Остановимся только на некоторых аспектах.
Прежде всего, совершенно очевидны черты, общие у него и у византийских, хотя
и провинциальных, изделий XII в. Высокий поддон довольно грубой выделки,
возможно, не первоначальный, но у блюд из Татар-Пазарджика со львами поддон
таких же пропорций, так что при ремонте сохранился прежний характер профиля
сосуда. Высокий поддон имело и блюдо мастера-крестоносца, работавшего в
Сирии [51]. Рельефная разделка борта блюда из Мужей напоминает гораздо более
простой, но тоже имеющий выпуклые детали бортик упомянутых татар-пазаржикских блюд.
Канфареннные фоны и оставленный резервом рисунок плоского
поля, сочетание такого рисунка на одной части сосуда с очень высоким
рельефом на другой, рисунок стеблей, листьев, пальметок, сам характер
медальонов, образованных лозой, с включенными в ее витки фигурами, а также
многое другое находит аналогии в вещах провинциальной группы, в которую
входили эти два блюда из Болгарии [52]. С чашей той же группы
[53] сближают
блюдо из Мужей и такие изобразительные мотивы, как полет Александра
Македонского к небу на грифонах, коронованный человек на спине орла, битва
всадника с копьем и всадника с луком. Сходство настолько велико, что
объяснить его можно только родством традиций, в обоих случаях бесспорно
связанных с Византией, и близостью дат выделки, хотя блюдо из Мужей,
вероятно, немного моложе, о чем еще будет идти речь.
Перечислив эти основные параллели, надо сказать, что со
второй (“эдесской”) группой сходство гораздо слабее, хотя и наблюдается
сходство некоторых полупальметт. При сопоставлении признаков каждый раз
наблюдается различие, причем оно определяется более высоким мастерством
того, кто создал блюдо, более строгими требованиями, которые он предъявлял к
качеству рисунка и технического исполнения.
(4).
Восточные мотивы
Столичное, константинопольское, происхождение мастера блюда
весьма вероятно. Однако такой вывод, подтверждающий отнесение ранее
известных вещей первой группы к византийской провинции, решает далеко не все
проблемы. Он, в частности, не объясняет, откуда и когда пришли в Византию
восточные и западные элементы композиции, о которых сейчас пойдет речь.
Вопросы эти особенно трудны, поскольку на протяжении четырех веков, между
VII и XI вв., известно всего
51. Смирнов, 1909: илл.
93; Marschak, 1986: 113, Abb. 142,
143.
52. Ср. Сокровища Приобья: кат. №№ 67, 68
53. Банк, 1978: 51-54, рис. 34-36; Даркевич, 1975: 60, 61,
63-77, 127-131 и др.

12
четыре серебряных византийских сосуда IX-X вв. и ни одного
VII — начала IX в. [54]. Из них один ковшик грубоватой работы, датируемый XI
в., стоит особняком, хотя по некоторым признакам и сближается с первой
(провинциальной) группой [55]. Остальные три сосуда — это кружки,
выполненные первоклассными византийскими мастерами, но их формы и орнаменты
в основном восточные, далекие от эллинистических основ византийского
искусства. Сами кружки датируются не старше второй половины IX в. по
аналогиям в серебре дунайской Болгарии и в украшениях византийских
рукописей, тогда как их восточные аналоги определенно более ранние: их формы
очень близки к формам согдийских керамических кружек VIII в. — подражаний
серебру, причем в конце VIII-IX в. в Согде кружки стали уже другими
[56].
Орнаменты с фоном из мельчайших кружков в Византии IX-X вв. по рисунку ближе
всего к китайским VIII в., когда неизвестный в Согде рельефный узор на таком
фоне появился на китайских сосудах [57]. Формы керамических кружек Согда
сохранились в керамике Византии до конца X — начала XI в. [58].
Итак, не мастера IX-X вв., а их предшественники, работавшие в
VIII в., решительно обратились к восточным образцам. Это был период, когда
императоры Византии запрещали почитание икон и даже уничтожали их,
покровительствуя в то же время чисто декоративному ориентализирующему
направлению в искусстве. В послеиконоборческое время, в IX-X вв., и позднее
в художественном ткачестве и металле сохранялись восточные мотивы, причем
нередко они не заимствованные из исламского искусства своего времени, а
более ранние, те, которые на Востоке потеряли популярность после VIII в.
[59].
Глубочайшее потрясение, которое перенесла во время иконоборчества в VIII-IX
вв. вся Византия, сменилось позднее возвратом к античным истокам, но и в
IX-X вв., и в XII в. художники Константинополя и провинции не раз
воспроизводили синхронные им исламские образцы. В XII в. император Мануил
Комнин даже построил приемный зал дворца со сталактитовым потолком по
образцу зданий, строившихся тогда в странах ислама.
Блюдо, найденное в Мужах, никак не старше XII — начала XIII
в., но среди восточных мотивов его декора лишь в нескольких пальметках
узнается орнамент, типичный для XII-XIII вв. Таковы трехчастные почти
симметричные листья с удлиненной средней лопастью, имеющей на конце
нарушающий симметрию завиток (например, между правой рукой и головой
человека, сидящего на орле). Они находят аналогии, хотя и не близкие, на
чашах трех групп, о которых уже шла речь [60],
54. Даркевич, 1976: табл. 57; Банк, 1978: рис. 29.
55. Искусство Византии, 1977: кат. №
551.
56. Маршак, 1961.
57. Gyllensvard, 1957: pl. 14
58. Morgan, 1942: pl. XIXb,c, fig. 51c.
59. Grabar, 1968: 265-90.
60. Даркевич, 1975: рис. 76, 89, 92, 180.

13
и сельджукском иранском серебряном блюде XII в. [61]. Парные
узкие, отогнутые вниз лопасти одной пальметки (под всадником с луком)
бесспорно пришли из исламского искусства. К концу XII в. этот мотив
распространился от Средней Азии до Малой Азии [62], хотя предшествующий этап
его развития известен уже с X в. в качестве детали фантастического цветка на
византийской шелковой ткани с изображением слонов, представляющей собой
подражание исламскому образцу [63]. Надо отметить также сельджукский облик
большой двухчастной полупальметты наверху между двумя композициями с
колесницами, которая напоминает узоры XIII в. Однако в орнаменте блюда новые
детали вошли в систему, сложившуюся, скорее всего, еще в иконоборческий
период: фон состоит из мельчайших кружков, нанесенных пунсоном так, как
делали на Востоке, причем по соотношению оставленных резервом фигур и
орнаментов к фону, по общему ритму побега ближе всего к блюду из Мужей
согдийский поднос конца VIII в. или, скорее, начала IX в. [64] (илл. 15).
Сходна даже сама манера проведения линий. Хотя на согдийском подносе
виноградная лоза имеет еще довольно реальные листья, но есть на нем и
стилизованные детали, уже очень сходные с деталями блюда. Это не только
простые полупальметки, которые известны для ряда эпох, но и более редкие
мотивы, как, например, виноградный лист с завитком на конце [65]. Тот же
поднос дает аналогии к совсем невизантийским птицам блюда с их приостренным
и изогнутым хвостом, а крыло одной из птиц подноса с волнистой линией вдоль
верхнего контура трактовано очень похоже на некоторые столь же условные
хвосты на блюде [66]. Полупальметки блюда с волнистой линией внутри, которая
повторяет изгибы контура, сходны с деталями растительного узора на фоне из
мелких кружков согдийского ведерка начала IX в. [67] (илл. 16).
Как мне уже приходилось писать [68], в согдийском серебре и,
в частности, на подносе, о котором шла речь, немало византийских элементов
декора. Обмен художественными идеями шел в VII-VIII вв., когда
среднеазиатские купцы везли на север вещи не только иранские или сделанные
на их родине, но и византийские. На некоторых константинопольских сосудах
тоже есть согдийские и хорезмийские надписи, нанесенные промежуточными
владельцами перед привозом на Урал. В том, что согдийцы подражали
прославленным византийским образцам,
61. Смирнов, 1909: илл. 151.
62. Например, Коран, 1186 г. — Ellinghausen, Grabar, 1987:
fig. 379, или Чарынтир из Муша самого начала XIII в. — Орнаменты армянских
рукописей, 1978: табл. 30.
63. Покров останков Карла Великого в Аахене — Grabar, 1968:
266-275, III, pl. 57с;
Gauthier, 1987: 20-21, cat. no. 5.
64. Marschak, 1986: Abb. 82-85.
65. Marschak, 1986: Abb. 85.
66. Cp.: Marschak, 1986; Abb. 85.
67. Даркевич, 1976: табл. 14, 5, 6.
68. Marschak, 1986: 75-76.

14
нет ничего удивительного, а вот то, что влияние шло и в
обратном направлении, представляется несколько неожиданным, хотя, если
вспомнить роль согдийцев в торговле по Шелковому пути, вполне естественным.
Столичные мастера сохранили фон, равномерно заполненный
мелкими кружками, и в средневизантийский период, а их провинциальные
подражатели упростили его, превратив в XII в. в точечный. Византийские чаши
XII в. с рельефным декором выпуклого тулова и плоским с точечным фоном
узором на вертикальной горловине (это вышеупомянутые чаши с пиром
императрицы и с фигурами под арками) издавна сопоставлялись специалистами с
сосудами, которые теперь признаются согдийскими [69]. В Средней Азии в IX-X
вв. фон из мелких кружков оставался обычным. Позднее и там, и в Иране он не
исчез совсем и применялся вместе с другими фонами на отдельных частях
декора. На серебряной посуде этих стран и зоны степей такой фон вновь стал
общепринятым уже в XIII в., при монголах, вместе с китайскими мотивами
растительного орнамента
[70], но потерял сходство с побегом на блюде со сценой
полета Александра. При этом уже в конце IX-X в. в самой Средней Азии рисунок
побега далеко отошел от согдийских образцов [71].
В византийской керамике восточные по своему происхождению
орнаменты чаш и блюд XII в. часто очень похожи на декор серебра и, в
частности, на узоры блюда из Мужей, что справедливо отметил М.Г.
Крамаровский [72]. Расхождение в развитии орнамента чаш, их крышек и блюда,
с одной стороны, и орнаментов на церковном серебре — с другой, которое А. В.
Банк отметила как помеху для византийской атрибуции светских сосудов,
восходит, видимо, уже к IX-X вв., времени македонской династии, когда
обновилось искусство Византии. Промежуточную группу образуют кружки этого
периода, на которых растительные и зооморфные мотивы во многом, как сказано
выше, восходящие к китайскому металлу VIII в., близки, однако, и к декору
константинопольских рукописей и столичного церковного серебра X-XI вв.
[73].
В столице с IX в. существовали, вероятно, обособленные мастерские по
производству разного рода серебряных изделий, причем они имели свои
собственные, медленно менявшиеся технико-стилистические особенности.
Таким образом, восточные элементы форм и декора
провинциальных византийских сосудов не только грубее оригиналов, но и
стилистически дальше от них. Скорее всего, они восходят не прямо к восточным
мотивам, а к столичной светской традиции, издавна включившей их в себя,
причем те из них, которые близки к современному им “сельджукскому” искусству
Востока, могут быть результатом как непосредственного, так и опосредованного
столицей влияния.
69. Например, Skubiszewski, 1965: 31,
r. 22.
70. См.: Сокровища Приобья: кат. № 76, 78.
71. Marschak, 1986: Abb. 115, 118, 126.
72. Сокровища Приобья: 153.
73. Банк, 1978: рис. 29; Даркевич, 1976: табл. 57.

15
Старые восточные черты лучше сохранились в столичной, чем в
провинциальных школах, хотя в ней тоже происходило приспособление их к
художественным представлениям византийцев, которое привело к спокойному,
равномерному заполнению плоскости и замкнутости каждой части композиции
динамичными деталями при уравновешенности и статичности целого. С точки
зрения стиля все византийское серебро — и церковное, и светское — при всех
отличиях школ противостоит “эдесской” и “киликийской” группам, в которых
динамика деталей гораздо больше влияет на общее впечатление от декора.
(5).
Некоторые особенности стиля
На блюде замечателен контраст объемных, выполненных в высоком
рельефе фигур середины, а также скульптурного орнамента бордюра с легкими,
как бы недорисованными фигурами бокового поля, которые именно из-за своей
невесомости хорошо вписываются в витки побега. Эллинистический прием “non
finite” и стройность пропорций — характерные черты фигур блюда, близкие к
манере палеологовского времени (конца XIII-XIV в.), но уже искусство XII —
первой половины XIII в. заложило основу “палеологовского возрождения”, что
отмечают многие ученые [74]. Сопоставление рельефной середины и плоского
бокового поля есть на романовской патене 1170-х гг. из Вильтена
[75], где
оно связано, возможно, с византийским влиянием.
На блюде рельефы медальона сохраняют легкость, а линейные
рисунки поля при всей своей плоскостности все же передают объемность фигур,
части которых показаны в различных ракурсах. При разнообразии приемов,
примененных для разных частей декора, стилистическое единство произведения
прослеживается во всем, вплоть до мельчайших деталей. Центральный медальон и
бордюр закраины отделены от бокового поля полосками с зигзагообразным
узором, образованным чередующимися вдавлениями по обоим краям этих полосок;
глубина вдавлений достаточна, чтобы полоска получилась рельефной, так что
переход от высокого рельефа центра и бордюра к ровной поверхности между ними
становится более плавным. Такие полоски встречаются в серебре Византии и
находившихся под ее влиянием соседей в XII-XIV вв. [76].
Необычно высокий рельеф среднего медальона потребовал сделать
край блюда более выразительным. Вместо общепринятого монотонного ряда
листьев аканта мастер блюда поместил небольшой лист с отогнутым наружу краем
в глубокую выемку, занимающую среднюю часть крупного веерообразного листа с
полукруглым краем.
74. Так, например, Г. Бухталь писал, что в эпоху Латинской
империи “some of foundations for Early Palaeologan art seem to have been
laid”: Buchthal, 1979: 66.
75. Skubiszewski, 1982: Abb. 20.
76. Ранние примеры см.: Byzantine Art, 1986: cat. no. 208, p.
19; Temple, 1990: cat. no. 7, a поздние — Сокровища Приобья: 154 — статья
М.Г. Крамаровского.

16
Эти большие листья, смыкаясь, образуют ряд, обогащенный
дополнительными круглыми вставками. Характерное для Византии правдоподобие
полностью потеряно, поскольку таких двойных листьев нет в природе, но
динамизм резного рельефа оказался очень внушительным. Прямых аналогов этому
узору я не знаю, но та же динамика фантастических не то листьев, не то
раковин, зазубренные края которых выделяются на фоне глубокой тени в
середине других похожих на них элементов орнамента с полукруглой столь же
зазубренной закраиной, есть в кажущемся рельефным орнаменте книжной живописи
Западной Европы самого конца XII в. [77]. Глубокие выемки встречаются и на
листьях бордюров западных серебряных чаш конца XII в., хотя и в этом случае
нет полного сходства с обрамлением блюда [78].
Фон среднего медальона как бы заткан мелким узором из
завитков (илл. 17). Сам по себе узор вполне византийский vermicule, но
выполнен он не глубокими линиями или точками, а пуансонными кружками, что
необычно, если не вспоминать об искусстве Дальнего Востока, однако он очень
удачно перекликается с кружками фона бокового поля, которые чуть мельче.
Сплошь затканные узором фоны фигурных композиций хорошо известны в Византии
XI-XII вв. [79], на сельджукском Востоке и на романском Западе. Колесницу,
трон, кайму одеяния в среднем медальоне украшает такой же узор, но
выполненный пунктирными линиями из точек, а не кружков. Все поверхности
фигур имели тончайшую разделку: растительный узор на плече грифона, пряди
шерсти на его теле, розетки плаща, орнамент на колонке трона. Без такой
проработки фигуры слишком резко контрастировали бы с узорной плоскостью, из
которой они выступают. Смелые противопоставления каждый раз были умело
смягчены мастером константинопольской выучки, который, видимо, знал и
учитывал опыт художников Запада, но перерабатывал его с истинно византийской
тонкостью и пышностью.
Изучение декоративной композиции блюда и его орнаментальных
деталей приводит к той же дате — вторая половина XII — начало XIII в., что и
датировки других находок из клада, в состав которого оно входит.
Византийский характер декора также бесспорен, а качество работы, скорее
всего, говорит о столичном мастере. Восточные элементы декора в основном —
те, которые попали в Византию и были там освоены задолго до XII-XIII вв., но
смелая, отнюдь не классическая трактовка такого традиционного мотива, как
ряд акантовых листьев, заставляет предположить, что на мастера оказал
влияние какой-то чуждый Византии, скорее всего западный стиль.
77. Zeit der Staufer, II, Abb. 549, Kat. № 756, —
Хелмштедтский Евангелиар, л. 12, об.
78. Сокровища Приобья: кат. №74; English Romanesque Art, cat.
nos. 304, 308; Andersson, 1983: cat. no. 16 и др.
79. Банк, 1978: рис. 30.

17
(6).
Образ Александра
Изучение сюжетных изображений на блюде приводит к тем же
выводам, что и исследование декора. В среднем медальоне показан полет
Александра Македонского на грифонах, которые подняли его к небу (илл. 17).
Этот эпизод первоначально отсутствовал в известном романе Псевдо-Каллисфена
об Александре Македонском, но он был известен уже в IV в., а в X в.,
возможно, входил в ту константинопольскую рукопись, с которой сделал свой
латинский перевод Лев Пресвитер [80]. Иллюстраций к этому эпизоду много в
Византии, на Руси и на Западе [81], а в странах ислама такие изображения
редки и связаны с сильнейшим византийским влиянием [82]. С X в. известно два
варианта композиции: полет на огромных птицах (но не на одной птице!) или на
грифонах. Вероятно, второй вариант и возник потому, что с грифонами были
отождествлены огромные, питающиеся падалью птицы, которые несли Александра
и, как видно из латинской версии и одной из греческих рукописей, назывались
грифами. На изображениях грифоны встречаются гораздо чаще, чем птицы.
Александр поднялся так высоко, что увидел всю землю
маленькой, как гумно, окруженное змеей — океаном. Голодные грифы,
предусмотрительно привязанные к корзине или трону, летели все выше, стремясь
добраться до приманки, которую он поднял над своей головой, но затем они
опустились на землю вместе со своим седоком потому, что устали, или потому,
что сам Александр, убедившись в недоступности неба, направил их вниз,
опустив приманку, но поместив ее по-прежнему так, что грифы не могли до нее
добраться. Полет Александра в средневековой литературе — это предел
человеческого могущества, говоря о котором многие авторы не забывали
упомянуть о тщете людских стремлений достичь неба в здешней жизни. Различные
темы были связаны с волновавшим людей образом величайшего из земных владык,
который дерзко, но безуспешно пытался достичь того, что доступно лишь
Христу, которого ангелы вознесли на небеса. Полет на грифонах — одна из этих
тем, которая логически связана с другими. Когда о полете рассказывают как об
имевшим место в прошлом событии, часто появляются более или менее строгие
осуждающие оценки. Лишь в одном средневековом французском сборнике
поучительных рассказов после сообщения о небесном и морском приключениях
Александра говорится, что мы должны с таким же старанием стремиться овладеть
навечно красотой небес, с каким Александр подверг себя опасному испытанию,
чтобы увидеть землю и море [83]. Это всего лишь сравнение. О стремлении
Александра достичь неба, видимо, не случайно ничего не говорится.
80. Millet, 1923; Банк, 1940.
81. Settis-Frugoni, 1973; Schmidt, 1995.
82. Таково, например, Артукидское блюдо с эмалью, см. теперь:
Artuqiden Schale, 1995.
83. Dugrand, 1865: 150; Schmidt 1995: 35.

18
Речь идет только о том, как сильно стремился Александр к
своей цели “увидеть землю и море” и насколько сильнее должно быть стремление
христианина к более высокой цели — посмертно овладеть небесной красотой.
Тексты не позволяют нам сделать вывод о по-настоящему положительном
отношении к полету Александра Македонского в какой-либо из европейских
стран. Искусствоведы попытались определить положительную или отрицательную
оценку этого подвига по значению соседних изображений. Считали, что на
Западе отношение художников и заказчиков было в ряде случаев отрицательным
[84]. Однако и там его полет нередко имел положительное, скорее всего
аллегорическое осмысление [85]. Можно привести такой пример. В Германии в XII в. была вышита подушечка, на которую клали реликвию. На одной стороне ее
помещен Агнец Божий, а на другой — полет Александра [86]. В таком сочетании
едва ли возможно противопоставление грешной гордости Александра и его
ложного триумфа жертвенному смирению Христа и его истинному торжеству,
поскольку благочестиво украшая предмет, связанный с культом какого-то
святого, не нужно было напоминать кому-то о греховных помыслах великого царя
древности. Однако и этот памятник трактовали не только в положительном, но и
в отрицательном смысле [87]. По мнению такого глубокого знатока христианской
иконографии, каким был французский католический ученый Л. Шарбонно-Лассэ,
образ вознесения Александра должен был трактоваться христианами
преимущественно в положительном смысле, в связи с древним и глубоко
укоренившемся понимании грифона как психопомпа, возносящего душу к небу
[88]. На немецком эмалевом переплете первой трети XIII в. Христос на троне
помещен между двумя грифонами, головы которых обращены к нему [89].
Христианское позитивное осмысление образа летящего Александра было, скорее
всего, не общепринятым, иначе оно яснее отразилось бы в текстах, и имело,
вероятно, характер риторического сравнения. Было бы слишком смелым
воспринимать вознесение македонского героя, пусть даже, по некоторым
версиям, проявившего в Иерусалиме почтение к храму Господню и совершавшего
свои подвиги по воле Божьей, как прообраз Вознесения Христа [90], хотя жизнь
Александра в армянском варианте романа сопоставлена с земной жизнью Христа.
В Византии гораздо яснее, чем религиозное осмысление,
проявилось отношение к Александру не как к персонажу нравоучительной
истории, а как к героическому предшественнику собственных императоров. Там
иконография вознесения царя македонян триумфальная — с колесницей
84. Settis-Frugoni, 1973.
85. Schmidt, 1995.
86. Zeit d. Staufer: Kat. Nr. 796, Abb. 588-589.
87. Settis-Frugoni, 1973: 301-302, fig. 65.
88. Charbonneau-Lassay, 1992: 400-402.
89. Steenbock, 1965: 221-222, Abb. 163, Kat. Nr. 120.
90. Даркевич, 1972: 92.

19
вместо корзины и часто с официальным императорским одеянием
героя, однако на блюде от такой трактовки мало что сохранилось: одеяние
другое, мотив колесницы рудиментарен, а Александр сидит на троне. Скорее
всего, образ Александра в полете возник не как иллюстрация к рассказу —
таких иллюстраций нет в византийской миниатюрной живописи, — а как своего
рода портрет, поскольку летящие грифоны и шесты с приманкой позволяли
опознать именно Александра и отличить его от любого другого государя. Что же
касается осуждения, которое, хотя и в мягкой форме, есть в византийской
версии эпизода, то оно связано с отношением к героизму вообще во многих
произведениях древней и средневековой литературы и фольклора. Истинный герой
в эпосе часто стремится совершить то, что превосходит человеческие силы, и
поэтому, оставаясь человеком, в конце концов обречен на трагическую неудачу.
Средневековый человек, не снимая с героя вины, относился к нему с глубоким
сочувствием и интересом, что и создало такую популярность эпизоду полета
Александра.
В композиции центрального медальона Александр сидит на троне,
который поставлен на колесницу. Фигура царя видна вся, от головы до пят.
Колесница показана условно: ее колеса в виде декоративных розеток-кабошонов,
которые ничем не соединены с самой колесницей, могут быть поняты не только
как колеса, но и как звезды. На боковом поле над медальоном есть еще две
колесницы, у которых, как это и должно быть, передняя стенка закрывает ноги
человека. В среднем медальоне бесспорная деталь колесницы — только
продольная балка. Александр на троне встречается и на одном сельджукском
малоазиатском [91] и на западных, но не на византийских изображениях. Его
поза и одеяние как у западных императоров и королей на их печатях
[92], но
не как у византийского императора [93], тогда как в Византии Александра
наряжали в местные императорские одеяния. Сельджукский Александр тоже в
византийском одеянии, хотя корона у него другая, с тремя зубцами. Корона на
блюде упрощенная, как на миниатюрах византийских и западных: так, на
романском изображении миродержца Октавиана Августа корона украшена
ромбическим узором, похожим на орнамент на короне Александра [94] (илл. 18).
Трон на блюде отличается особенными ножками-балясинами. Такие же балясины у
трона Давида в боковом поле и у тронов государей на двух южно-итальянских
камеях XIII в. [95], но не у византийских тронов XII-XIII вв. Два кабошона с
надписью по сторонам от головы Александра напоминают подобные кабошоны на
91. Erginsoy, 1988: 166-167, R. 138.
92. См., например: Zeit d. Staufer: Kat. Nr. 48-50, Bd. Ill,
Abb. 18-20; Schlumberger, 1943: cat. n. XVI, 7, Pl. 1, 3, pp. 13-14 — Жан де
Бриен; Schmidt 1995: 22-24, Fig. 15, 16, 18.
93. См.: A. Grabar, 1936.
94. Derolez, 1968: 180 — Гент, Liber Floridus.
95. Wentzel, 1953, 1962; Zeit d. Staufer, Kat. Nr. 862, 863.

20
некоторых металлических иконах и окладах
[96]. Левый кабошон на
блюде меньше, правый заметно больше. В первом с сокращением приведено имя
царя
ΑΛΕΞΑΝΔ̅,
а во втором поместилось не только слово
ΒΑΣΗΛΕΟΣ,
но и орнаментальная ветка. Второй медальон оказался слишком велик. Возможно,
мастер хотел написать там два слова, но увидел, что для обоих слов места не
хватает, и занял оставшееся свободным место веточкой. При выверенности
всей композиции асимметрия явно не случайна. Буква
Η
вместо
Ι
обычна для эпохи. Окончание
ΟΣ
или ошибочно, или соответствует родительному падежу. Во втором случае
надпись переводится: “Александра царя...”; подразумевается, что в
именительном падеже стояло третье, замененное веткой слово со значением
“полет” или “вознесение”. По мнению профессора В. Зайбта, любезно
проконсультировавшего меня, отсутствие третьего слова еще не делает надпись
ошибочной, поскольку оно заменяется самим изображением: так, на византийских
печатях имя владельца дается тоже в родительном падеже, а слово, означающее
саму печать, отсутствует. Написания букв вполне соответствуют принятым в
XII-XIII
вв. Латинская надпись “Александр царь” в XII в. иногда включалась в западные
изображения сцены полета
[97].
В Византии таких надписей не делали, так что греческая надпись на блюде —
исключение.
Колеса-звезды и кабошоны надписей придают медальону сходство
с композициями лиможских эмалей конца XII и чаще начала XIII в. с их
орнаментальными кругами и розетками в поле около скульптурных фигур,
сопровождая, в частности, образ Христа с воздетыми руками
[98].
Эту аналогию отметила в своем выступлении на моем докладе о блюде М.Я.
Крыжановская. Вообще, ряд западных аналогов (например, камеи и печати), в
отличие от большинства византийских, датируются в основном после 1200 г.
Как кабошоны с надписью, так и некоторые детали одеяния
придают изображению на блюде в какой-то мере иконный облик. Так, хотя
скрепленный на правом плече плащ обычен для образа монарха и не встречается
в изображениях Христа, но короткий и узкий перекинутый сзади конец плаща на
левом плече, образующий складки по обеим сторонам, характерен именно для
образа Христа во Славе с воздетыми руками
[99]
(илл. 19-20), а мастер блюда видоизменил плащ царя, придав ему признаки как
того, так и другого одеяния, причем конец плаща на левом плече получил подтреугольные очертания.
96.
Оклад
XIII в. на иконке XII в.: Банк, 1978: рис. 80; иконки из Раковаца
XII-XIII
вв.: Nikolajevič,
1978; Milosevič,
1980: 39, 40, 69, cat. nos. 82-91 — православные монастыри в Воеводине, где
находился Раковац, существовали и во время монгольского нашествия, когда,
скорее всего, был спрятан клад.
97.
Отранто,
мозаика около 1165 г.; Таранто, мозаика, XII в.
98. L’Œuvre de Limoges 1996: cat. nos. 31, 39, 40-46, 48, 71,
77, 85-88; Steenbock, 1965: Kat. Nr. 121, 123 и др.
99. Например, в романском искусстве: Goldschmidt, 1900:
228-229, Fig. 5, около 1170 г.; Pietrangeli et alii, 1996: 27 — вторая
половина XII в. (?), по Garrison, 1972.

21
Надо отметить, что в Лиможе перекинутый сзади конец плаща
сочетается с короной на ряде изображений Христа во Славе конца XII — начала
XIII в. [100]. Мастер блюда позволял себе такое решительное переосмысление
традиционных мотивов, как орнаментальных (акант), так и изобразительных
(колеса, плащ), которое, вообще говоря, не свойственно византийскому
искусству. В сочетании с высоким уровнем мастерства его подход трудно
объяснить банальными ошибками. Скорее, необычная трактовка деталей была
намеренной и отражала новое понимание темы, подчеркивая не только светскую,
но и религиозную значимость образа с помощью как византийских, так и
западных художественных средств.
Одна из чаш провинциально-византийской группы XII в. украшена
несколькими, в основном не связанными друг с другом изображениями, среди
которых есть и полет Александра на грифонах [101]. К этой чаше придется еще
не раз обращаться в связи с тем или иным изображением на блюде. Александр на
чаше в отличие от царя, показанного на блюде, летит в императорском
византийском облачении. Держит он на шестах в качестве приманки безголовые
тушки каких-то животных, что схоже с приманкой, изображенной на блюде, а не
приманки, названные в сохранившихся текстах.
Композиция с полетом Александра в центральном медальоне
выполнена мастером, который хотел передать прежде всего царственность своего
героя, но не специфически византийскую, а скорее общечеловеческую. Два
грифона могут пониматься и как запряженные в колесницу, и как опоры трона.
Трон с двумя вздыбленными грифонами был на востоке Ирана уже в IV в.
атрибутом бога договора и одновременно солнечного бога Митры [102]. В
Византии, в Армении, в исламских странах в X в. и позднее хорошо знали трон
со львами, отождествлявшийся с седалищем Соломона, но восходящий к
эллинистическим образцам. Напомню хорошо известный факт: в X в. император
как космократор во время приема в своем константинопольском дворце как бы
совершал вознесение, поднимаясь к потолку тронного зала, символизирующему
небо, на львином троне с механическим устройством. На обороте уже
упоминавшегося сельджукского бронзового зеркала помещен Александр с
грифонами. Он сидит на троне, но не в корзине и не на колеснице. Поднявшийся
к небу и охвативший взглядом весь мир царь-космократор не случайно помещен
на зеркале, которое может отразить все, что только существует на этом свете.
В исламских странах к востоку от бывших византийских земель в
Малой Азии и верхней Месопотамии, захваченных сельджуками в конце XI в., нет
сцен с полетом Александра, поскольку в Иране подобный полет
100. L’Œuvre de Limoges 1996: 16-17, 182-183, cat. nos. 40,
48 — ларец-реликварий Святого Креста из Тулузы, не позднее 1198 г., и
пластина от переплета из Музея Метрополитен, 1185-1210.
101. Даркевич, 1976: табл. 83-103; Банк, 1978: 51-53, рис.
34-36; 1940.
102. Смирнов, 1909: табл. XVI; Луконин, 1969: 148.

22
приписывали Кей-Кавусу, авестийскому Кави Усану, одному из
легендарных царей древности, персонажу скорее отрицательному. Надо сказать,
однако, что его имя стало популярным у династов
X-XIII
вв., поскольку обаяние древности, причастность к славному прошлому Ирана и
былому могуществу было для них гораздо важнее моральной оценки. Кей-Кавус с
грифонами не ассоциировался. В текстах и на миниатюрах его несут только
птицы, так что сельджукские сцены полета, скорее всего, связаны с
Александром, о полете которого сельджуки узнали, как и западные европейцы,
видимо, от византийцев. В персидских версиях Романа об Александре полет не
упоминался.
Смысловые связи между изображениями очень слабы на чашах
провинциально-византийской группы
[103],
тогда как на блюде взаимосвязаны все изображения.
(7).
Боковое поле
Орнаментальный фон — побег с птицами — не только объединяет
композицию бокового поля, но, возможно, имеет и символическое значение.
Около голов девяти фигур бокового поля птицы благие, и только у головы
всадника с луком — враждебного кочевника — помещены два хохлатых грифа,
похожих на маленьких драконов (илл. 21). Терзающий собственную грудь пеликан
— символ Христа
[104]
помещен около головы царя Давида, предка Иисуса, однако отсутствие
обязательного гнезда с птенцами, которых пеликан кормит своей плотью и
кровью, в данном случае позволяет усомниться в том, что художник придавал
ему аллегорическое значение. Сам по себе “населенный побег” — это древний
дионисийский мотив, который стал особенно популярным в
XII-XIII
вв. На блюде он прежде всего обеспечивает единство композиции, однако нельзя
исключить и возможность того, что его мощные витки имели символическое
значение. Обнимая все сущее во вселенной, представленное образами,
заключенными в витки побега, он мог напоминать о словах Христа: “Я есмь
истинная виноградная лоза” (Ин. 15, 1). Рассматривать боковое поле надо
начиная с трех верхних витков. В том из них, который расположен прямо над
головой Александра, нарисована квадрига Солнца: колесничий держит в руках
плеть и диск светила (илл.
22). По его правую руку находится колесница Луны с
ее двумя быками. У олицетворения Луны есть корона, в руках — тоже плеть и
факел, пламя которого склоняется вниз, как бы угасая при свете Солнца. Это
классические образы, популярные и в средние века: например, в Византии в
иллюстрациях Псалтыри, а на Западе — в рельефах романских соборов Италии.
По левую руку Солнца показана большая хищная птица. На ее
спине сидит человек в короне, который держит в руке такой же диск-светило,
103.
Банк, 1978: 49, 52.
104.
Charbonneau-Lassay, 1992: 58-64.

23
что и у колесничего квадриги. Здесь это явно астрономический
образ. Фигура государя, сидящего на орле, в древности была изображением
апофеоза обожествляемого умершего римского императора, позднее так мог быть
показан Юпитер-Зевс
[105],
а в итальянской средневековой астрономической книге в подражание этому
образу в виде человека на орле показана одна из звезд
[106].
На чаше коллекции Базилевского, как и на некоторых других средневековых
изделиях, тоже изображен император, сидящий на орле, который, вопреки В.П.
Даркевичу, не может быть назван Александром, летящим на птице
[107],
хотя бы потому, что в сцене нет хитроумной выдумки царя, заставившего птиц
или грифонов лететь к недостижимой для них приманке. Жест свободной,
отведенной назад руки в сочетании со сферой в другой руке заставляет
вспомнить константинопольскую статую конного императора, известную по
старинному рисунку
[108].
Этот жест в римской императорской иконографии означал всевластие и дарование
спасения
[109].
Тема апофеоза Александра в несколько завуалированном виде
включена в роман и отражена в миниатюрах к нему. В армянской
константинопольской рукописи XVII в. орел со звездой иллюстрирует текст о
кончине героя: когда македонский царь последний раз закрыл глаза, звезда,
уносимая орлом с земли на небо, скрылась от людей
[110].
Добавление к мотивам орла и звезды человеческой фигуры могло быть
обусловлено влиянием римской иконографии апофеоза императора, но в любом
случае отождествление олицетворения светила на блюде со “звездой Александра”
может быть предложено лишь как осторожная гипотеза.
Три верхних витка отданы небесным светилам (илл. 22), к
которым стремился Александр. Солнце, Луна и звезды, показанные вместе на
круглом изделии, издавна в греческой традиции превращали изобразительное
поле в символический образ космоса. Так, в Илиаде Гомер, говоря о том, как
Гефест делал щит для Ахилла, перечисляет:
Щит из пяти составил листов на круге обширном (...), там
представил он землю, представил и небо, и море. Солнце в пути неутомное,
полный серебряный месяц, все прекрасные звезды, какими венчается небо...
(Илиада, XVIII, 481, 483-485, пер. Н.И. Гнедича)
На блюде тоже показаны Земля — символическая фигура внизу под
ногами грифонов Александра (илл. 21), Океан, по ее правую руку, и, возможно,
Небо в виде Беллерофона, летящего на Пегасе рядом с Океаном (илл. 23).
105.
Orofino, 1994: 129-150, fig. 21.
106.
Zeit d. Staufer, Kat. Nr. 818, Abb. 61.
107.
Даркевич, 1975: 154-158.
108.
Janin, 1964: 74-75; Byzance, 1992: 168; Raby, 1987: fig. 1.
109.
L’Orange, 1953: 139-153, 165-170.
110.
Buschhausen, 1976: 111.

24
Лучше всего опознается Океан, сидящий на морском чудовище, с
ладьей и веслом в руках. Очень сходно эта стихия изображена, например, на
одном из рельефов Нотр-Дам в Париже (около 1210-1220 гг.)
[111],
однако можно назвать и византийские как ранние, так и более поздние аналоги
[112].
Образ Земли явно восходит к западной традиции, где на южно-итальянских
миниатюрах ее атрибутами стали змея и корова. На блюде фигуры Океана и Земли
нагие, Земля с каким-то легким шарфом. Это намек на классическое
происхождение их символов, но при этом они не по-античному бесполые. На
миниатюрах, напротив, Земля-мать кормит змею и корову грудью
[113].
В Венеции на одном из рельефов XI-XIII
вв. фантастическое существо с ногами коровы (?) держит змею в двух руках,
как это нарисовано на блюде
[114].
Известны римские рельефы с сидящей Tellus (?), богиней земли, у ног которой
лежит корова — жертвенное животное этого божества
[115].
На римской иконе
XII(?)
в. Океан сидит на морском чудовище, а Земля — на корове (или на быке, как
Европа); они отдают своих мертвецов на Страшный Суд. Форма иконы необычна:
это круг, к которому снизу примыкает прямоугольник. В нижней части круга —
Земля и Океан, наверху — Небо с Христом во Славе, в центре — воскресающий
Христос с поднятыми руками
[116]
(илл. 24). Земля со змеей, но без коровы имеется в византийской иконографии
Страшного Суда в Нередице (1198 г.), на что обратил внимание М. Г.
Крамаровский
[117].
Мотив круглой Земли, окруженной Океаном в виде змеи,
обернувшейся вокруг нее, который прямо иллюстрирует текст о полете
Александра, также есть в византийском искусстве
[118].
Интересно, что круг Земли там заполнен деревом с птицами между ветвей,
напоминающими побег с птицами на боковом поле блюда.
Беллерофон на Пегасе в качестве аллегорической фигуры мог
входить в триаду Земли, Океана и Неба (Воздуха?), соответствующую трем
светилам наверху. Его объединяют с двумя другими, бесспорно аллегорическими,
фигурами нагота и такая стилистическая особенность, как круто выступающее
бедро — деталь, напоминающая трактовку мифологических фигур на византийской
серебряной чернильнице из Падуи
[119],
стилизация которых схожа с пресловутым готическим изгибом. Беллерофон чаще
изображался в битве с Химерой или поящим Пегаса из Иппокрены,
111.
Aubert, 1928: pl. 31, 1.
112.
Например, икона XII в. из Синая: Weitzmann, 1978: pl. 23.
113.
Bertaux, 1978: tav. 248, 254, 259c.
114.
Swiechowski, 1978: Abb. 3.
115.
Moretti, 1948: 22-27, fig. 174, tav. XXII-XXIV. Существует
точка зрения, что эта богиня не Tellus, а Церера: Spaeth, 1994: 65-100.
116.
Pietrangeli et alii, 1996: 25-27.
117.
Сокровища Приобья: 154.
118.
Grabar, 1968: 291-296, ill. 10b.
119.
Maguire, 1994: 112-114; Glory of Byzantium: 189-190.

25
но тема его полета на Пегасе также не чужда античной
иконографической традиции
[120].
Свободно отведенная назад, ничего не держащая правая рука — древний жест
победного восклицания, о котором уже шла речь в связи с фигурой, сидящей на
хищной птице. В отличие от Океана и Земли с их разработанной устойчивой
иконографией, Воздух в средние века изображался по-разному: например, в виде
демонического всадника на летящем грифоне или в виде Ганимеда, похищаемого
орлом
[121].
Просмотр Принстонского индекса христианского искусства убеждает, что для
Воздуха мастера много раз искали новый образ, используя как подспорье набор
известных им символов и мотивов.
О Беллерофоне византийцы не забывали: знаменитый столичный
конный колосс, уничтоженный крестоносцами в 1204 г., жители Константинополя
называли то Беллерофоном на Пегасе, то Иисусом Навином
[122].
Беллерофон наряду с Александром упомянут как один из героев древности,
изображенных во дворце героя византийского эпоса Дигениса Акрита. Он мог
быть помещен на блюде и не как аллегорическая фигура, а как герой, который
до Александра безуспешно попытался живым взлететь на небо. Но в его нагой и
безоружной фигуре нет ничего воинственного. Она, скорее, подходит для
аллегории, чем для героического жанра в духе эпохи. Что касается
истолкования Беллерофона как аллегории Христа, то такое осмысление, хотя и
существовало, не получило распространения из-за явной неудачи героя
[123].
Выше Беллерофона, между ним и колесницей Луны, помещен царь
Давид (илл. 23) в короне и на троне, с музыкальным инструментом — псалтирионом — в руках; своеобразный трон, корона и некоторые другие детали
— такие же, как у Александра в центральном медальоне, что подтверждает
единство художественного замысла рельефных и плоских частей блюда. Давид как
коронованный музыкант в качестве одиночного изображения, когда рядом нет ни
словесного, ни зрительного пояснения, может, подобно Александру с грифонами,
считаться его псевдоисторическим портретом. Без инструмента было бы
невозможно узнать, что это не какой-нибудь другой монарх. Давид был
пророком, предком Иисуса, благочестивым героем и прежде всего образцом
благочестивого государя для всех христианских монархов. По одежде и короне
фигура Давида, как и находящееся рядом с ним олицетворение луны, напоминает
упрощенные изображения византийских императоров. Имя Давида в XI-XIII
вв. давали принцам разных стран от Шотландии до тюркских степей. Это имя на
Руси употреблялось наряду с мирскими именами князей, традиционно варяжскими
или славянскими. В искусстве Византии Давид до воцарения и во время
коронации изображался юным и безбородым, но как царя
120.
См., например, “бактрийское” серебряное блюдо из Фрир Галлери
— Weitzmann, 1943: 313-314, fig. 20; Gunter, Jett, 1992: Cat. no. 23, pp.
40, 148-154.
121.
Hortus Deliciarum, 1979: f. 8r; Year 1200, v. II, fig. 149.
122.
Успенский, 1948: 407.
123.
Charbonneau-Lassay, 1992: 378.

26
его обычно рисовали бородатым. В романском искусстве Давид в
короне нередко показан бритым по западной моде, как это сделано и на блюде.
Образы Беллерофона, Давида и Александра сочетаются в описании
мозаик дворца Дигениса Акрита — героя византийского эпоса, где они
представлены среди других доблестных мужей, действовавших от сотворения
мира, — предшественников Дигениса. Давид на троне и Александр, летящий к
небу, были сопоставлены друг с другом в рельефах Дмитриевского собора во
Владимире (1194 г.) — княжеского храма, причем их появление на его фасадах
связывают с идеей уподобления мужественного князя Всеволода величайшему
монарху прошлого
[124].
Наконец, на знаменитой чаше первой половины XII в., изготовленной для
Артукида Абу Сулеймана Дауда, было сочтено уместным изобразить не соименного
этому эмиру Давида, а полет Александра, причем среди мотивов декора
сочетаются приметы царского могущества на земле и небесного царства, тогда
как летящий Александр означает и верховенство, и стремление к небу
[125].
(8).
Сцена боя и ее значение
Если теперь обратиться к общей композиции блюда, то станет
очевидным, что наверху она симметрична, а внизу асимметрична. Три (или две)
нижние аллегорические фигуры сдвинуты влево, чтобы дать место композиции,
занимающей три витка побега — битве трех всадников (илл. 25).
Лучник сражается с копейщиком, тогда как воин с занесенным
мечом спешит на помощь этому копейщику. Лучник — левша, как многие восточные
стрелки на протяжении тысячелетия от Сасанидов до Османов
[126].
Все трое без доспехов, ноги их упираются в стремена. Головы коней
прорисованы не то в профиль, не то в некотором ракурсе, чему более
соответствовало бы положение ушей и скулы. Видимо, они без полного понимания
скопированы с какого-то скульптурного или рисованного, но тоже точно
передававшего объем образца, который внушал мастеру блюда такое уважение,
что он предпочел срисовать сложный, не вполне ясный ему оригинал, не
прибегая к обычной профильной или почти профильной передаче головы коня.
В искусстве каждой эпохи оригинальность произведения
определяется при сопоставлении его с тем, что было общепринятым в те
времена. Не схватка, показанная на блюде, а бой копейщика, верхом на коне
преследующего тоже конного лучника, который, обернувшись, стреляет в него,
был таким общим местом в искусстве эпохи. При этом лучник обладает
признаками тюркского, в том числе сельджукского, всадника
124.
Вагнер, 1976: 270-272.
125.
Artuqiden-Schale, 1995: 45-60; Glory of Byzantium, 1997:
422-423, cat. no. 282 — P. Soucek.
126.
Иностранцев, 1909: 57-58.

27
с его спускающейся на плечо косой или длинными волосами (илл.
12). Копейщик с поднятым копьем настигает его (илл. 26).
Такие сражающиеся всадники есть на сосудах, о которых уже шла
речь: на провинциальной византийской чаше (из коллекции Базилевского), на
двух киликийских вазах. В конце XII в. в Аквилее, в Италии, где
взаимодействовали византийское и романское искусство, копейщик, вооруженный
как западный рыцарь, преследует сельджукского лучника на фреске собора,
причем группа помещена на “плат” в нижней части стены, передавая, вероятно,
вышивку
[127].
В декор исламского металла Сирии XIII в. эта сцена переходит
из христианского искусства (фляга Фрир Галлери, “Купель св. Людовика”). Там
это лишь часть большой композиции. Замена на фляге лука арбалетом, из
которого не стреляли сидя на коне, привела одного из исследователей к мысли,
что исламский мастер показал не подлинную стычку, а какое-то воинское
театрализованное представление
[128].
В XIV в. во владениях королей Венгрии были выполнены
церковные фрески со св. Ласло, который с копьем в руке гонится за
обернувшимся к нему и натянувшим лук куманом. В венгерскую версию,
распространившуюся во входивших в венгерское королевство Словакии и
Трансильвании, в старую схему битвы христианина с неверным введены мотивы,
относящиеся именно к данному сюжету. Так, на крупе коня кумана сидит
похищенная им девица. Св. Ласло был канонизирован в конце XII в., и, хотя
сохранившиеся памятники гораздо моложе, можно думать, что первые иллюстрации
к его житию появились тогда же, во время тесных контактов между Венгрией и
Византией
[129].
Художник, придумавший батальную сцену блюда, конечно, хорошо
знал привычную композицию. То, что он ее решительно изменил, свидетельствует
об особой задаче, стоявшей перед ним. Надо было показать не просто
обобщенный образ сражения христиан с сарацинами или куманами, а конкретное
сражение. В иллюстрациях к истории Александра нет подобного боя. Скорее,
такая задача возникла, когда понадобилось прославить царствующего монарха,
что было в Византии обычным в XII в.
[130]. Византийскому золотому сосуду этого
периода с изображением подвигов императора Мануила Комнина было посвящено
стихотворение современника. Победы этого императора стали также темой для
росписей домов его приближенных, один из которых, тюрок по происхождению,
якобы приказал, вопреки обычаю, изобразить сражения не своего монарха, а
сельджукского султана.
Александр-космократор и царь Давид, представленные на блюде,
позволяют ожидать, что и батальный эпизод связан с идеей идеального монарха,
127.
Demus, 1970: 308, Pl. 78.
128.
Rice, 1953.
129.
О фресках см., например: Dvorakova, Krasa, Streiskal, 1978:
162-169, Repr. 24-29, 84-85.
130.
Mango, 1972: 224-228.

28
представленного в духе эпохи в виде доблестного воина. Не
рассматривая пока переосмысления копейщика и лучника, надо обратить внимание
на третьего, совсем нетрадиционного участника схватки: всадника с занесенным
мечом. Как обратил мое внимание профессор Э. Кизингер, этот всадник едва ли
случайно расположен симметрично по отношению к Давиду и тем самым
сопоставлен со святым царем. Сбруя коня этого воина западная, рыцарская, с
широким нагрудным ремнем, но без подхвостного ремня, проходившего по крупу
(илл. 27). Если византийский художник вообще показывал сбруйные ремни, то он
не забывал изобразить оба, обычно с их подвесками
[131].
Доспехов нет ни у одного из сражающихся. Воины с копьем и мечом — “свои” для
мастера, они имеют короткие волосы и плотно прилегающие к голове шапочки на
макушке, не похожие на обычные массивные шлемы византийцев.
Всадник с луком не спасается бегством, а атакует. Его
непосредственный противник тоже дан нетривиально: он опустил копье и резко
отвел назад вдетую в стремя ногу. Весь его облик указывает на
затруднительное положение, в которое он попал, напав на врага, тогда как
воин с мечом скачет во весь опор к нему на помощь. Сцены боя с ее тремя
участниками обладают единством действия. Столь конкретизированный
изобразительный рассказ шел, несомненно, о каком-то хорошо известном
эпизоде, причем поскольку он не являлся узнаваемым сюжетом из истории
Александра, какими были, например, его бои с Пором, сидящим на слоне, или
Дарием на колеснице
[132],
то, вероятнее всего, главным героем был царствующий император, кто-то из
приближенных которого заказал блюдо. Во всяком случае, невозможно видеть в
сцене сражения просто фигуры воинов, не имеющие какого-то особого значения,
введенными в композицию, каждый элемент которой, как мы сейчас видели, имеет
смысловую связь с другими.
Основное изображение на блюде — это Александр, уподобленный
царствующему монарху, тоже считающемуся всемирным правителем, причем его
образ ближе к западному, чем к византийскому типу государя на троне. Не
случайно, что от его византийской колесницы здесь почти ничего не осталось.
Ч. Литтл обратил мое внимание на сходство головы и осанки царя на блюде с
царями на так называемой чаше Карла Великого
[133]
(илл. 27). Трудно подобрать еще один памятник с такими же особенностями
[134].
Скорее всего, оба памятника отражают идеализированный образ монарха, совсем
недолго вдохновлявшего художников Северной Европы
[135].
131.
Например, Сокровища Приобья: кат. №67
132.
Weitzmann 1959: 105-106.
133.
Англия? Около 1200 — Swarzenski, 1967: fig.
511; English
Romanesque Art, Cat. no. 309; Heslop, 1986: 58, Pl. XXIVd.
134.
Thurre, 1992: 239-242, pl. XVIII, ill. 272.
135.
Bo второй половине XII в. и в самом начале XIII в. связи
между Англией, многими областями Франции, Фландрией, долиной Мааса и Нижней
Саксонией были столь тесными,
что определение места производства чаши Карла Великого остается спорным.
Так, А. Андерссон относит место ее изготовления, скорее, к Лотарингии,
Кельну или Льежу: Andersson, 1983: 30.

29
Датировка концом XII в. или, скорее, началом XIII в.,
вытекающая из анализа всех художественных особенностей, и наличие
несомненных западных элементов сужают диапазон поисков. М. Г. Крамаровский
предложил датировать блюдо после 1261 г.
[136], но не привел ни одного
признака, специфического для второй половины XIII в. Все детали, для которых
он находит поздние аналоги, известны и в более раннее время.
Что же касается предполагаемой связи иконографии блюда “с
идеей триумфа императора”, в данном случае Михаила VIII Палеолога,
вернувшего в 1261 г. Константинополь, то она обоснована только сходством
колесниц на блюде с триумфальными колесницами, причем композиция со
сражающимися всадниками вообще не находит объяснения. Между тем в XI-XIII
вв. византийские императоры во время триумфа ехали верхом
[137],
а колесницы Солнца и Луны относятся к традиционной иконографии светил, тогда
как от триумфальной колесницы, которой византийские художники некогда
наделяли Александра, на блюде остался лишь рудимент. Кроме того, нельзя
забывать заведомо более ранние даты других сосудов из того же клада.
Итак, чтобы понять сцену боя, остается найти того государя,
претендовавшего на власть над миром, который правил в начале XIII в. или
несколько раньше и не просто побеждал врагов-кочевников, но и лично совершил
при этом какой-то подвиг. Надо отметить, что хотя в XII в. при Мануиле I
западные приемы конного боя и некоторые элементы вооружения были освоены
византийцами, а искусство Запада тогда испытывало сильное влияние со стороны
Византии, нет никаких свидетельств о проникновении в это время западных
мотивов в искусство Византии. Между тем мастер блюда, воспитанный столичной
византийской художественной средой, успел ознакомиться и с западными
произведениями. Попытаюсь показать, что все названные здесь особенности
соответствуют предположению, что блюдо выполнено греческим столичным
мастером для одного из греческих сподвижников латинского императора
Константинополя Генриха Фландрского, а сюжет батального эпизода — подвиг
этого рыцарственного монарха, совершенный в 1208 г. накануне его знаменитой
победы под Филиппополем над войском болгарского царя Борила, в которое
входили половцы-куманы, прекрасные конные лучники и самые страшные враги
крестоносных рыцарей на Балканах. В это время для императора в
Константинополе работал маасский мастер Герард, выполнивший золотые части
креста, хранящегося в Сан-Марко в Венеции, и, вероятно, другие ремесленники
— “франки”, так что местные торевты
136.
Сокровища Приобья: 149-157.
137.
Даркевич, 1975: 237-38; Glory of Byzantium, 1997: 15;
Успенский, 1948: 618; McCormick, 1991: 221.

30
могли знакомиться из первых рук с западной традицией
[138].
Сам Генрих, в отличие от первого после латинского завоевания императора
Балдуина (1204-1205), своего брата, и всех более поздних константинопольских
монархов-крестоносцев, сумел завоевать симпатии греческих подданных,
которых, победив Балдуина, жестоко притесняли и даже уничтожали воины
болгарского царя. Выступив защитником греков, Генрих включил в свою армию
греческий контингент, дал двум византийским вельможам большие владения,
сдерживал антиправославную деятельность католического духовенства. Способный
и храбрый, он стал героем византийской эпической песни, был положительно
оценен византийскими историками XIII в. и даже назван “вторым Аресом” (богом
войны) в одной греческой хронике
[139].
Анри де Валансьен, продолживший старофранцузскую хронику
Вилардуэна, написал, что, когда под Филиппополем встретились войска Генриха
и Борила, накануне решающей битвы рыцарь Лиенар храбро устремился на врага.
Он был ранен и неминуемо погиб бы, но сам Генрих, в спешке не надев доспеха,
сел на коня и бросился на выручку своему вассалу. Император вернулся в
лагерь окровавленным. Старший из его баронов Пьер де Дуэ указал своему
сеньору на безрассудство его поведения и пригрозил ему, что вассалы вернут
полученные от него земли и покинут его, если он не будет вести себя
разумнее. Император признал правоту вассалов и согласился стать осторожнее,
но при этом заметил, что если бы он не вмешался, то добрый человек (т. е.
Лиенар) погиб бы
[140].
На другой день была битва, в которой сыграл свою роль Лиенар. В ней
противник императора потерпел решительное поражение. Замечательна в этом
рассказе куртуазная идея братства рыцарей. Император в нем — истинный
рыцарь, даже недостаток которого — это продолжение его достоинств. Поступок
Генриха вызывает восхищение, хотя и не оправдывается. В этом он схож со
своим великим предшественником Александром, сверхчеловеческие деяния
которого вызывали восторг и осуждение. Без доспеха (но со щитом) доводилось
сражаться с сельджукскими лучниками Мануилу Комнину, однако даже он, самый
рыцарственный из императоров Византии, не рисковал жизнью ради своего
человека. Надо отметить, что, воюя в древней Македонии, западные рыцари
знали о том, что они пришли на родину Александра
[141].
Если сюжет батального эпизода определен верно, то дата блюда
должна быть сужена до времени правления Генриха, т. е. 1208-1216 гг.,
поскольку позднее Латинская империя очень быстро потеряла всякий престиж,
138.
Д. Габори-Шопен считает, что реликварий — венец с двумя терниями от
тернового венца, — посланный Генрихом в 1205 г. из Константинополя в Намюр
был, вероятно, выполнен не Герардом, а еще одним маасским мастером,
прибывшим с крестоносцами, — Gaborit-Chopin, 1984: 248, 251.
139.
Карпов, Жаворонков, 1991: 19, 29; Карпов, 1991: 186-87 — со
ссылкой на: Ephraem Aenii Historia Chronica: 275.
140.
Henri de Valenciennes, 508-513, pp. 31-33.
141.
Робер де Клари,
CIII,
с. 73.

31
и сопоставление ее правителя с миродержцем Александром стало
бы совершенно неуместным, хотя греческие певцы и сложили сочувственную песнь
о гибели “Эррика” — Генриха, погубленного, по слухам, своей женой — дочерью
Борила, который после поражения стал тестем и союзником своего победителя
[142].
О политических взглядах Генриха и его окружения сообщает
латинское четверостишие на золотом обрамлении реликвии Святого Креста,
которое около 1206 г. было исполнено Герардом по заказу этого монарха
[143].
В стихотворной надписи, вероятно одобренной самим Генрихом, он назван
“всемирным царем и вторым франкским предводителем греков”. Оба обозначения
как нельзя лучше соответствуют иконографии блюда, на котором Александр —
знаменитейший предводитель греков — показан как космократор. Генрих
воспринял традиционно византийскую идею всемирности империи, сохранявшую
свою значимость независимо от того, каковы были в тот или иной период
реальные пределы константинопольских владений. Будучи франкским рыцарем, он
хотел возглавить своих греческих подданных, что было особенно актуально
перед лицом болгарской опасности, когда болгары начали мстить за своих
предков, некогда истребленных Василием Болгаробойцей. Надо сказать, что
латинская надпись на кресте:
+ CONDIDIT ОС SIGNVM GERARDI DEXTERA DIGNVM + QVOD IVSIT
MONDVS REX FRANCVS DVXQVE SECONDVS + GRECORVM DICTVS HENRICVS VT ОС
BENEDICTVS + BELLO SECVRVS SEMPER MANEAT QVASI MVRVS AMEN +,
— допускает как приведенное выше
[144],
так и иное толкование: “...the free king with the pure heart and second
leader of the Greeks”
[145]
или “the Frankish king of the clean hands, Henry by name, now Second Duke of
the Greeks”
[146].
Весь вопрос заключается в понимании слов MONDVS как “всемирный” или
“чистосердечный” и FRANCVS как “франкский “ или “свободный”. Только перевод
“и второй франк — предводитель греков” дает осмысленное значение слову
“второй”, поскольку нефранкских предводителей у греков было много, а Генрих
был вторым, после своего брата Балдуина, выходцем из франкских земель,
правившим греками. Если же мы принимаем этнополитическое толкование этих
слов, то и MONDVS укладывается в контекст не как моральный, а как
политический эпитет и должен переводиться “всемирный”, потому что в
Константинополе царит не просто предводитель (dux) греков, а законный
император мира. При этом, хотя слова
rex
и dux не имеют здесь полученных ими в средние века значений “король” и
“герцог”, они все же не теряют своего средневекового иерархического
соотношения, в соответствии с которым
rex,
будучи верховным сюзереном обширных земель, был также
dux’ом
для населения своего домена.
142.
Карпов, 1991: 186-187.
143.
Il
tesoro е
il
museo, cat. no. 140.
144.
Ср. Il tesoro e il museo: 139
145.
Gaborit-Chopin, 1984: 244.
146.
Gauthier, 1987: 78.

32
Реликвию Честного креста несли во время войны перед
византийскими императорами, и надпись, которая составлялась, когда Генрих
готовился к своим молниеносным полевым кампаниям, не собираясь отсиживаться
за мощными стенами столицы, гласит, что на войне благословением этого Креста
он будет всегда защищен, как стеной.
(9).
Композиция в целом
Декор блюда отражает контакт двух культурных традиций —
византийской, в ее светском аспекте издавна освоившей восточные декоративные
мотивы, и позднероманской западной — и, если предложенное в этой статье
толкование правильно, показывает сочетание византийских и франкских
представлений о монархе и о герое. Как и всегда в исследовании
средневекового искусства, чтобы понять значение памятника, надо сначала
рассмотреть общую тенденцию, затем увидеть на ее фоне его индивидуальные
особенности и, наконец, попытаться объяснить именно их. Так, и в романском,
и в византийском художественном ремесле декор светских сосудов из
драгоценных металлов обычно включал ряд сюжетов, имевших между собой мало
общего, кроме символики силы, победы и праздника, являясь тем самым
пожеланием блага для владельца. В этой связи уместно вспомнить слова
немецкого монаха Теофила, который в своем знаменитом трактате о ремеслах в
начале XII в. писал, что золотые и серебряные сосуды надо украшать фигурами
“всадников, сражающихся с драконами, львами и грифонами, или образами
Самсона или Давида, разрывающих пасти львов, а также одиночными львами или
грифонами, или кем-нибудь из них, когда он душит овцу, или чем-нибудь еще,
что вам нравится и является подходящим и соответствующим изделию по размеру”
[147].
Подобный нестрогий набор мотивов, включающий и полет Александра на равных
правах с другими сценами и отдельными фигурами, характерен и для
“провинциально византийских” сосудов
[148].
Однако блюдо из Мужей демонстрирует единство темы и
серьезность ее трактовки, которая потребовала обращения к торжественному
композиционному строю, применявшемуся чтобы выразить единство всего мира,
круговорот времени, моральный универсум добродетелей и пороков и т.д. Во
всех этих случаях в Западной Европе применялись центрические композиции,
которые, в частности, оказались уместными, когда иллюстрировали начало
“Евангелия от Иоанна”
[149].
Очень часто в центре круговой композиции помещали сидящую фигуру с поднятыми
руками и символами Солнца и Луны. Так выполнены иллюстрация к рассказу о
Сотворении Мира в Книге Бытия
[150],
олицетворения Года среди светил,
147.
Dodwell, 1986: 141.
148.
Банк,
1981: 203-204.
149. Bober, 1961: 13-28.
150. Вышивка из Хероны, нач. XII в. — Art of Medieval Spain
1993: 309-12, cat. no. 159.

33
сезонов, месяцев, а иногда и четырех элементов [151]. В
подражание изображениям Года была выработана тоже круговая схема размещения
добродетелей и пороков, частая на “школьных” чашах [152]. Есть на них и
философия среди свободных искусств, и мудрость среди даров Святого Духа
[153], переданные сходным образом.
Вселенский охват в сочетании с добродетелью христианского
монарха и с личной рыцарской доблестью отчетливо выражен художником, который
в соответствии с намерениями своего заказчика как бы заявлял, что его
сюзерен достоин стать космократором и преемником величайшего из греческих
героев. Солнце, Луна и звезда в верхней части композиции напоминают об
астральных символах всемирного господства близ головы государя на печатях
Ричарда Львиное Сердце (1189-1199), его кузена императора Оттона IV (1209) и
супруги Оттона IV Марии — дочери герцога Брабанта (1214-1218) [154].
Между тем объединение христианских земель в единую империю
ожидалось перед концом света, поэтому отмеченное выше сходство охватывающей
весь мир композиции блюда с иконографией Страшного Суда (илл. 24) едва ли
случайно. Александра в популярных во всем христианском мире предсказаниях Псевдо-Мефодия Патарского и Андрея Юродивого сопоставляли по его деяниям с
последним “пробудившимся от долгого сна” христианским царем. Этот царь
уничтожит Гог и Магог, которые вторгнутся, разрушив стену Александра, с
севера (как куманыполовцы). Завоевав мир и победив мусульман, он в
Иерусалиме вернет Богу свой венец, уподобившись Христу. Его с язычником
Александром прямо не отождествляли, но образ одного из последних царей у
Андрея Юродивого создан на основе представлений об Александре [155]. Среди
деталей блюда обращают на себя внимание никак не скрепленные с троном
Александра фантастические колеса-звезды. Они напоминают не только упомянутые
выше розетки лиможских эмалей, о которых уже шла речь, но и огненные колеса
без повозки, похожие на какие-то светила, в иллюстрациях к пророчествам
Апокалипсиса и Книги пророка Даниила [156]. Надо отметить, что
фестончатые, т. е. звездные, очертания имеют на блюде и колеса повозок
Солнца и Луны, что при реальном облике
151. Бронзовые “школьные” чаши XII в. — Weitzmann-Fiedler,
1981: 67-69, Kat. Nr. 26, 27, Taf. 61-64, и произведения Х в.: покрывало
реликвария Св. Эвальда в Кельне — Ornamenta Ecclesiae 1985: 62-63, Kat. Nr.
A8; миниатюра в Фульдском сакраментарии, Геттинген fol. 250 г. - Boeckler,
1952: Taf. 22; Palazzo 1993: 187-9, Pl. 56.
152. Weitzmann-Fiedler, 1981: 69-75, 84-117, Kat. Nr. 30-134,
Taf. 72-122.
153. Ead. Kat. Nr. 29-30.
154. Heslop, 1986: Pl. 23 c,d; Zeit d. Staufer, 1977: Kat.
Nr. 39, 41.
155. Истрин, 1897: 21, 22, 67, 68, 98, 99; Alexander, 1985:
124, 130-135; об эсхатологическом аспекте фигуры Александра см. также статьи
В. Лурье и G. Reinink’a в настоящем сборнике.
156. Например, испанская миниатюра из рукописи 1109 г.
Комментария на Апокалипсис Беатуса и Комментария на Книгу Даниила Иеронима —
Art of Medieval Spain 1993: 291-292, cat. no. 145.

34
других предметов в той же композиции не является
орнаментальным перерождением формы, а должно отражать их принадлежность к
миру небес, отличному от земного.
В пророчествах Александр рассматривался как основатель
греческого (но не византийского) царства. Владелец (точнее, один из
владельцев) блюда вырезал на нем малозаметную надпись, применив греческий
шифр, поскольку, скорее всего, сам был греком. В ней, по мнению В. Н.
Залесской [157], содержалось воззвание к Богу, которое оказалось уместным на
блюде, видимо имевшем в глазах писавшего в какой-то мере сакральный
характер, как и изображения полета Александра на стенах церквей.
Подводя итоги, надо сказать, что, начав со светского аспекта
содержания декора блюда, который, видимо, должен был показать гостям
владельца сосуда, что он восхищен своим императором Генрихом как
космократором и героем битвы под Филиппополем (1208 г.), мы видим в том же
произведении его религиозный аспект, органически связанный с идеей всемирной
христианской монархии. Блюдо из Мужей — поистине уникальный памятник,
свидетельствующий об эпохе полной трагических конфликтов Запада и Востока,
осмысляемых в перспективе великого прошлого и рокового будущего.
Литература
Банк, 1938: Банк А. В. Серебряная братина
XII-XIII
вв. // Памятники эпохи Руставели. Л.
Банк, 1940: Банк А. В. Моливдовул с изображением полета
Александра Македонского на небо // Тр. Отд. Востока Гос. Эрмитажа. Т.3.
Банк, 1962: Банк А. В. Серебряный сосуд из так называемого
Тартуского клада // Древние могильники и клады (Археол. сб. II), Таллинн.
Банк, 1966: Банк А. В. Византийское искусство в собраниях
Советского Союза. Л.-М.
Банк, 1978: Банк А. В. Прикладное искусство Византии IX-XII
вв. М.
Банк, 1981: Банк А.В. рец. на:
В.П.
Даркевич. Светское искусство Византии II Византийский временник, том.
42.
Бочаров, 1988: Бочаров Г. Черниговская чаша XII в. //
Древнерусское искусство. Художественная культура X — первой половины XIII в.
/ Отв. ред. А.И.Комеч, О.И. Подобедова. М.
Вагнер, 1976: Вагнер Г. К. Об открытии резных надписей среди
фасадной скульптуры Дмитриевского собора во Владимире // Советская
археология, 1976, № 1.
Грамоты Великого Новгорода и Пскова, 1949: М.-Л.
157.
Сокровища Приобья: 157, 161.

35
Даркевич, 1966: Даркевич В.П. Произведения западного
художественного ремесла в Восточной Европе (X-XIV вв). (Свод археологических
источников, вып. Е1-57). М.
Даркевич, 1972: Даркевич В.П. Путями средневековых мастеров.
М.
Даркевич, 1975: Даркевич В.П. Светское искусство Византии. М.
Даркевич, 1976: Даркевич В.П. Художественный металл Востока
VII-XIII вв. Произведения Восточной торевтики на территории Европейской
части СССР и Зауралья. М.
Даркевич, 1977: Даркевич В.П. Древняя Русь Х-XIII
вв. // Произведения искусства в новых находках советских археологов. М.
Даркевич, Едомаха, 1964: Даркевич В.П., Едомаха И.И. Памятник
западноевропейской торевтики XII в. // СА, №3.
Дурново, 1967: Дурново Л. А. Армянская миниатюра. Ереван.
Жизнеописания трубадуров, 1993: Жизнеописания трубадуров. Жан
де Нострадам. Жизнеописания древних и наиславнейших провансальских пиитов,
во времена графов Прованских процветавших / Сост. М. Б.Мейлах. М.
Измайлова, 1978: Измайлова Т.А. Эдесская рукопись 1171 года
(М 313) // Тр. Гос. Эрмитажа. T.XIX.
Иностранцев, 1909: Иностранцев К. А. Сасанидские этюды. СПб.
Искусство Византии: Искусство Византии в собраниях СССР. М.
Т. 1-3. 1977.
Истрин, 1897: Истрин В. Откровения Мефодия Патарского и
апокалиптические видения Даниила в византийской и славяно-русской
литературах: Исследования и тексты. М.
Каковкин, 1975: Каковкин А.Я. Памятники художественного
серебра Киликийской Армении // ИФЖ. №2 (69).
Карпов, 1991: Карпов С.П. Культура Латинской Романии //
Культура Византии. XIII — первая половина XV в. М.
Карпов, Жаворонков, 1991: Карпов С.П., Жаворонков П.И.
Особенности социально-экономического и политического развития греческих
земель в эпоху политической раздробленности и латинского владычества //
Культура Византии. XIII — первая половина XV в. М.
Крыжановская, 1996: Крыжановская М.Я. Водолей в виде дракона,
пожирающего рыцаря // Сокровища Приобья, кат. № 75
Маршак, 1961: Маршак Б.И. Влияние торевтики на согдийскую
керамику VII- VIII вв. // Тр. Гос. Эрмитажа. Т. V.
Маршак, 1971: Маршак Б. И. Согдийское серебро. Очерки по
восточной торевтике. М.
Маршак, 1976: Маршак Б.И. Серебряные сосуды X-XI вв., их
значение для периодизации искусства Ирана и Средней Азии // Искусство и
археология Ирана и Средней Азии. М.

36
Маршак, 1985: Маршак Б.И. К вопросу о торевтике крестоносцев
// Художественные памятники, проблемы культуры Востока. Л.
Могильников, 1991: Могильников В.А. Контакты населения лесной
полосы Приуралья и Западной Сибири в конце I — начале II тысячелетия н.э. //
Проблемы археологии Евразии. М.
Орбели, 1938: Орбели И. А. Киликийская серебряная чаша конца
XII в. // Памятники эпохи Руставели. Л.
Орнаменты..., 1978: [Дурново Л. А.] Орнаменты армянских
рукописей. Ереван (на армянском, русском и английском языках).
Отрощенко, Рассамакин, 1986: Отрощенко В. В., Рассамакин Ю.Я.
Половецкий комплекс Чингульского кургана // Археолопя, вып. 53, Киев.
Пуцко, 1982: Пуцко В. Г. Византийские лицевые рукописи
Гос.библиотеки СССР им. Ленина // Византийский временник. М. Том 43.
Робер де Клари, 1986: Робер де Клари. Завоевание
Константинополя / Пер., статья и коммент. М. А.Заборова. М.
Рыбаков, 1948: Рыбаков Б. А. Торговля и торговые пути //
История культуры древней Руси. Домонгольский период. I. Материальная
культура М.-Л.
Сокровища Приобья: Сокровища Приобья / Ред. Б. И. Маршак,
М.Г. Крамаровский. СПб, 1996.
Смирнов, 1909: Смирнов Я. И. Восточное серебро. Атлас древней
серебряной и золотой посуды восточного происхождения, найденной
преимущественно в пределах Российской империи. СПб.
Спицын, 1906: Спицын А. А. Из коллекций Эрмитажа // ЗОРСА. Т.
VIII. Вып. 1.
Тизенгаузен, 1884: Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов,
относящихся к истории Золотой Орды. СПб.
Успенский, 1948: Успенский Ф.И. История Византийской империи.
Том III. М.-Л.
Федорова, 1982: Федорова Н.В. Два серебряных сосуда из района
г. Сургута // СА. № 1.
Alexander, 1985: Alexander P.J. The Byzantine Apocalyptic
Tradition. Berkley, Los Angeles, London.
Andersson, 1983: Andersson A. Medieval Drinking Bowls of
Silver Found in Sweden. Stockholm.
Art of Medieval Spain 1994: The Art of Medieval Spain A, D.
500-1200. The Metropolitan Museum of Art. New York.
Artuqiden-Schale, 1995: Die Artuqiden-Schale in Tirolen
Landsmuseum Ferdinandeum Innsbruck. Mittelalterliche Emalkunst zwischen
Orient und Occident. Miinchen.
Aubert, 1928: Aubert M. Notre Dame de Paris, architecture et
sculpture. Paris.
Bank, 1962: Bank A. Byzantine Art in the Collections of
Soviet Museums. Leningrad.

37
Bertaux, 1978: Bertaux Е. L’art dans l’Italie Méridionale, t.
VI, Paris-Rome.
Bober, 1961: Bober H. In Principio. Creation Before Time //
De Artibus Opuscula XL Essays in Honor of Erwin Panofsky. Ed. M.Meiss. New
York University Press, vol. I.
Boeckler, 1952: Boeckler A. Deutsche Buchmalerei vorgotischer
Zeit. Königstein im Taunus.
Bouras, 1991: Bouras L. Three Byzantine Bronze Candelabra
from the Grand Lavra Monastery and Saint Catherine’s Monastery in Sinai //
Δελτίον της Ηριστιανικῆς αρχαιολογίας ἐταιρείας. 15. 1989-1990. Αθῆναι.
Buchtal, 1979: Buchtal H. The “Musterbuch” of Wolfenbüttel
and its position in the art of the thirteenth century. Wien.
Buschhausen, 1976: Buschhasen, Heide u. Helmut. Die
Illuminierten Armenischen Handschriften der Mechitaristen-Congregation in
Wien. Wien.
Byzance, 1992: Byzance. L’art byzantin dans les collections
publiques françaises. Paris.
Byzantine Art, 1986: Byzantine and Post-Byzantine Art.
Athens.
Charbonneau-Lassay, 1992: Charbonneau-Lassay Louis. The
Bestiary of Christ. With Woodcuts by the Author / Translated and Abridged by
D.M. Dooling. Arkana.
Demus, 1970: Demus О. Romanesque Mural Painting. London.
Derolez, 1968: Derolez A. Liber Floridas: codex autographus
bibliothecae universitatis gandavensis. Gent.
Dodwell, 1986: Dodwell C.R. (ed. and transl.) Theophilus. The
various arts. De diversis artibus. 2nd ed. Oxford.
Dugrand, 1865: Dugrand J. Legende d’Alexandre le Grand //
Annales archéologiques. XXV.
Dvořaková, Krasa, Streskal, 1978: Dvořaková V., Krasa J.,
Streiskal K. Sredoveka nastenna mal’ba na Slovensku. Tatran.
English Romanesque Art, 1984: English Romanesque Art,
1066-1200. Catalogue. London, 1984.
Erginsoy, 1988: Erginsoy U. Metalwork // Oney G. Anadolu
Selguklu mimari. Suslemesi ve el sanatlari.
Ettinghausen and Grabar,1987: Ettinghausen R. and Grabar O.
The Art and Architecture of Islam 650-1250. (The Pelican History of Art).
Fehérvári, 1976: Fehérvári G. Islamic Metalwork of the Eighth
to Fifteenth Century in Keir Collection. London.
Gaborit-Chopin, 1984: Gaborit-Chopin D. Staurotheca of Henry
of Flanders. Cat. no. 34 // The Metropolitan Museum of Art. The Treasury of
San Marco. Venice, Milan.
Garrison, 1970: Garrison E.B. Dating of the Vatican Last
Judgement Panel: Monument Versus Document // La Bibliophilia, 72.

38
Gauthier, 1982: Gauthier M.-M. Reliquaires du XIIIе
siècle entre le Proche-Orient et l’Occident latin // Il Medio Oriente e
l’Occidente nell’ arte del XIII secolo, v. 2 / Cura di H. Belting. Bologna.
Gauthier, 1983: Gauthier M.-M. Les Routes de la foi: Reliques
et reliquaires de Jerusalem à Compostelle. Fribourg.
Gauthier, 1987: Gauthier M.-M. Highways of the Faith. Relics
and Reliquaries from Jerusalem to Compostela / Translated by J. A.
Underwood.
The Glory of Byzantium, 1997: The Glory of Byzantiun. Art and
Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261 / Edited by H.C. Evans and
W.D. Wixom. The Metropolitan Museum of Art, New York.
Goldschmidt, 1900: Goldschmidt A. Stilentwickelung der
romanischen Skulptur in Sachsen // Jahrbuch der Königlichen preussischen
Kunstsammlungen, Bd. 21. Berlin.
Grabar, 1936: Grabar A. L’empereur dans l’art byzantin.
Paris.
Grabar, 1968: Grabar A. Le succès des arts orientaux à la
cour byzantine sous les Macédonies // Grabar A. L’art de la fin de
l’antiquité et du moyen âge, v. I, Ш (ills.), Paris.
Gunter, Jett, 1992: Gunter A.C., Jett P. Ancient Iranian
Metalwork in the Arthur M. Sackler Gallery and the Freer gallery of Art.
Washington D.C.
Gyllensvärd, 1957: Gyllensvärd В. Tang Gold and Silver.
Stockholm.
Henri de Valencienne: Henri de Valenciennes. Histoire de
l’empereur Henri de Constantinople / Publie par J. Longdon. Paris, 1948.
Heslop, 1986: Heslop T.A. Seals as Evidence for Metalworking
in England in the Later Twelfth Century // Art and Patronage in the English
Romanesque / Edited by S. Macready and F.H. Thompson. London.
Hortus Deliciarum, 1979: Hortus Deliciarum of Herrad of
Hohenbourg / Published by R. Green and others. Leiden.
Janin, 1964: Janin R. Constantinopole byzantine, 2e ed.,
Paris.
Kauffmann, 1975: Kaufmann C.M. Romanesque Manuscripts
1066-1190. London, Boston.
Kötzsche, 1973: Kötzsche D. Der Weifenschatz in Berliner
Kunstgewebemuseum. Berlin.
Lauer, 1927: Lauer Ph. Les enluminures romanes des manuscrits
de la Bibliothèque Nationale. Paris.
L’Orange, 1953: L’Orange H. Studies on the Iconography of
Cosmic Kingship in the Ancient World. Oslo.
Maguire, 1994: Maguire H. Epigrams, Art, and the “Macedonian
Renaissance” // Dumbarton Oaks Papers, 8.
Mango, 1972: Mango C. The Art of the Byzantine Empire,
312-1453. Engelwood Cliffs, New Jersey.
McCormick, 1991: McCormic M. Triumph // The Oxford Dictionary
of Byzantium, v. 3, New York-Oxford.

39
Marschak, 1986: Marschak В. Silberschatze des Orients.
Metallkunst des 3.-13. Jahrhunderts und ihre Kontinuaitat. Leipzig.
Marshak, 1997: Marshak В. I. Plate with the Ascension of
Alexander the Great // The Glory of Byzantium.
Millet, 1923: Millet G. L’ascension d’Alexandre // Syria, t.
IV.
Milošević, 1980: Milošević D. Art in Medieval Serbia from the
12th to 17th Century. Beograd.
Miniature armeniénne 1984: La miniature arménienne XIIIe-XIVe
siècle. Collection du Matenadaran. Erevan. Leningrad.
Moretti, 1948: Moretti G. Ara Pads Augustae. Roma.
Morgan, 1942: Morgan Ch.H. The Byzantine Pottery // Corinth,
v. XL Cambridge, Mass.
Nikolajević, 1978: Nikolajević I. Depotfund bronzener
Kunstgegenstande aus Rakovac, ein Beispiel des Export byzantinischer Kunst
// Byzantinischer Kunstexport / H.L.Nickel (editor). Halle (Saale).
L’Œuvre de Limoges, 1995: L’Œuvre de Limoges. Emaux limousins
du Moyen Age. Musee du Louvre, Paris. The Metropolitan Museum of Art. New
York, Paris.
Ornamenta Ecclesiae, 1985: Ornamenta Ecclesiae: Kunst und
Künstler der Romantik. 1. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in
der Josef-Haurbrich-Kunsthalle
/ Herausgegeben von Anton Legner. Köln.
Orofino, 1994: Orofino G. Il rapporto con
l’antico
e
l’osservazione
della natura nell’illustrazione scientifica di eta sveva in Italia
méridionale // Intellectual Life at the Court of Frederick II Hohenstaufen /
Edited by W. Tronzo. Studies in the History of Art, 44. Center for Advanced
Study in the Visual Arts. Symposium Papers, XXIV. Washington.
Palazzo, 1993: Palazzo E. Les sacramentaires de Fulda. Étude
sur l’iconographie et la liturgie à l’époque ottonienne. Münster.
Pietrangeli et alii, 1996: Pietrangeli C. Essays by G.
Cornini, A.-M. De Strobel, M.Serlupi Crescenzi. Paintings in the Vatican.
Rhein und Maas, 1972: Rhein und Maas: Kunst und Kultur
800-1400. Köln.
Poutsko, 1974: Poutsko B. Problèmes d’origine et de datation
d’une coupe d’argent provevant de Vilgort // Revue des études arméniennes,
NS, t. X, Paris, 1973-1974.
Rice, 1953: Rice D.S. Le baptistère de Saint Louis. Paris.
Rolle et al., 1991: Rolle R., Muller-Wille M., Schietzel K.,
Toločko P. und Murzin V.Ju. Gold der Steppe: Archäologie der Ukraine.
Schleswig.
Schlumberger, 1943: Schlumberger G. Sigillographie de
l’Orient Latin. Paris.
Settis-Frugoni, 1973: Settis-Frugoni C. Historia Alexandri
elevati per griphos ad aerem. Origine, iconografia e fortuna di una tema.
Roma.

40
Schmidt, 1995: Schmidt, Victor М. A Legend and its Image: The
Aerial Flight of Alexander the Great in Medieval Art. Groningen.
Skubiszewski, 1965: Skubiszewski P. Romanskie cyboria w
ksztalcie czary z nakrywa. Problem genezy // Rosznik Historii Sztuki, t. V.
Skubiszewski, 1982: Skubiszewski P. Die Bildprogramme der
romanischen Kelche und Patenen // Metallkunst der Spätantike bis zum
ausgeheden Mittelalter, Herausgegeben v. A.E.Effenberger. Berlin.
Spaeth, 1994: Spaeth B.S. The Goddess Ceres in the Ara Pacis
Augustae and the Carthage Relief // American Journal of Archaeology, 98, No.
1.
Steenbock, 1965: Steenbock F. Der kirchliche Prachteinband im
frühen Mittelalter von den Anfängen bis zum Beginn der Gotik. Berlin.
Swarzenski, 1953: Swarzenski H. Monuments of Romanesque Art.
London.
Swiechowski, 1978: Swiechowski Z. Fassadenreliefs der Paläste
des 11.-13. Jh. in Venedig // Byzantinischer Kunstexport / H.L.Nickel
(editor). Halle (Saale).
Temple, 1990: Temple R. (editor). Early Christian and
Byzantine Art. Shaftesbury.
Il Tesoro e il museo, 1971: Il Tesoro e il museo. Il Tesoro
di San Marco / Opera diretta da H.R.Hahnloser. Vol. 2. Firenze.
Thurre, 1992: Thurre D. L’Atelier romain d’orfèvrerie de Г
Abbaye de SaintMaurice. Sierre.
Ulbert, 1990: Ulbert Th. Der kreuzfahrerzeitliche
Silberschatz aus Resafa-Sergiupolis // Resafa III / Deutsches
archäologisches Institut. Mainz am Rhein.
Verdier, 1974: Verdier P. A Thirteenth Century Monstrance //
Gatherings in Honour of Dorothy Miner. Baltimore.
Weitzmann, 1943: Weitzmann K. Three “Bactrian” Silver Vessels
with Illustrations from Euripides // The Art Bulletin, v. XXV, no. 4.
Weitzmann, 1959: Weitzmann K. Ancient Book Illumination.
Cambridge, Mass.
Weitzmann, 1978: Weitzmann K. The Icon. Holy Images — Sixth
to Fourteenth Century. New York.
Weitzmann-Fiedler, 1981: Weitzmann-Fiedler J. Romanische
gravierte Bronzeschalen. Berlin.
Wentzel, 1962: Wentzel H. “Staatskameen” im Mittelalter //
Jahrbuch der Berliner Museen, 4.
Year 1200, 1972: The Year 1200. A Centennial Exhibition at
Metropolitan Museum of Art, v. I-II. New York.
Zeit der Staufer, 1977: Die Zeit der Staufer.
Geschichte-Kunst-Kultur: Katalog der Ausstellung. Stuttgart. Bd.
I-IV /
Herausgegeben von Reiner Haussherr.
Список иллюстраций
1. Серебряное блюдо. Нач.
XIII
в.(?). Шурышкарский районный краеведческий музей, с. Мужи
Ямало-Ненецкого национального округа.

41
2.
Блюдо из с. Мужи (см. илл. 1). Профиль.
3.
Серебряная крышка. Нач. XIII в. Шурышкарский районный
краеведческий музей.
4.
Серебряная крышка чаши. 2-я пол. XII в. Шурышкарский районный
краеведческий музей.
5.
Серебряная чаша. 3-я четв. XII в. Шурыкшарский районный
краеведческий музей.
6.
Деталь крышки (см. илл.
3).
7.
Деталь крышки (см. илл.
3).
8.
Серебряная курильница, ок. 1200 г. Музей исторических
драгоценностей. Киев.
9.
Крышка курильницы (см. илл. 8).
10.
Серебряная чаша со сценой пира императрицы. XII в. Гос.
Эрмитаж.
11.
Серебряная крышка чаши. XII в. Гос. Эрмитаж.
12.
Серебряная чаша с крышкой (из Барсова Городка). XII в. Гос.
Эрмитаж.
13.
Серебряная ваза из Вильгорта. Ок. 1200 г. Гос. Эрмитаж. (На
среднем ложке отстреливающийся лучник).
14.
Серебряный поднос. VIII-IX вв. Гос. Эрмитаж.
15.
Деталь подноса (см. илл. 14).
16.
Деталь серебряного ведерка, IX в. Историко-археологический
музей. Нижний Новгород.
17.
Центральный медальон. Блюдо из Мужей (см. илл. 1).
18.
Камея. 1-я пол. XIII в. Нумизматическое собрание. Мюнхен.
(Сильное увеличение, ширина 5,5 см).
19.
Христос во Славе. Рельеф. Церковь монастыря в Гренингене близ
Гальберштадта. XII в. (по А.
Гольдшмидту).
20.
Деталь иконы “Страшный Суд” (см. илл. 24). 2-я пол. XII в.(?)
21.
Лучник. Деталь серебряного блюда из Мужей (см. илл. 1).
22.
Олицетворение светил. Деталь серебряного блюда из Мужей (см.
илл. 1).
23.
Океан, Беллерофон, царь Давид. Деталь серебряного блюда из
Мужей (см. илл. 1).
24.
Страшный Суд. Икона. Пинакотека. Ватикан. 2-я пол. XII в.(?).
25.
Бой трех всадников. Деталь серебряного блюда из Мужей (см.
илл. 1).
26.
Лучник. Деталь серебряной вазы из Вильгорта. Ок. 1200 г. Гос.
Эрмитаж, (см. илл. 13).
27.
Цари-волхвы. Деталь “Чаши Карла Великого”. Аббатство Сен
Морис д’Агон. Швейцария. Ок. 1200 г.