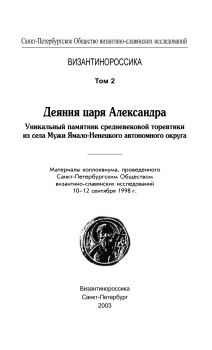Под таким названием в 1940 г. на страницах “Трудов Отдела Востока” Гос. Эрмитажа
появилась весьма примечательная статья Алисы Владимировны Банк
[1].
Ее внимание привлекла необычность имеющихся на печати изображений: на лицевой
стороне — двух фигур в рост, облаченных в императорские одежды, на обороте —
сложной композиции, в которой усматривается один из вариантов легендарного
полета Александра Македонского (илл. 28).
“Число дошедших до нашего времени византийских памятников, представляющих
вознесение Александра, весьма невелико”
[2],
— тем больший интерес и значение приобретает результат исследования автора
статьи, позволившего прийти к заключению, что эрмитажный моливдовул “может с
абсолютной достоверностью свидетельствовать о наличии композиции с колесницей на
памятнике, бесспорно происходящем из самой Византии”
[3].
Для подтверждения этого вывода А.В. Банк был проделан глубокий иконографический
анализ, с привлечением многих аналогий.
Неугасающий интерес к издавна популярному образу Александра Македонского и его
деяниям продолжает находить отражение в современной науке. Обращение к
письменным источникам и памятникам материальной культуры дает возможность
проследить не только новое, но и переосмысление того, что уже было сделано. В
известной степени это касается и рассматриваемой статьи в той ее части, где дано
изображение фигур, стоящих по сторонам патриаршего креста в лоратных одеяниях.
А. В. Банк видела в них императоров-соправителей, ссылаясь на сходство костюмов,
наличие диадем и держав. Она отмечала, что сохранность отдельных букв возле
фигур не позволяет раскрыть содержание надписи и установить имена персонажей.
Однако в последнем издании альбома “Византийское искусство в собраниях
Советского Союза” (на английском и французском языках)
[4]
при описании аверса моливдовула под вопросом названы имена: Константин и Елена.
1.
А.В. Банк. Моливдовул с изображением полета Александра Македонского на небо //
Труды Отдела Востока. Т.III. Л., 1940. С. 181-193
2.
Там же. С. 190
3.
Там же. С. 193
4.
A.Bank. L’art byzantin dans les musees de
l’Union
Sovietique. Leningrad. 1977, no. 168-169

43
Пересмотр изображений и прочтение букв на полях печати позволяют снять вопрос.
На печати представлены не императоры-соправители, а святые Константин и Елена,
что подтверждается сопроводительными надписями. Слева от фигуры Константина
отчетливо виден омикрон, соответствующий артиклю
ὁ,
за которым следует слово
ἅγιος
— “святой”, переданное в полной или сокращенной форме. Имя святого расположено
вертикально справа от фигуры:
 =
Κων(σταντῖνος).
Буквы широкие, нижняя часть омеги в виде эллипса. По сторонам женской фигуры
читается: слева
ΗΑΓ
=
Ἡ ἁγία,
“святая”; справа — разбросанные по полю буквы имени:
Ε-ΛΕ-Ν
=
Ἑλένη
(последняя буква не видна).
=
Κων(σταντῖνος).
Буквы широкие, нижняя часть омеги в виде эллипса. По сторонам женской фигуры
читается: слева
ΗΑΓ
=
Ἡ ἁγία,
“святая”; справа — разбросанные по полю буквы имени:
Ε-ΛΕ-Ν
=
Ἑλένη
(последняя буква не видна).
Вверху, слева от креста, читается I (йота). Вряд ли она имеет самостоятельное
значение, не часть ли это титлов Христа:
Ι[C-ΧC]?
Может быть, изображение креста и святых Константина и Елены по его сторонам в
сочетании с титлами Христа служат намеком на Распятие и это связано с легендой,
согласно которой Елена, мать Константина Великого, во время путешествия в
Иерусалим в 326 г. обнаружила крест, на котором распяли Христа? Святых
Константина и Елену в лоратных одеяниях по сторонам креста можно видеть на ряде
памятников с изображением Распятия (слоновая кость, эмаль, серебро)
[5].
Иконография образов Константина и Елены имеет на печати ряд особенностей. Прежде
всего, существенно отсутствие знаков святости — нимбов. Можно отметить также
особенности в передаче отдельных деталей. Это касается, в частности, изображения
держав, завершающихся трифолиями. Наличие трилистников как наверший держав
встречается редко. Их можно видеть на золотой булле Феодоры
[6]
(1055-1056), на некоторых экземплярах печати Романа IV Диогена (1068-1071), в
изображении державы в руке Андроника, сына Романа
[7].
Как отмечает В. Зайбт, “лучше всего видна эта особенность на печати в Истамбуле,
которая упомянута у Еберзольта / 213, № 148f. Фото в Архиве Австрийской Академии
наук, кабинет византинистики”
[8].
Державу с трифолием держит императорица Зоя на редкой пробной медной монете
[9].
Еще одна особенность относится к передаче диадемы на голове Константина. Ее
увенчивают четыре крупных жемчужины, образующие крест. Просмотр нумизматического
материала (начиная с изображений императоров X в.) показывает, что соединение
четырех крупных жемчужин
5.
Byzanz. Die Macht der Bilder. Hildesheim, 1998, no. 56,
66; A. Bank. L’art, no. 185, 199-200.
6.
G. Zacos and A. Beglery. Byzantine Lead seals. Basel. 1972, Vol.
1, no. 81.
7.
Ibid, no. 93d.
8.
W. Seibt. Die byzantinischen Bleisiegel in Osterreich. Teil I.
Kaiserhof. Wien, 1978, S. 98, anm. 4.
9.
Ph. Grierson. Catalogue of the Byzantine
coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittmore Collection.
Washington, 1973. Vol. Ill, part 2, p. 728-729; В.В. Гурулева. Об одном не
состоявшемся монетном выпуске 1043 г. // История Византии и византийская
археология: X Сюзюмовские чтения. Тезисы докладов. Екатеринбург, 1998. С. 69.

44
на
диадемах василевсов появляется во время правления Константина IX Мономаха
(1042-1055). Такое же завершение диадемы встречается у Константина X Дуки
(1058-1067) на ковчеге (реликварии св. Димитрия), хранящемся в Московском Кремле
[10].
Число примеров на монетах и памятниках прикладного искусства XI-XII
вв. можно было бы умножить.
Эрмитажная печать, насколько позволяет об этом судить характер исполнения
изображений на ее лицевой стороне, скорее всего, была изготовлена в XI в.
10.
Искусство Византии в собраниях СССР. Каталог выставки. М., 1977.
Т. 2. С. 82, илл. 547.
Иллюстрации
Илл. 28. Моливдовул из собрания Гос. Эрмитажа, инв. № 4506.