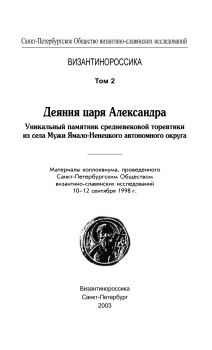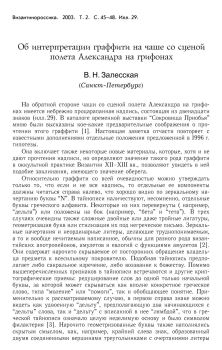На обратной стороне чаши со сценой полета Александра на грифонах имеется
небрежно процарапанная надпись, состоящая из двенадцати знаков (илл. 29). В
каталоге временной выставки “Сокровища Приобья” мною были высказаны кое-какие
предварительные соображения о прочтении этого граффити [1]. Настоящая заметка
отчасти повторяет с известными дополнениями отдельные положения предложенной в
1996 г. гипотезы.
Она включает также некоторые новые материалы, которые, хотя и не дают прочтения
надписи, но определяют значение такого рода граффити в оккультной практике
Византии
XII-XIII
вв., позволяют увидеть в ней подобие заклинания, имеющего значение оберега.
Относительно граффити со всей очевидностью можно утверждать только то, что если
и не вся надпись, то отдельные ее компоненты должны читаться справа налево, что
хорошо видно по зеркальному начертанию буквы “N”. В тайнописи наличествуют,
несомненно, отдельные буквы греческого алфавита. Некоторые из них перевернуты (
например, “дельта”) или положены на бок (например, “бета” и “тета”). В трех
случаях очевидны также сложные двойные или даже тройные лигатуры, геометризация
букв или стилизация их под негреческое письмо. Зеркальные начертания и
неординарные литеры, делающие труднопонимаемым, а то и вообще нечитаемым
написанное, обычны для разного рода византийских апотропейонов, амулетов и
евлогий с функциями амулетов [2]. Они содержат нарочито скрываемое от
посторонних обращение владельца предмета к всесильному покровителю. Подобная
тайнопись предполагает либо сакральное изречение, либо воззвание к божеству.
Помимо вышеперечисленных признаков в тайнописи встречаются и другие
криптографические приемы: редуцирование слов до одной только начальной буквы, за
которой может скрываться как вполне конкретное греческое слово, типа “моление”
или “помоги”, так и обобщающее понятие. Применительно к рассматриваемому случаю,
в первом справа знаке можно видеть как удвоенную “дельту”, предполагающую два
начинающихся с “дельты” слова, так и “дельту” с вписанной в нее “лямбдой”, что в
греческой тайнописи означало целую неделимую основу и было символом филактерия
[3]. Нарочито геометризованные буквы также наполнялись скрытым смыслом, как,
например, крайний слева знак, образованный двумя соединенными вершинами
треугольниками с очертаниями литеры “М”.

46
Подобная геометрическая фигура, обычная для коптской тайнописи
[4], указывала на
некое скрываемое от посторонних глаз священнодействие —
τὸ μυστέριον.
Таким образом, если брать только пиктографический аспект первого и последнего
знаков надписи и начинать их прочтение слева направо, то, согласно приведенным
данным, суммирующим определенный опыт чтения заклинаний, начертанное начинается
с указания на нечто мистериальное и завершается защитительным знаком “неделимой
основы”, — т. е. само письмо в результате особых известных только посвященному
манипуляций становилось оберегом.
Подобные криптографические приемы имеют место в надписях на двух хранящихся в
византийском отделении Эрмитажа памятниках: агатовой чаше, под серебряным
позолоченным ободом которой помещены девять литер [5], и золотом образке с
изображением на лицевой стороне Христа Эммануила, на обороте голгофского креста,
а на трех боковых гранях набора из греческих букв, некоторые из которых
стилизованы под славянское юс-письмо, крестиков и ромбов [6]. Учитывая гипотезу
Н. П. Кондакова [7], на первом памятнике, близком рассматриваемой чаше как по
времени исполнения, так и по локализации, можно предполагать здравицу в честь трапезундского владетеля Давида Комнина
[8]. Ее образуют “бета”, “пи” и “тета”.
Приняв во внимание эпитеты автократора Давида, фигурирующие на моливдовулах, а
также в прославляющей его деяния надписи на стене башни Гераклеи Понтийской
[9],
следует признать, что первые две “беты”, а также “пи” указывают на царское
происхождение (василевс) и царский род трапезундского Комнина, на его
порфирородное — “пи” — происхождение, “тета” же и последующая “тау” (Бога
чтящий) определяют его как христианского правителя, вынужденного до поры до
времени не афишировать, хотя и не скрывать своих имперских амбиций. Притязания
Давида Комнина на трапезундский престол, стоившие ему в конечном счете жизни,
относятся, как это было показано в работе Р. М. Шукурова [10], к факту
политической истории Византии начала XIII в. Наша гипотеза относительно
прочтения криптограммы на пиршественной чаше Давида Трапезундского нашла, таким
образом, подтверждение, и ее выводы могут быть использованы при интерпретации
граффити на исследуемой чаше.
Что касается тайнописи на образке-энколпии с изображением Христа Эммануила, то
для определения граффити на чаше с вознесением Александра важны следующие
наблюдения, сделанные в отношении чаши Давида Трапезундского, т. е. включение в
надпись геометрических элементов, редуцирование слов, переворачивание букв. Так,
на основании энколпия между греческими буквами помещены два ромба с вписанными в
них крестиками, что являло собой достаточно распространенный в средние века
символ божественного покровительства, распространяемого на четыре стороны света.
(Сравни “Δ”,
“Λ”
и составленное из двух треугольников ромбовидное “Μ”
на чаше.) В надписях же на боковых гранях треугольного образка — одна прямая,
другая зеркальная, — тождественных по набору литер, читается шесть раз
повторенное обращение к Богу: “Боже, призываемый в молитвах”. В граффити на чаше
с

47
Александром можно предположить наличие всех тех своеобразно начертанных литер, о
которых выше шла речь: “тета” (вторая справа), “бета” (третья, с двойной
обводкой), “пи” (четвертая) как сложная лигатура, в основе которой лежит “П”,
“ро” (шестая) с закруглением в виде листа плюща. Аналогии к первому справа
знаку, в котором видится удвоенная “дельта”, неизвестны; при соединении этих
двух букв с “тетой” (вторая) можно было бы предположить, не заключают ли в себе
эти литеры фразу “моление раба божьего”, так как оба греческих слова — “моление”
и “раб” начинаются с “дельты”. Таким образом, если только наши гипотезы верны,
получилось бы обращение некого человека, очевидно, на каком-то этапе владельца
блюда, к царственной персоне, реально существовавшей или легендарной. Дальнейшее
истолкованию не поддается. Следует лишь заметить, что среди литер между
геометризованным “Μ”
в конце граффити и лигатурным “пи” обнаруживаются все те буквы — в прямом,
обратном или перевернутом начертании, — из которых слагается имя “Александр”. Но
поскольку ключ к шифровке нами не установлен, дальнейшие предположения
представляются слишком уж вольным обращением с памятником.
Александр Македонский мог быть тем обожествленным царем, к которому
средневековые люди могли обращаться с мольбой об исцелении, даровании успеха в
делах, защите от злых сил.
Еще Иоанн Златоуст в своих проповедях внушал верующим, что, сколь бы ни были
велики деяния Македонского царя, они не сопоставимы с подвигами мучеников за
веру. Однако его слова воспринимались далеко не всеми. В сознании византийцев
Александр продолжал оставаться тем всесильным покровителем, к которому, как к
архистратигу Михаилу, можно было обратиться за помощью. Златоуст пишет, что в
его время монетам с профилем Александра приписывалась чудодейственная сила и их
носили на головных уборах или привязывали к ногам. Этот обычай просуществовал
пятнадцать веков, и греческий этнографический материал начала XIX в.
свидетельствует о том, что у гречанок было принято носить монеты Александра
Великого как амулеты [11].
Языческое прошлое Александра, как и большинства античных богов и героев, отошло
на второй план, и они воспринимались в христианском морализирующем духе. Так, на
миниатюре XIV в. (Греческий институт в Венеции), иллюстрирующей историю
посещения Александром эфиопской царицы Кандаки, можно видеть правительницу
кладущей написанный для нее портрет Македонского царя в особый ящичек,
предназначенный для хранения реликвий [12]. Этот напоминающий икону портрет
служит евлогией.
В поэме о Дигенисе Акрите Александр фигурирует среди ветхозаветных персонажей —
рядом с Самсоном, Моисеем, Иисусом Навином, а на серебряной чаше из собрания А.
П. Базилевского (Эрмитаж) он представлен рядом с Самсоном, разрывающим пасть
льву [13]. На всех перечисленных памятниках Александр выступает как
олицетворение силы. Не случайно его изображение украшало порталы, стены и
капители храмов, причем наличие грифонов только усиливало охранительный смысл
всей

48
композиции [14]. Полет Александра в христианском контексте мог быть истолкован
как воплощение идеи спасения, на которое могут рассчитывать праведники
[15].
Таким образом, какие бы новые гипотезы не возникли в дальнейшем при изучении
тайнописи на чаше с полетом Александра, ее апотропеический смысл очевиден, и он
вполне согласуется с изображением на лицевой стороне сосуда.
Литература
1.
Сокровища Приобья / Под ред. Б. И. Маршака и М.Г. Крамаровского. СПб., 1996. С.
157-161.
2.
Zalesskaya V. N. Amulettes buzantines magiques et leurs lien a la litterature
apocryphe // Actes du XIVе Congres international des etudes
byzantines. T. I, Bucarest, 1976. P. 70-75.
3.
Dornseiff F. Das Alphabet in Mystik und Magie //
Στοιχεία,
H. VII, Leipzig-Berlin,
1925. S. 22-31.
4.
Girgis W.A. Greek loan words in Coptic // Bulletin de la societe archeologique
copte. T. 20. Le Caire, 1971. P. 53-67.
5.
Bank A. Byzantine Art in the collections of Soviet Museums. Leningrad, 1985. P.
298. Pl. 151
6.
Залесская B.H. Два образка-энколпия палеологовского времени (Из новых
поступлений византийского отделения Эрмитажа) // Византийский временник, Т. 55.
4.2. М.,
1998. С. 227-231.
7.
Толстой И.И., Кондаков Н.П. Русские древности в памятниках искусства. Вып.
V.
СПб., 1897. С. 41.
8.
Залесская В.Н. Пиршественный кубок Давида Трапезундского // Эрмитажные чтения
памяти В. Ф. Левинсон-Лессинга. СПб., 1994. С. 33-34.
9.
Карпов С.П. У истоков политической идеологии Трапезундской империи //
Византийский временник, Т.42. М., 1981. С. 101-105.
10.
Шукуров Р.М. Доклад на XV Всероссийской научной сессии византинистов. Барнаул,
29 мая — 2 июня 1998 г. (Не издан).
11.
Galavaris G. Alexander the great conqueror and captive of death: his various
images in byzantine art // Canadian art review. Toronto. T. XVI. № 1. 1989.
P.13.
12.
Xyngopoulos N. Les miniatures du roman d’Alexandre le Grand dans le codex de
l’institut
hellenique de Venise. Athents-Venice, 1966. Pl. XI.
13.
Galavaris. Op. cit. P. 15.
14.
Schmidt V.M. A legend and its image. The aerial flight of Alexandre the Great in
Medieval art. Groningen, 1995. P. 51-52.
15.
Schmidt. Op. cit. P. 65.
Иллюстрации
Илл. 29. Криптограмма на оборотной стороне серебряного блюда с изображением
полета Александра Македонского.