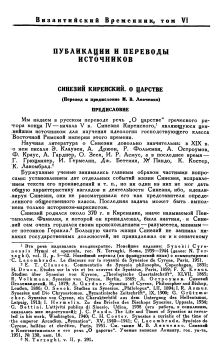 |
Публикации и переводы источников
Синезий Киренский. О царстве
Митрофан Васильевич Левченко (Перевод и предисловие)
Византийский Временник, том VI, 1953, с. 327-357
Сканове в .pdf формат (4.2 Мб) от www.vremennik.biz |
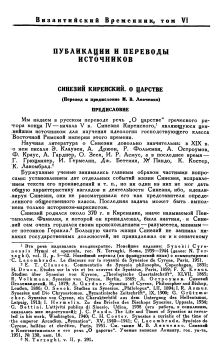 |
Публикации и переводы источников
Синезий Киренский. О царстве
Митрофан Васильевич Левченко (Перевод и предисловие)
Византийский Временник, том VI, 1953, с. 327-357
Сканове в .pdf формат (4.2 Мб) от www.vremennik.biz |
- Синезий Киренский. О царстве (Перевод с греческого М. В. Левченко)
Мы издаем в русском переводе речь „О царстве“ греческого ритора конца IV — начала V в. Синезия Киренского, [1] являющуюся ценнейшим источником для изучения идеологии господствующего класса Восточной Римской империи этого времени.
Научная литература о Синезии довольно значительна: в XIX в. о нем писали Э. Клаузен, А. Дрюон, Р. Фолькман, А. Остроумов, Ф. Краус, А. Гарднер, О. Зеек, И. Р. Асмус, а в последнее время — Г. Грюцмахер, И. Гермелин, Дж. Беттини, Х. Пандо, К. Костер, К. Лакомбрад. [2]
Буржуазные ученые занимались главным образом частными вопросами: установлением дат отдельных событий жизни Синезия, исправлением текста его произведений и т. п., но ни один из них не мог дать общую характеристику взглядов и деятельности Синезия, ибо, идеализируя Синезия, они не рассматривали его как представителя определенного общественного класса. Последняя задача может быть выполнена только историком-марксистом.
Синезий родился около 370 г. в Киренаике, иначе называемой Пентаполем. Фамилия, к которой он принадлежал, была знатная, и Синезий сам очень гордился своим происхождением — разумеется, мнимым — от потомков Геракла. [3] Большую часть жизни Синезий не занимал никаких государственных должностей, не принадлежал он и к сенатскому сословию,
1. Эта речь издавалась неоднократно. Новейшее издание: Synesii Cyrenensis Hymni et opuscula, rec. N. Terzaghi, Roma, 1939—1944 (далее: N. Terzaghi), vol. II, p. 5—62. Новейший перевод (на французский язык) с комментарием: С. Lacombrade. Le discours sur la royauté de Synésios de Cyrene, Paris, 1951.
2.
· E. T. Clausen. Commentatio de Synesio philosopho, Copenhagen, 1831;
· H. Druon. Etudes sur la vie et les oeuvres de Synésius, Paris, 1859;
· F. X. Kraus. Studien über Synesius von Kyrene, „Theologische Quartalschrift“, XLVII, 1865;
· R. Volkmann. Synésius von Cyrene, Berlin, 1869;
· А. Остроумов. Синезий Птолемаидский, Μ., 1879;
· Gardner. Synésius of Cyrene, Philosopher and Bishop, London, 1886;
· O. Seeck. Studien zu Synesius. „Philologus“, LII, 1894;
· R. Asmus. Synésius und Dio Chrysostomos. „Byzantinische Zeitschrift“, IX, 1900;
· G. Grützmacher. Synésius von Cyrene, ein Charakterbild aus dem Untergang des Hellenismus, Leipzig, 1913;
· Hermelin. Zu den Briefen des Bischops Synesius, Uppsala, 1934;
· G. Bettini. L’attivitá publica di Sinesio, Udina, 1938 (эта работа, к сожалению, оказалась мне недоступной);
· J. С. Pando. The Life and Times of Synesios as revealed in his work, Washington, 1940;
· H. Соster. Synesius a curialis of the time of the emperor Arcadius, „Byzantion“, XV, 1940—1941;
· Lacombrade. Synésios de Cyrene, hellène et chrétien, Paris, 1951.
См. также
· M. В. Левченко. Синезий в Константинополе и его речь „О царстве“. Ученые записки Ленингр. гос. ун-та, Л951, № 130, вып. 18.
3. N. Terzaghi, v. II, р. 291.
328
но его родовитость вместе с образованностью и способностями выдвинули его на одно из первых мест в Пентаполе. Курия Киренаики в 399 г. поручила посольство в Константинополь Синезию именно потому, что он был представителем знатнейшей фамилии Пентаполя. Синезий и в дальнейшем принимал самое живое участие в судьбах своей провинции. Он сохранил теснейшие связи с влиятельными людьми в столице и Александрии и оказывал значительное влияние на провинциальную администрацию. Наконец, этот провинциальный аристократ стал епископом, митрополитом, главой всех епископств Киренаики.
Произведения Синезия знакомят нас с жизнью восточноримского аристократа в деревне, с его хозяйственными занятиями, научными и литературными интересами, с его мировоззрением и общественной деятельностью. Они показывают, что Синезий не был одинок, что он выражал интересы определенной классовой группировки, ревностно отстаивавшей интересы рабовладельческой империи. Таким образом, изучение жизненного пути Синезия помогает нам уяснить вопрос о роли аристократии в судьбах Восточной Римской империи этого времени.
Синезий был воспитан в духе языческих традиций. Он получил блестящее образование под руководством известной Ипатии в александрийской неоплатонической философской школе, где преподаватели уделяли большое внимание точным наукам; в то же время александрийская школа не отличалась такой непримиримой враждебностью к христианству, как школа афинская. [1]
Синезий явился в Александрию около 394 г., вскоре после возмущения язычников в 391 г., [2] за которым последовали жестокие репрессии. Несомненно Ипатия, которой было в это время около 20 лет, не принимала никакого участия в александрийском восстании, хотя в нем, по свидетельству Сократа, участвовали многие философы. [3] Но если Ипатия и не была замешана в восстании 391 г. и сохранила возможность продолжать свои занятия, все же в руководимой ею школе были недовольны создавшимися порядками, правительственной политикой Феодосия I, хозяйничаньем готов при дворе императора, преследованиями языческих философов и погромом в Александрии, который учинил епископ Феофил. По крайней мере, Синезий постоянно жалуется, что истинные философы в его время не пользовались никаким уважением ни у правительства, ни у общества. Между тем, по его мнению, государство можно было возродить только на основе философии.
Под руководством Ипатии Синезий основательно изучил философию и приобрел обширные математические и астрономические познания, самостоятельно занимаясь усовершенствованием физических и астрономических приборов. [4]
В Александрии Синезий усвоил неоплатонизм, — идеалистическое учение, придававшее большое значение мистике, отвлекавшее человека от действительности, заставлявшее его искать в самоуглублении мнимое утешение и забвение земных бед. У Синезия, как у типичного представителя аристократии, уже в ранние годы ярко проявляется высокомерное отношение к народным массам. Он всегда подчеркивает, что наука и образование должны быть достоянием аристократии.
1. W. von Christ. Geschichte der Griechischen Literatur, Bd. II, München, 1913, S. 863.
2. Sozomenus. Hist. ecclesiastica, VII, 15; Socratus. Hist. ecclesiastica, V, 16.
3. Socratus. Ук. соч., V, 16.
4. H. Druon. Ук. соч., стр. 234, 264; С. Lacombrade. Synesios de Cyrene, p. 42 sq.
329
Философия, с его точки зрения, должна была быть уделом избранных (ер. 143), тогда как массам оставалось довольствоваться крохами знаний. Отвергая народные верования, к числу которых он относил и христианство, Синезий, однако, считал, что не следует разрушать эти „ложные верования“, так как для масс необходимы иллюзии (ер. 105).
Закончив свое образование в Александрии и посетив Афины и Антиохию, Синезий жил некоторое время в своем родном городе. Затем аристократия Пентаполя направила его к императору в Константинополь просить об облегчении податей и защите от „варваров“. Он охотно принял предложенное ему поручение, так как посольство в Константинополь предоставляло ему возможность заняться общественной деятельностью.
По поводу времени пребывания Синезия в Константинополе в научной литературе существуют большие разногласия. Дело в том, что Синезий, по его собственному свидетельству, пробыл в императорской резиденции три года (ἐνιαυτοὺς τρεῖς). [1] Далее, в письме к своему другу Пилемену (ер. 61) он рассказывает, что когда в Константинополе началось землетрясение, он поспешно оставил город, не успев попрощаться со своим другом консулом Аврелианом. Так как Аврелиан был консулом в 400 г., то большинство исследователей XIX в. приурочивало отъезд Синезия к этому году и его прибытие в Константинополь относило к 397 г.
Эта точка зрения была отвергнута О. Зееком, который обратил внимание на следующее обстоятельство. Синезий в сочинении „О провидении“ говорит о своем присутствии в столице во время уничтожения готского войска, триумфального возвращения Аврелиана и низложения префекта претория Кесария. [2]
„Тогда показалось и чужестранцу (под чужестранцем Синезий подразумевает себя. — Μ. Л.) блаженным то, что ему раньше было тягостным, и он больше не жаловался на принудительное пребывание [вдали от родины], во время которого он был очевидцем явления божества“. [3]
Таким образом, Синезий несомненно был в Константинополе во время префектуры Кесария и являлся свидетелем его низложения в 402 г. Так как, сверх того, хроника Марцеллина приурочивает к 402 г. сильное землетрясение в Константинополе, то мы должны присоединиться к датировке Зеека и отнести время пребывания Синезия в Константинополе к 399—402 гг. [4]
Когда Синезий в 399 г. появился в Константинополе, чтобы добиться облегчения налогов для Киренаики, положение было крайне напряженным— Восточная римская империя стояла перед угрозой революции рабов. Народные массы во Фракии, сыгравшие активнейшую роль в адрианопольской катастрофе 378 г., были готовы в любую минуту выступить против рабовладельцев.
В Константинополе Синезий попал в бурный водоворот политических смут и волнений. В течение длительного времени Синезий дожидался удобного случая, чтобы представиться императору Аркадию. Самому Синезию в это время пришлось пережить немало затруднений. Впоследствии он вспоминал о своем пребывании в Константинополе, как о самом тяжелом времени своей жизни. [5]
1. Ν. Terzaghi, v. II, р. 175.
2. Там же, т. II, стр. 120.
3. Там же, стр. 108.
4. О. Seeck. Ук. соч., стр. 442—458; ср. его же. Arkadios — in Pauly-Wissowa Realencyclopädie, Bd. II, 1896. Sp. 1144—1151.
5. N. Terzaghi, v. I, p. 19.
330
Но как в Александрии, так и в Константинополе Синезий скоро нашел друзей. Киренский аристократ, ученик знаменитой Ипатии, он скоро стал своим человеком во влиятельном в столице литературном и научном кружке — панэлленионе, главой которого был философ и софист Троил. [1] Кружок этот объединял представителей константинопольской знати, интересовавшихся литературой и наукой. Здесь устраивались дискуссии на литературные и философские темы, читались и обсуждались литературные произведения. В то время считалось хорошим тоном, чтобы высшие чиновники интересовались или делали вид, что интересуются, литературой. Поэтому в кружок входили многие влиятельные лица. Членом этого кружка был и префект претория Аврелиан. Синезий сблизился с ним, надеясь при его помощи добиться осуществления цели своей миссии. То, что Синезий пользовался покровительством Аврелиана, подчеркивает он сам в сочинении „О провидении“, уподобляя Аврелиана Осирису и выставляя его образцом государственного деятеля.
Очевидно, только при содействии Аврелиана Синезий смог получить аудиенцию у императора, чтобы в своей знаменитой речи „О царстве“ изложить перед ним нужды родного города. Это произошло во второй половине 399 г., во всяком случае до падения Аврелиана (конец 399 г.). [2]
Можно думать, что Синезий произнес свою речь перед большим собранием, быть может — перед сенатом. Подобные речи у большинства риторов и софистов состояли из двух частей: в первой они изображали идеал императора, а во второй — чертами идеального императора ритор наделял того государя, к которому он обращался. Все подобные речи обычно весьма однообразны, полны грубой лести.
Синезий отказывается от подобных образцов. Обращаясь к императору, он как бы совершенно забывает о главной цели посольства, о частных интересах Киренаики, и затрагивает положение дел во всей империи, выдвигая в своей речи, таким образом, более широкие планы, чем те, какие можно и должно было ожидать от представителя провинциальной курии. О Кирене и о цели своего посольства он говорит только в начале речи при поднесении императору золотой короны, обыкновенного подарка в подобных случаях. Основная цель его речи — указать средства, которые, с его точки зрения, могут предотвратить крушение рабовладельческой империи.
Ошибочно видеть в Синезии, как делает это большинство буржуазных ученых, непрактичного идеалиста, которому недоставало политической проницательности и политического опыта. Речь „О царстве“ смела и продуманна. Синезий, несмотря на всю „свободу“ своей критики, умеет и молчать, где нужно. Так, вынужденные необходимостью мероприятия Феодосия по отношению к готам, которые для Синезия являются первопричиной всех зол, объясняются в речи милосердием и великодушием этого императора. Зная благочестивую настроенность Аркадия, оратор много раз подчеркивает, что благочестие является основой государства.
Но в то же время он негодует на трудность доступа к императору, на придворный этикет, который кажется Синезию заимствованным от „варваров“. Все это, по мнению Синезия, не дает императору возможности узнать жизнь и людей. Придворных императора Синезий, не стесняясь, называет шутами.
1. C. Lacombrade. Ук. соч., стр. 128.
2. R. Volkmann. Ук. соч., стр. 26.
331
Эти шуты и евнухи своей болтовней и интригами держат ум императора как бы в тумане и отдаляют его от общения с умными людьми. В другом месте по поводу недоступности императоров Синезий желчно замечает, что они скрываются в глубине своих дворцов подобно ящерицам, убегающим от света в свои норы, чтобы люди не видели, что и они такие же люди, как и все прочие.
Не менее резко Синезий обрушивается на роскошь императора и его вельмож. Недовольный роскошью и замкнутостью императоров, Синезий возмущается и той обстановкой, в которой императоры обыкновенно появлялись перед народом. Он негодует на множество телохранителей, окружающих императора и составляющих, по его выражению, „в войске новое войско“.
Совершенно очевидно, что подобная речь могла быть произнесена перед императором только в том случае, если оратор чувствовал себя не одиноким, если он ощущал за собой поддержку влиятельной и могущественной группировки, глашатаем которой он выступал в данном случае. Несомненно, что оратор из Кирены в своей речи являлся выразителем интересов сторонников Аврелиана.
Синезий проявляет в своей речи известную дальновидность. Он как бы предвидит событие, потрясшее через десять лет всю Европу, а именно захват готами под предводительством Алариха „вечного города“ Рима и оккупацию „варварами“ западноримских провинций. Для него совершенно ясно, что рабовладельческая империя находится на краю гибели. Он подчеркивает:
„Все мы теперь помещены на тончайшем острие ножа. Дело бога и императора устранить эту угрозу Римской империи, которая уже обозначилась и может проявиться во всей своей страшной силе“.
Оратор правильно определяет и причину нависшей над империей опасности. Синезий понимает, что внедрившиеся в империю вооруженные „варвары“, объединившись с восставшими рабами — такими же „варварами“, — угрожают империи и рабовладельцам настоящей катастрофой. Поэтому свою речь Синезий направляет против готов. Он восстает против заполнения римской армии „скифами“ и против допущения этих „варваров“ к военным и гражданским должностям. Поступок Феодосия I, навербовавшего 40 тысяч готов-федератов во главе с их собственными вождями в состав армии Восточной Римской империи, Синезий считает в высшей степени неосмотрительным. Включать „варваров“ в войско, допускать их к государственным должностям, по мнению Синезия, все равно, что помещать хищных волков в стадо овец.
Ссылаясь на исторические примеры, оратор угрожает своим слушателям возмущением рабов; со страхом вспоминает он о восстании рабов под руководством Крикса и Спартака. В своей речи он выступает откровенным защитником рабовладельцев. Подобно Платону и Аристотелю, Синезий не сомневается в том, что сама природа создала „варваров“ рабами римлян и греков. Он считает рабов особой породой людей, предназначенной к подчинению, рассматривает их как часть имущества, как своеобразный источник материальных благ для лиц, созидающих высшие ценности. У него нет и тени сомнения в справедливости рабства. Он только удивляется, как в Римской империи „скифы“ могут быть одновременно рабами частных лиц и господами государства.
Синезий требует, чтобы „варвары“ были лишены права занимать высшие правительственные должности. По мнению Синезия, их следует отстранить от военной и гражданской службы, силой римского оружия изгнать их из пределов империи или же, разоружив, заставить обрабатывать землю в качестве колонов.
332
В своем отношении к „варварам“ Синезий коренным образом расходится с Фемистием, который в речи „О мире“ оправдывал готофильскую политику императора Феодосия. Фемистий утверждал, что существует коренное различие между современными ему римскими императорами и ранее жившими государями, ибо в прошлом каждый царь был правителем одного народа: так, Кира, по его мнению, можно назвать φιλοπέρσης, Алексадра Македонского φιλομακέδων, Августа — φιλορώμανος. Но, продолжает Фемистий, кто хочет быть истинным царем, тот должен заботиться о всех народах без исключения и быть φιλάνθρωπος. [1] Эта речь оправдывает политику Феодосия громкими фразами о мировом значении Римской империи. Фемистий высказывает мысль, что император должен щадить своих врагов. Более того, по его мнению, готы в качестве союзников могут быть полезны самой империи.
Синезий решительно протестует против этих пагубных иллюзий. Он утверждает, что военные должности должны стать почетными и на них следует назначать исключительно римских граждан.
„В семействах, как и в государствах, на мужчине лежит обязанность защиты от внешней опасности, а на женщинах бремя домашних работ.“
„Что касается меня, — говорит автор, — то если бы даже [варвары] принесли нам славные победы, мне было бы стыдно принимать от них такую услугу“.
Требуя очищения римской армии от „варваров“, Синезий настаивает на расширении круга лиц, привлекаемых к службе в войске. В армию должны быть призываемы не только плебеи и земледельцы. Все без различия звания и состояния должны защищать отечество.
„Вместо того, чтобы дозволять скифам носить оружие, нужно требовать от нашего земледелия людей, которые привыкли им заниматься, которые готовы защищать родину. Нужно для этого исторгнуть философа из школы, ремесленника из мастерской, торговца из лавки. Призовем далее шумящую и праздную чернь, проводящую время в театрах, пока есть еще время — если она не хочет скоро перейти от смеха к плачу — и пока еще нет никакого препятствия римлянам иметь свою отечественную армию“.
Таким образом, Синезий считает возможным в условиях Восточной Римской империи привлечение широких слоев населения в войско. Это показывает, что хотя Восточная империя, подобно Западной, представляла в то время „...гигантскую сложную машину исключительно для высасывания соков из подданных“ [2] (собранные в сочинениях Синезия многочисленные факты прекрасно иллюстрируют это определение Энгельса), все же восточноримские рабовладельцы чувствовали себя более прочно, чем их собратья на Западе. Это объясняет нам, почему предложения Синезия не показались слушателям абсурдом, почему он мог мечтать о возвращении „доброго старого времени“, когда Рим наводил страх на „варваров“, когда он господствовал над миром и все ему покорялись.
Обращаясь со своими предложениями к Аркадию, Синезий, повидимому, полагал, что достаточно императору захотеть осуществить начертанный им идеал, как дела империи примут другой оборот.
Впрочем, действительно ли речь Синезия содержала программу политических реформ? Некоторые биографы Синезия считали эту речь выдающимся образцом риторского искусства того времени, указывая,
1. Thеmistii Orationes, ed. L. Dindorf, 1832, p. 58.
2. Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства, Госполитиздат, 1950, стр. 153.
333
вместе с тем, что его советы и наставления носят слишком общий, отвлеченный характер, являются своего рода риторическими упражнениями на данную тему.
И. Асмус даже доказывал, что все содержание речи Синезия заимствовано у греческого ритора конца I — начала II в. Диона из Прусы, [1] но это, конечно, неверно. Бесспорно, что Синезий почерпнул у Диона ряд мыслей и образов, что мораль Диона и отношение к жизни в известной мере близки Синезию, который, в свою очередь, нередко оперирует образами и понятиями платоновской философии. Можно указать далее, что Дион раньше Синезия ставил и по-своему разрешал тему об отношениях государства и философа, [2] о роли философа, как советчика, что Дион раньше Синезия определил понятие тирана [3].
Синезий изучал не только Диона из Прусы. Известное влияние на него оказали и речи Фемистия. Однако между Синезием и его предшественниками существует коренное различие: при рассмотрении речей Диона и Фемистия мы легко установим, что они разбирали вопросы, завещанные античной философией и риторикой. Современные им политические отношения крайне поверхностно отражены в их речах, которые в значительной мере посвящены риторическим упражнениям. В отличие от них Синезий затрагивает животрепещущие вопросы, интересовавшие современное ему общество, останавливается главным образом на тех проблемах, которые подсказывались положением государства в данное время. Конечно, при рассмотрении злободневных политических вопросов он нередко пользуется традиционными образами и оборотами речи, но не разработка и систематизация представлений античных философов о государстве, а решение практических проблем представляется ему наиболее существенным. В этом его отличие от Диона и Фемистия.
Иными словами, если Фемистий и Дион — прежде всего философы и риторы, то Синезий выступает как политический деятель, излагающий свои политические взгляды, как откровенный идеолог верхушки рабовладельческого класса.
Поэтому для понимания общественной борьбы того времени одна речь Синезия дает гораздо больше, чем все речи Фемистия. И если Синезий многим обязан и античной и позднейшей греческой литературе, то он не просто повторяет прочитанное. Мы встречаем у него традиционные термины и понятия, но он привлекает эти понятия и термины как материал для обсуждения занимавшего его вопроса, выдвинутого самой жизнью.
Не приходится отрицать, что известное влияние на политические идеи Синезия оказали Платон, Дион из Прусы и Фемистий. Из идеалистической философии Платона Синезий почерпнул, повидимому, представление об исключительной роли философии для государства; оттуда же он заимствовал и образ царя-философа, а также ряд понятий: определение тирана как врага закона, параллели между государством и душой, сравнение солдат со сторожевыми псами и др.
Влияние Диона также сказалось во внешней форме сочинения, в стиле, в подборе слов и терминов. [4]
1. I. R. Asmus. Synesius und Dio Chrysostomus, „Byzantinische Zeitschrift“, XI, 1906, p. 85—151.
2. B. E. Вальденберг. Политические идеи Диона Хрисостома. Л., 1927, стр. 1539.
3. Там же, стр. 1549.
4. I. R. Asmus. Ук. соч., стр. 91, 148.
334
Но если от формы обратиться к содержанию, к идеям, то можно увидеть, что ничего характерного для Диона, ничего такого, в чем Дион является самостоятельным к значительным, Синезий у него не взял. Можно указать ряд тем, которые сходным образом трактуются обоими писателями: значение друзей для царя, сравнение царства с тиранией и в связи с этим отдельные черты в характеристике царя и тирана, отношение царя к воинам, сравнение царя с пастухом и т. д. Но многие из этих тем Синезий мог самостоятельно найти у Платона, Аристотеля и других авторов, а некоторые из них после Диона развивал Фемистий в многочисленных речах.
Для нас гораздо более важны, чем эти литературные традиции, политические идеи Синезия, в которых он совершенно самостоятелен. Его теория очищения римского государства от „варваров“ продиктована политическими интересами класса рабовладельцев. В то же время Синезий коренным образом отличается от греческих мыслителей античности, эпигонов Аристотеля, в том числе и Диона, своим отношением к государству. Известно, что утрата независимости и подчинение чужеземцу римскому игу заставили идеологов греческой аристократии выступить с осуждением государства как такового. Греческие философы осмысляли свое враждебное отношение к чуждой государственной власти в форме осуждения всякого государства. [1]
У Синезия отношение к государству меняется коренным образом. Резко расходясь с Дионом, этот греческий философ оказывается защитником Римской империи. Дион весьма определенно выражает свое отрицательное отношение к существующему государству, дает его суровую критику. Однако мы не находим у него изображения того, как государство, с его точки зрения, должно быть построено. Повидимому, он считал реформы делом безнадежным и ненужным. Синезий также резко критикует существующие порядки Римской империи, но он критикует их с целью спасти империю от угрожающей ей гибели; он требует именно с этой целью немедленных, неотложных реформ, которые он считал реально осуществимыми в данных политических условиях. Забота о сохранении Римского рабовладельческого государства (τὰ Ῥωμαίων πράγματα) стоит у него на первом месте. Синезий хочет видеть империю восстановленной в ее былой славе и могуществе. И он, и те круги, которые инспирировали его речь, обнаруживают значительную дальновидность, проявившуюся в умении подметить то главное и существенное, мимо чего равнодушно проходили тысячи современников.
Ф. И. Успенский, характеризуя речь Синезия „О царстве“, подчеркивает, что она полностью отвечала „нуждам и потребностям греческого народа того времени“. [2] Мы, конечно, не можем с этим согласиться; на самом деле, она отвечала нуждам и потребностям аристократов — рабовладельцев Восточной Римской империи, к числу которых принадлежал Синезий и интересы которых он защищал в первую очередь. Синезий предстает перед нами как представитель рабовладельческого класса, как ярый реакционер, который отстаивал старые порядки; те реформы, которых он требовал, были нацелены на сохранение рабовладельческой империи.
1. Dionis Opera, ed. H. v. Arnim, 1893, vol. 1—2, Berlin, 1893—1896, or. 4 Διογένης περὶ τυραννίδος; or. 7 Διογένης ἢ περὶ ἀρετῆς; В. Ε. Вальденберг. Политическая философия Диона Хрисостома, Изв. АН СССР, 1926, стр. 968.
2. Сборник отчетов о премиях и наградах за 1912 г., СПб·, 1913, стр. 109—110.
335
Он отстаивал рабство, оправдывая его мнимой неполноценностью значительной части человечества (так называемых „варваров“), он откровенно считал науки и образованность достоянием аристократии. Синезий был политический деятель, который ревностно защищал эксплуататорские порядки Римской империи.
Мечтая о возрождении римской славы, презирая трудящиеся массы, Синезий был, разумеется, бессилен указать выход из кризиса. Но важно отметить то обстоятельство, что в конце IV в. горячими римскими „патриотами“ оказываются греческие архонты, греческая родовитая знать, представителем которой в данном случае и выступает Синезий. Необходимо также признать, что эта знать с бóльшим рвением и искусством защищала римские рабовладельческие порядки на Востоке, чем это делали римские магнаты Запада. Об этом свидетельствует и дальнейшая история пребывания Синезия в Константинополе. [1]
Подробнейший рассказ Синезия о драматических событиях 400 г. в сочинении „О провидении“ исправляет показания других источников и дополняет их такими деталями, какие мог дать только очевидец. Синезий рассказывает, как Гайна и готы внезапно ночью были охвачены страхом пред безоружным населением Константинополя, как они бежали из города, увозя своих жен и детей. Многие впали в такое отчаяние, что запирались в домах, ожидая пожара, другие бросались на суда и мечтали спастись на островах, в деревнях или убежать в отдаленные города, так как любое место казалось им безопаснее императорской резиденции. [2] Синезий очень драматично вписывает столкновение у городских ворот в ночь с 11 на 12 июля 400 г., переросшее в настоящее сражение. Одна старуха, живущая подаянием, заметила, что готы увозят ценности и, бросив чашку, в которую собирала милостыню, с плачем стала проклинать готов, полагая, что они замышляют погубить город. Гот, услышавший ее проклятия, хотел мечом разрубить ей голову, но был убит на месте подоспевшим на помощь константинопольцем. [3] Сбежался народ и завязалась ожесточенная драка. Жителям города после жестокой борьбы удалось захватить ворота и закрыть их. Значительная часть готов осталась запертой в городе.
Рассказ Синезия об истреблении оставшихся в городе „варваров“ проникнут такой же ненавистью к ним, как и сообщения Сократа, Созомена и Зосима. Синезий описывает, как готы, нашедшие убежище в храме, все были там сожжены, несмотря на просьбы их защитника Кесария. [4]
После истребления готов в Константинополе переговоры, начатые с Гайной, не могли быть, конечно, успешны. Префект претории Кесарий, правда, и теперь не терял надежды вернуть Гайну. Но народ требовал возвращения Аврелиана и враждебных готам сановников. Дворец был окружен многочисленными толпами, которые совершали благодарственные молебствия по поводу случившегося и настоятельно требовали возвращения изгнанников. Аркадий обещал возвратить Аврелиана и других изгнанников, но Кесарий еще некоторое время оставался у власти. Гайна начал открытую войну, но готы были разъединены. Гот Фравитта, откровенный приверженец язычества, был облечен высшей воинской властью.
1. Подробности см. М. В. Левченко. Синезий в Константинополе и его речь „О царстве“, стр. 242—246.
2. N. Terzaghi, v. II, p. 111.
3. Там же, стр. 112 и сл.
4. Там же, стр. 118.
336
Ему удалось уничтожить войско Гайны при попытке переправиться через Геллеспонт. Согласно Зосиму, Гайна бежал за Дунай, но был здесь убит гуннским вождем Ульдисом 23 декабря 400 г. Что касается западных готов, находившихся в Иллирике под предводительством Алариха, то они уже наметили себе более безопасное место жительства в западной части империи.
Таким образом, в самом начале V в. Восточной римской империи удалось сохранить свою независимость и разгромить готов, в то время как Западная империя через несколько десятилетий пала под ударами восстаний рабов и вторжений „варваров“.
Позиции рабовладельцев оказались на Востоке более прочными, чем на Западе. И на Востоке, и на Западе процесс развития общественных отношений неизбежно приводил к известной децентрализации, росту самостоятельности отдельных земельных магнатов, однако в Восточной империи оказались налицо факторы, затормозившие этот процесс. Крупное имение не превратилось здесь в самодовлеющий хозяйственный организм, не связанный с городом, чуждый рыночных отношений. Оно оставалось втянутым в торговый оборот, так как крупные города с десятками и сотнями тысяч жителей нуждались в значительных массах сельскохозяйственных продуктов. Но крупные землевладельцы на Востоке были заинтересованы в сохранении рабовладельческого государства не только потому, что они нуждались в охране своих торговых интересов. Напуганные революционным движением рабов и колонов, повлекшим за собой адрианопольскую катастрофу 378 г., крупные землевладельцы на Востоке в основной своей массе сознавали необходимость сплочения вокруг императорской власти и сохранения централизованного государства.
Точно так же византийские купцы и ростовщики были заинтересованы в сохранении рабовладельческого государства, которое было необходимо им для охраны торговых путей и завоевания новых рынков, которое обеспечивало им огромные прибыли.
Поэтому рабовладельцы в Константинополе, активным идеологом которых являлся Синезий, оказались достаточно сильны, чтобы разжечь религиозный фанатизм масс и натравить их на „варваров“ — готов.
События в Константинополе имели отклик и в Риме, выразившийся в перевороте 408 г. и падении Стилихона. Но на Западе соотношение сил оказалось иным, и попытка ликвидировать господство „варварской“ знати только ускорила крах империи.
С возвращением Аврелиана Синезий мог закончить свои дела и отправиться на родину. Однако ему не пришлось дождаться окончательного решения своего дела. Он так и не получил необходимую грамоту, закреплявшую исходатайствованное им облегчение от податей, потому что одно случайное обстоятельство ускорило его отъезд из Константинополя. Константинопольское землетрясение в 402 г. заставило Синезия покинуть столицу раньше, чем он предполагал.
В нашу задачу сейчас не входит следить за дальнейшим жизненным путем Синезия и его общественной деятельностью, но уже из изложенного видно, что рассуждения буржуазных историков об утопичности и неосуществимости проектов Синезия нужно признать слишком упрощенными. Конечно, стремление Синезия возродить при помощи философии „древние славные времена“ римской рабовладельческой империи было неосуществимым, так как разложение рабовладельческого общества зашло и на Востоке достаточно далеко. Но из этого все же нельзя делать вывод, что деятельность Синезия была целиком утопична и безрезультатна.
337
Силы рабовладельцев на Востоке оказались более значительными, чем на Западе. Синезий мог видеть ослабление кризиса, угрожавшего самому существованию империи, в связи с ликвидацией готского засилья в Константинополе и в войске Восточной империи. В речи Синезия „О царстве“ ярко отразилось его мировоззрение как представителя определенного класса — греческой рабовладельческой аристократии, которая в страхе перед революционным движением рабов в конце IV в. стремилась укрепить римское государство.
(Перевод с греческого М· В. Левченко)
1. Нужно ли при входе сюда опускать глаза тому, кто послан не от богатого и могущественного города и не принес с собой робких и льстивых речей, рабских произведений риторики и поэзии? Будет ли он осужден на молчание в этом дворце, если ему не покровительствует слава его отечества, если он не может прелестями своей речи доставить удовольствие императору и его советникам? Вот появилась [перед вами] философия, но охотно ли примете вы ее? Когда она является после долгого отсутствия, кто может отказаться ее признать, кто откажет ей в гостеприимстве, ею заслуженном?
Если она нисходит к вам, то не для себя, а для вас, так как вы не можете к ней отнестись с презрением без вреда для самих себя. В речи, которую она будет пред вами держать, не будет места желанию нравиться: она не домогается того, чтобы обольщать сердца выражениями пустыми и мимолетными, выставляя напоказ украшения людского красноречия. Напротив, тем, которые ее принимают, она, серьезная и вдохновенная божеством, влагает в уста достойную и мужественную речь, не домогающуюся того, чтобы низкой лестью снискать благосклонность вельмож. В своей суровой свободе, чужая в царском дворце, она не входит сюда, чтобы расточать наудачу и по всякому поводу похвалы императору и императорскому двору. Это для нее не нужно. Она хочет не только несколько взволновать умы, но поразить их с силой и, поражая, исправлять. Императоры должны с большим почтением принимать речь свободную и независимую.
2. Похвала обольстительна, но пагубна. Она подобна ядовитому питью, смешанному с медом, которое предназначается осужденным на смерть. Разве тебе неизвестно, что мастерство повара, вызывающее у нас искусственный аппетит изысканными блюдами и слишком утонченными приправами, вредит нашему здоровью, тогда как медицина и гимнастика ценою недолгих лишений укрепляют тело? Я хочу быть в числе тех, которые несут здоровье, хотя бы с риском возбудить твой гнев. Ибо как острота и горечь соли препятствует разложению мяса, так истина в речи оздоровляет дух юного императора, готового заблудиться вследствие произвола его власти. Итак, выслушайте терпеливо этот новый и еще не употребляемый род речи; не обвиняйте ее за дерзость; не обрекайте прежде, чем она начнется, на молчание за то, что она не старается понравиться, но вместо того, чтобы льстить молодым людям, сообщает им суровые правила и серьезные наставления.
338
Если вы сумеете вынести ее присутствие, если похвалы, которые вы привыкли слушать, не испортили ваш слух, то
„это — действительно я перед вами“. [1]
3. Меня послала к тебе Кирена увенчать твою голову золотою короной, а твою душу — философией; Кирена, город греческий, имя древнее и почтенное, некогда предмет воспевания тысячи поэтов, теперь же бедная и опустошенная, груда развалин, просящая императора, чтобы он сделал что-либо, достойное ее древнего происхождения. Ты можешь облегчить ее страдания, если только захочешь, и от твоей воли зависит, чтобы со временем я снова явился к тебе, представив другую корону от имени моего отечества, уже счастливого и цветущего. Но теперь, каково бы ни было настоящее положение моей страны, я имею право говорить свободно пред императором, ибо истина составляет главное достоинство речи, а родина оратора не делает его речь лучше или хуже.
Итак, начнем с божьей помощью и приступим к ответственнейшей из речей или, вернее сказать, из трудов. Заботящийся о том, чтобы один единственный человек — император был наилучшим, должен кратко коснуться всего, что поневоле затрагивает душу императора,—как восстановить все дома, все города, все народы, большие и малые, соседние и отдаленные. Согласись только, чтобы мы прежде всего условились в том, что ты выслушаешь мою речь. Разумно не вспугивать зверя преждевременно. Скажем, что должно делать императору и чего не должно, противополагая честное бесчестному. Ты же, рассмотрев то и другое, поймешь, что тебе надлежит [делать] и возлюбишь благо, ибо его одобрила философия, а зло отвергнешь; таким образом, стремись первое всегда делать, а другого впредь не допускать. Поэтому во время [моей] речи при перечислении того, что не должно делать, и в чем вместе со мной и ты сам сознаешь за собой вину, ты негодуй и красней за себя, за то, что тот или другой недостаток свойственен тебе. Эта краска стыда обещает добродетель раскаяния, и этот стыд является божественным и таким представляется Гесиоду. [2] Тот же, кто упорствует в ошибках и стыдится сознаться в невежестве, не получает пользы от раскаяния и нуждается не в целительных речах, [3] но, как говорит мудрый муж, — в наказании. Итак, философия с самого начала представляется суровой и тягостной.
4. Я вижу, что некоторые из вас уже смущаются и считают недопустимой такую свободу речи, но, с одной стороны, разве я не обещал именно так выступать, и вы, зная это заранее, должны были держаться стойко и противостоять нападению, да и тебе это приятно слушать [ведь] все [тебя так] прославляют. И я соглашаюсь, что такой обширной власти, как у тебя, нет ни у кого другого: у тебя собраны груды богатств, превышающие [богатства] Дария; [у тебя есть] многие мириады всадников, воины, используемые в качестве стрелков и панцырные [в таком количестве], что если бы они имели вождя, то против них было бы бесполезно всякое сопротивление. Тебе поклоняются превышающие всякое число города, которых большую часть ты не видел, и они не надеются, чтобы ты когда-либо их увидел.
1. Гомер. Одиссея, XXI, 207. Слова Одиссея, который открывается своим верным рабам.
2. Ср. Гесиод. Труды и дни, стк. 197—200.
3. λόγων ἰατρῶν. Ср. „Больной души врачи — советы добрые“ — Эсхил. Прометей, стк. 378.
339
Все это и мы лучше всякого другого назовем истиной. Но в чем я не соглашаюсь с другими? Они это ставят тебе в заслугу и называют тебя счастливым. Я же меньше всего ставил бы это в заслугу, а подчеркивал бы больше всего твое счастье. Это не одно и то же, но совершенно различны счастье и заслуги. Ибо считают счастливым за нечто внешнее, восхваляют же за внутренние достоинства, которыми закрепляется счастье. Одно даруется судьбой независимо от достоинств человека, другое — самостоятельно приобретенное благо души. Поэтому одно само по себе является прочным; внешнее же счастье скоропроходяще и изменчиво и часто обращается в свою противоположность. И для сохранения его нужна помощь божества, нужен ум, нужно искусство и время, нужны многие деяния, обширные и разнообразные, которые не испытаны никаким опытом и не легки для тех, кто испытывается. Счастье легко может выпасть на долю людей, но оно не сохраняется без труда. Ты видишь, какие жизни являются предметом театральных трагедий. [1] Терпят несчастья не только плебеи и бедняки, но и лица могущественные, владетельные особы и тираны. Ведь маленький дом не рушится в момент великого несчастья, и бедность выдерживает тяжесть невзгод, но чем могущественнее человек, тем чувствительнее для него опасность и измена счастья. Однако весьма часто добродетель предшествует счастью, и прекрасные достоинства доставляют людям счастье, как если бы судьба стыдилась воздать честь очевидным достоинствам. Не нужно ходить далеко, чтобы подкрепить это примерами. Вспомни отца и увидишь, что власть ему была дана в награду за добродетель. Счастье не является причиной добродетели, но зато некоторые своими доблестными деяниями приобретали счастье. Пусть, император, и тебя причислят к таким [людям], чтобы не напрасно философия здесь произносила речь. Пусть правление будет тем для тебя важно, что оно упражняет и возвышает в добродетели, которая порождает нужду в вещах, достойных твоего величия и не допускает образа жизни, не соответствующего императорскому.
5. Нужно стремиться к тому, чтобы душа стала царственной, нужно защищать счастье, чтобы его не упрекали в непоследовательности, так как начало твоей жизни было куда счастливее, чем у отца. [2] Тому военная слава принесла императорскую власть, — тебя же императорское достоинство побуждает к военным подвигам, и ты обязан величием счастью. Он завоевал блага трудом, — ты же их без труда получил в наследство. И все-таки нужно трудиться, чтобы [их] сохранить. И это, как я уже раньше сказал, трудно и требует тысячи глаз, чтобы счастье, как это часто бывает, не свернуло на средине пути подобно коварным спутникам; ведь с ними мудрецы сравнивают счастье за его непостоянство. Разве ты не видишь, что даже отца [хотя очевидно, что он за славные свои подвиги был провозглашен императором] зависть и на старости не оставила без трудов, так же как и бог не оставил без увенчания. Но он должен был выступать в поход против двух тиранов [3] и, победив обоих, он умер во время триумфа над вторым, [4] уступив не кому-либо из людей, а природе, против которой бессильны и храбрость оружия и хитрость ума.
1. Cp. Diоnis Opera, XIII, 2.
2. ὠς οὐχ ομοίοις φροιμίοις σοί τε καὶ τῷ πατρὶ προῆλθεν ο βίος — буквально: так как неодинаково начиналась жизнь твоя и [твоего] отца.
3. Синезий имеет в виду походы Феодосия против Максима в августе 388 г. и Евгения в сентябре 394 г.
4. Феодосий I умер 17 января 395 г.
340
Но доблесть он унес в могилу, оставив вам в наследство прочную императорскую власть. Пусть же для вас сохранит ее добродетель, а через добродетель сохранит сам бог. И если везде необходима божья помощь, то в особенности тем, которые получили счастье не собственными трудами, борьбою и искусством, но, как вы, по наследству. Тот, кого больше всего одарил бог и кому дал возможность еще совершенным мальчиком называться великим императором, тому необходимо переносить всякий труд, воздерживаться от всяких жизненных удобств, отказывать себе в сне, принимать на себя бремя великих забот, [1] если только он хочет быть достойным имени императора.
Хорошо старое изречение, что не количество подданных делает императором, а не тираном, точно так же как количество овец не делает пастухом мясника, который гонит их на бойню, чтобы не только утолить свой голод, но и другим продать на обед.
6. Этим-то, полагаю, отличается император от тирана, пусть даже судьба у них одинакова. И как тот, так и другой господствуют над множеством людей. Тот, кто соединяет свои интересы с благом подданных, кто готов страдать, чтобы оградить их от страданий, кто подвергается за них опасности, лишь бы только они жили в мире и безопасности, кто бодрствует днем и ночью, чтобы им не было причинено никакого вреда, тот — пастух для овец, государь для людей. Но кто пользуется властью неумеренно, употребляет ее на удовольствия и забавы, думая, что она должна служить к удовлетворению всех его страстей, кто считает выгодным начальствовать над многими, если они служат его прихотям, кто, коротко говоря, хочет не стадо кормить, но самому от стада кормиться, того я назову мясником для скота, того я назову тираном, если он начальствует над разумными людьми. Вот тебе единственная возможная норма царственного поведения. Ты подвергни самого себя проверке; если будешь соответствовать этой [норме], то справедливо должен присвоить себе почетный титул почетного дела; если же окажешься не соответствующим ей, то должен постараться устранить несоответствующее и приспособиться к [этой] норме. Я считаю, что юность способна на всякие подвиги, лишь бы кто-нибудь ее побудил к подражанию добродетели. Ибо юность способна к любым сильным увлечениям, подобно рекам, которые неудержимо стремятся вперед, если им предоставлен свободный простор. Поэтому-то молодому императору и нужно, чтобы философия руководила им и предохраняла от неправильного пути. Разным добродетелям близки разные пороки, и отступив от стези добродетели [ты приходишь] к соответствующему пороку. Императорской власти близка тирания и почти с ней соприкасается, так же как безрассудство соприкасается с храбростью, расточительность со щедростью. Гордый, если не удерживается философией в должных границах, если несколько выходит из рамок, становится заносчивым и умственно неполноценным. Не страшись никакого другого порока для царской добродетели, кроме тирании, и различай [эти понятия], пользуясь указаниями данной речи, а в особенности тем, что император свои склонности подчиняет законам, а для тирана его склонности служат законом. [2] Власть — вот то, что у них общего, а [образ] жизни — противоположный.
7. Вершины благосостояния и счастья достигает тот, у кого все подчиняется воле. Воля же подчиняется благоразумию и, будучи госпожой во внешних проявлениях,
1. Это же выражение Синезий употребляет в сочинении „О провидении“ (I. 12. N. Terzaghi, v. II, р. 88).
2. Ср. Dionis Opera, III, 43.
341
уступает власть своей сожительнице, как превосходящей, и принимает от нее правила того, что должна делать. Власть сама по себе еще не приносит счастья. Не во власти заключается установленное богом блаженство, но к этому должно присоединиться или, вернее, этому должно предшествовать благоразумие, которое наилучшим образом упорядочивало бы власть. И я называю совершенными такую жизнь и такого человека, в которых соединены оба эти качества и сохраняются в равновесии; [совершенен] тот, кто рожден властвовать, и способен властвовать; он и непобедим, так как сила и мудрость [в нем] совпадают.
Взятые же в отдельности они не имеют значения: сила неразумна, а благоразумие бессильно. Поэтому я восхищался мудростью египтян.- Дело в том, что Гермеса египтяне представляют с двумя лицами, молодым и старым; первое обозначает силу, второе благоразумие. Так как одно без другого не приносит пользы, то у них у преддверия храмов помещаются изображения сфинксов, скрытый символ соединения той и другой добродетели, в котором звериное туловище обозначает силу, а человеческая голова — благоразумие. Сила тела, лишенного разумного руководства, действует безрассудно, все смешивает и приводит в хаос. И опять-таки совершенно непригоден для действия ум, лишенный помощи рук. Только соединение всех добродетелей является украшением государя. Благоразумие же в особенности подобает ему. Итак, приобрети себе эту [добродетель] в проводники; остальные три [1] последуют за старшей сестрой, и ты немедленно будешь иметь их всех подругами и соратницами.
8. Я говорю речь, которая вначале может показаться неуместной и странной, но тем не менее преисполнена истины. Я слабость сравниваю с силой и бедность с богатством и изобилующих всем с нуждающимися во всем. Если лишенные благоразумия будут сравниваться друг с другом, то бедные и негодные частные лица окажутся даже предпочтительней властителей, лишенных разума и благоразумия, так как они совершают меньше ошибок, и их душевная порочность не найдет столько практического применения. Внешние блага, которые мои наставники Платон и Аристотель обычно называют орудиями, [2] в равной мере могут служить орудиями как пороков, так и добродетелей. Поэтому и оба эти мужа, и те философские школы, которые ими созданы, не удостоили их ни лучшего, ни худшего названия, но назвали орудиями, по временам хорошими, по временам — дурными, в зависимости от употребления тех, кто ими пользуется. Поэтому следует молить, чтобы у преступника отсутствовали орудия, чтобы его преступные склонности остались без исполнения. Одновременно нужно желать, чтобы орудиями обладал тот, кто может ими хорошо пользоваться, от кого все — и города и частные лица — получают пользу, чтобы природа добродетели не прозябала в неизвестности без употребления и деятельности, но чтобы она израсходовала свою силу на благо людей. Таким образом, нужно пользоваться находящимися под рукой благами, и только таким единственным образом и ты должен ими пользоваться.
Итак, и отдельные семейства, и города, и племена, и народы, и материки, — пусть все пользуются провидением и благоразумной заботливостью государя, которому бог, являющийся первообразом разумных вещей,
1. Синезий имеет в виду силу, умеренность и справедливость, которые, по представлениям риторов того времени, вместе с мудростью составляли четыре основные добродетели.
2. Ср. Аристотель. Этика, I, 8.
342
дал как бы образец своего провидения и приказал, подражая небесному, исправлять несовершенства земного. Он, носящий сходное имя, является другом великого царя, если не обманывает название. [1] Но оно не обманывает, ибо к нему прилагают и другие из божественных имен. Прежде чем объясним это, будет своевременным предпослать для выяснения нечто из философии.
9. Нигде никогда не было найдено имя, которое определяло бы сущность божества. Но неспособные определить сущность бога люди желают прикоснуться к нему через то, что проистекает из него.
Так, его называют отцом, создателем, или как-нибудь иначе, или началом, причиной, — это все его свойства, из него вытекающие. Равным образом, называя его царем, будешь пытаться определить его природу пониманием тех, которые имеют царя, а не его собственную природу. Перехожу к тому его имени, говорить о котором я обещал, но откладывал до настоящего момента. Разве это не то имя, какое присвоено земному царю и с ним соединено, которое, я говорю, он должен заслужить и доказать, что оно дано не ложно. Я был бы рад, если бы имя, присвоенное земному царю, присваивалось бы ему не лживо, а по заслугам. Все как просвещенные, так и непросвещенные народы единодушно признают, что бог благ, и это заявляют все единодушно и по общему согласию. В остальном же о боге высказывают разные мнения и удивительным разнообразием представлений разделяют его непорочную и нераздельную природу. Но эта благость божия, хотя она стоит вне сомнения, не обнаруживает бездеятельности в действии, а подкрепляется последующим. Не голое название благости звучит в ушах, но такое, какое представляется эффективным, и которым можно воспользоваться. Само это определение показывает, что бог является причиной всякого блага. Священные молитвы наших отцов в чтимых святилищах взывают не к божеству, возвышающемуся над всем, не представляют его как властителя, но почитают его провидение и заботу. Божество — податель того, что приличествует божеству — жизни, благосостояния, разума и всего, что относится к последующему, но о чем пристойно упомянуть сначала. Тебе же подобает никогда не оставлять строй, в котором ты поставлен, не посрамлять общее [с богом] имя, но усердствовать в подражании, не только осыпать города всеми видами благодеяний, но делать счастливым, насколько можно, каждого из подданных. И тогда только, называя тебя великим царем, мы будем отвечать истине, не по привычке, но по внутреннему убеждению души, используя язык, как выразитель искреннего мнения. И вот я в [своей] речи опишу императора, как бы создавая [его] статую. Ты же сделаешь эту статую движущейся и одушевленной.
Итак, приступаю к делу, заимствуя, если это нужно будет, приходящее на ум у древних и блаженных мужей. Ты же без всякого сомнения полюби то, о чем одинаково мыслят древние и новые мудрецы, не меньше других, но больше, как и подобает императору.
10. Благочестие прежде всего пусть будет составлять прочное основание, на котором статуя будет стоять твердо и непоколебимо, так как при нем никакая сильная буря не может ее потрясти. Пусть оно везде будет нас сопровождать, везде проявляться, в особенности же в главе [государства]. Начиная с этого речь, я считаю, что государь первый из всех при божьей помощи должен научиться управлять самим собою, должен устроить монархию в своей душе.
1. βασιλεύς — по-гречески и господь, и император.
343
Ибо хорошо знай, что человек не простое существо, имеющее только один вид, но бог вложил в состав одного живого существа смешанное и разнообразное множество качеств, и ,я полагаю, мы представляем гидру, животное странное и более, чем многоголовое. Не одним и тем же мы думаем, стремимся, печалимся, или гневаемся, не одним и тем же мы радуемся и опасаемся. Ты видишь здесь и различие мужского элемента и [женского, храбрости и трусости. Есть и совершенно противоположные свойства], но есть и общее для всех свойство, которое мы называем умом.
Считаю должным, чтобы он властвовал в душе государя и уничтожил в ней охлократию и демократию страстей. Тот получит подобающий принцип властвования, кто сделает его приспособленным, кто усмирит и сделает ручными лишенные разума части души, покорит их разуму и подчинит их множество единому разумному управлению. Такой и частный человек и государь является божественным, государь тем более, что сообщает свою добродетель всем народам, и благами его одного пользуется множество людей. Необходимо, чтобы в нем царило и даже на лице отражалось вдохновенное внутреннее спокойствие. Это зрелище не будет вызывать страх, но будет достойно почтения. При таком тихом и спокойном расположении духа он вселяет удивление в друзьях (иными словами в добрых), на врагов же и людей злых наводит страх. Раскаянию нет места в его душе, потому что если он что делает, то делает по общему согласию всех частей души, потому что они организованы одной властью и не отказываются быть частями и объединяться в одно целое. А кто разделяет стремления этих частей, кто позволяет, чтобы они в действиях были многообразны и поочередно владели организмом, того ты видишь то высокомерным, то подавленным, то смущенным, то волнуемым страстями, то скорбями, то удовольствиями, безумными желаниями, так что он никогда не похож на самого себя.
„На что дерзаю, — вижу. . . Только гнев
Сильней меня. . .“ —
сказал некто, [1] признав свою раздвоенность и борьбу противоречивых стремлений. Это первое и вполне достойное государя дело — быть царем над самим собой, поставить разум укротителем домашнего зверя; ведь непристойно управлять бесчисленным количеством людей, а самому рабствовать пред постыднейшими господами — удовольствиями, скорбями и другими подобными зверями, обитающими в живом существе.
11. Так начав с самого себя, государь потом будет общаться прежде всего с приближенными и друзьями, с которыми он будет советоваться обо всем. Пусть называет их друзьями, не издеваясь над названием, не прикрывая жестокое и суровое властвование названием, более мягким, чем верным.
Какое приобретение для государя может сравниться с дружеским общением! [2] Какое соучастие в счастьи приятнее! Кто тверже в перенесении превратности судьбы! Кто искреннее в похвалах, кто наименее тягостен в суровом порицании? Какое доказательство доброты и благочестия государя может быть очевиднее для народа, чем то, когда он делает счастливыми тех, дружбой которых он пользуется. Через это он покажет себя достойным дружбы и людям отдаленным и для добрых будет весьма желательным удостоиться дружбы императора. Обратное бывает у тиранов, относительно которых есть прекрасная поговорка:
1. Euripides. Medea, v. 1078 sq. Перевод И. Анненского, стк. 1274—1275.
2. Cp. Dionis. Opera, I, 30 и III, 86 sqq.
344
„Подальше от Зевса и [его] молнии“, [1] так как их коварное обращение с окружающими показывает, что гораздо безопаснее праздная жизнь, соединенная с покоем, чем опасности, которые встречаются на выдающемся посту. Ибо не успеет кто-либо стать счастливым вследствие дружбы тирана, как становится предметом сострадания вследствие его вражды. Государь же знает, что совершенство у бога и что бог в силу извечной своей сущности выше управляемых, тогда как для человека, управляющего многими и подобными ему людьми, собственная его природа недостаточна для попечений о всяком деле. Стараясь пополнить этот недостаток природы, он входит в общение с друзьями и тем увеличивает свою собственную силу; он, таким образом, будет видеть глазами всех, слышать ушами всех и пользоваться советами всех, направленными на общую цель.
12. В то же время император должен проявлять величайшую бдительность, должен использовать все средства, имеющиеся во дворцах, для того, чтобы оградить себя, от низкой лести, принимающей личину дружбы. Ибо одной ею, даже при бодрствующих оруженосцах, расхищается империя. Если он [льстец] не будет сразу задержан, то энергично проскользнет во внутренние сокровищницы и нападет на самое драгоценное достояние государей — на их душу. Вообще любовь императора к своим друзьям — дело отнюдь не маловажное. Она сделала всем известного Кира и Агесилая славнейшими из государей среди греков и варваров. Приняв решение о том, что должно быть сделано, он утвердит это решение советом друзей. Для того же, чтобы дело было сделано, оно нуждается во множестве рук.
13. Подвигаясь вперед, наша речь выводит государя из дворца и после друзей передает его воинам, как бы вторым друзьям, повелевает явиться на военное поле, чтобы произвести смотр людям, коням и оружию. Здесь с всадниками он будет упражняться на коне, состязаться в беге с пешими, будет упражняться с тяжело вооруженными и с легко вооруженными воинами, бросать метательные копья, чтобы участием в делах привлечь каждого в живое общение, чтобы, называя воинов своими соратниками, не оказаться притворщиком и лжецом. Может быть, тебе и неприятно слышать, что нами возлагается на тебя труд, но, поверь мне, над государем труд имеет мало власти. Кто не прячется от труда, того труд не побеждает. Когда император занимается физическими упражнениями, живет на открытом воздухе, учится владеть оружием, весь народ на это смотрит. Он привлечет взоры всех присутствующих, и никто не станет смотреть в другое место, когда государь на виду что-нибудь делает, и в ушах всех прозвучит каждое деяние императора. Привычка солдат часто видеть государя возбуждает в их душах преданность к нему, которая имеет огромную силу и значение. И какое царство сильнее, чем то, которое ограждено любовью? Какое частное лицо, какой маленький человек свободнее и безопаснее, чем тот государь, которого не боятся, но за которого боятся подданные? Этот военный народ прост и благороден, и к нему легко найти соответствующий подход. Сам Платон называет вооруженный народ стражами и особенно сравнивает его с собаками, [2] животным, которое сознательно и бессознательно различает друзей от врагов. Наоборот, что может быть постыднее императора, которого защитники империи узнают только при посредстве художников.
1. См. Suidas. Lexicon, s. ν. πόρρω.
2. Платон. Политика или государство, пер. Карлова. СПб., 1863, стр. 123 сл., стр. 237.
345
Это частое общение будет приносить пользу не только тем, что войско будет с ним связано, как единый организм, но и тем, что многое, совершающееся в это время [т. е. во время общения], будет помогать улучшению военного дела, развитию полководческого искусства и подготовке к более важным и серьезным предприятиям. Немалое дело также [иметь возможность] во время сражения называть по имени военачальника, его помощника, или начальника конного отряда, или тагмы, или знаменосца, или, наконец, кого-либо из ветеранов и воодушевить их, всех тех, которые, как я говорю, занимают первые места в каждом конном и пешем соединении. Гомер, изобразив одного из богов во время сражения ахеян [с троянцами], говорит, что он ударом скипетра наполняет юношей „великою силой“, [1] так что душа
„Пламенней прежнего рвется на брань и кровавую битву“, [2]
а руки и ноги не могут сохранять покоя, ибо
„Рвутся в битву и ноги внизу и поверху руки“, [3]
другими словами, „бросаются в бой добровольно“. Я думаю, что то же совершит император, если назовет своих по имени, воспламенит жаждой славы того, кто не возбуждается военной трубой, а воинственного воина поощрит к сражению. Едва ли найдется такой, который не показал бы усердия перед государем. Поэт, повидимому, понимал, что как миролюбивый, так и воинственный государь получит отсюда великую пользу. Первый он показал, какое большое значение для возбуждения воинской бодрости имеет то обстоятельство, чтобы и рядовые воины были известны полководцу. Он выводит Агамемнона, который не только воинов называл по имени, но и своего брата уговаривал обращаться к каждому мужу по отцу и по роду, быть со всеми приветливым, не держаться надменно. [4] Ибо чтить — значит хвалить, напоминая о совершенном им хорошем и удавшемся подвиге. Видишь у Гомера, как царь хвалит простого человека. И кто пощадит свою кровь, услышав похвалу государя! Вот что ты приобретешь от частого общения с воинами, а затем ты узнаешь их нравы и жизнь и будешь понимать, где и в каких обстоятельствах надлежит употреблять тот или другой воинский строй. Обрати внимание и на следующее:, император — мастер сражения, как сапожник — обуви, и как смешон тот сапожник, который не знает инструментов своего ремесла, так смешон и государь, если он не умеет пользоваться воинами.
14. Чтобы не отклониться от плана, перехожу к настоящему, касающемуся всех разделов речи.
„Может быть, с помощью бога, речами своими: удастся
Дух мне его взволновать: уговоры доходчивы друга“. [5]
Итак, я полагаю, что ничто и никогда не причиняло Римской империи такого вреда, как та театральная пышность, окружающая фигуру императора, которая в тайне подготавливается священнослужителями и выставляет вас в варварском облике. Не любят сожительствовать истина и фальшь. Но ты не оскорбляйся, так как это не твоя вина, но тех, кто первыми ввели эту пагубную болезнь и передали потомкам зло, возрастающее со временем.
1. Гомер. Илиада, XIII, 60 (перевод В. Вересаева).
2. Там же, XIII, 74 (перевод Н. И. Гнедича).
3. Там же, XIII, 75 (перевод В. Вересаева).
4. Там же, X, 68—69.
5. Гомер. Илиада, XV, 403—404 (перевод В. Вересаева).
346
Ваша пышность и боязнь, что вы сделаетесь предметом меньшего почитания, если станете часто позволять лицезреть себя, держит вас взаперти, [превращая в] своих собственных пленников, причем вы очень мало видите, очень мало слышите, теряя мудрые уроки опыта. Вы радуетесь только телесным удовольствиям и преимущественно тем, которые более других погружают в материю — наслаждениям вкуса и осязания. Ваше существование подобно существованию полипа. Вы отвергаете обыкновенное человеческое состояние, не достигая однакоже совершенства, свойственного человеку. Ибо те, с которыми вы имеете общение в ежедневной жизни и в других делах, и которым доступ во дворец более свободен и более легок, чем даже стратигам и лохагам, и которых вы находите для [своего] удовольствия — это люди с малой головой и малым умом, настоящие недоноски, несовершенные произведения природы, подобные фальшивой монете, подделываемой трапезитами. И глупый человек становится даром, достойным того, чтобы быть предложенным императору, и чем он глупее, тем этот дар больше! Они в одно и то же время беспричинно радуются и плачут; их жесты, крики, всякого рода шутки помогают вам тратить время и разгоняют при помощи еще большего зла то душевное смущение, которое порождается вашей жизнью, не сообразной с природой. Глупые мысли и смешные слова лучше достигают до ваших ушей, чем мысли мудрые, исходящие из красноречивых уст философа. Какую пользу вы извлекаете из этой удивительной праздности, в то время как вы держите в подозрении наиболее разумных из народа и проявляете высокомерие к ним, а глупых допускаете к себе и перед ними раскрываетесь? Но проследи мысленно, в какое время расширялась территориально империя парфян, македонян, древних мидян и та, в которой мы живем. Тогда ведь были расширены ее границы, когда воины и граждане долго оставались в строю вне дома, спали на голой земле, не избегали трудностей, не увлекались удовольствиями. Заботливо приобретая блага и дойдя до величайшего благосостояния, они не могли без труда и благоразумия сохранить его. Счастье уподобляется бремени более тяжелому, чем свинец. Оно может придавить носителя, если он окажется недостаточно сильным.
15. Природа подготавливает душевную силу, а создает ее упражнение. К упражнению, государь, тебя призывает философия, предостерегая от печальных последствий. Все разрушается средствами, противоположными тем, при помощи которых было создано. И я считаю непристойным, чтобы римский государь нарушал отеческие установления, не вчера и третьего дня проникшие в государство, отклонившееся от правильного пути, но те, которыми было создано его могущество. Если не веришь мне, то, во имя божества, управляющего царями, выслушай меня терпеливо (ибо язвительна речь моя!). В какое время — думаешь ты — римские дела находились в лучшем состоянии — после того ли, как вы стали носить золотые и пурпурные одежды, после того ли, как драгоценные каменья, извлекаемые из недр гор и бездн отдаленного моря, обременяют ваши головы, покрывают ваши ноги, блистают на ваших поясах, прикрепляются к вашим одеждам, служат для вас застежками, украшают ваши троны? Так разнообразием и пестротой цветов вы сделались подобны павлинам, стали предметом, любопытным для созерцания, и на себя навлекаете гомеровское проклятие— каменные ризы. [1] Для вас еще недостаточно этих риз! Когда вы носите титул консула, вы не можете войти в помещение,
1. Гомер. Илиада, III, 57.
347
в котором собирается сенат — для избрания ли должностных лиц или для совещания— не будучи одеты в пеплос того же рода. Тогда те, которые на все смотрят, воображают, что вы одни счастливы между всеми сенаторами, что вы действительно исполняете свои обязанности. Вы гордитесь своей ношей: вы походите на пленника, который, будучи закован в золотые цепи, не сознает своего несчастья: прельщенный блеском своих цепей, он не замечает, как плачевна его жизнь в плену. Разве свободнее он, чем тот несчастный, члены которого закованы в самые грубые деревянные колодки! Мостовая и голая земля слишком грубы для ваших нежных ног; вы можете ходить только по золотому песку. Караваны и корабли с большими издержками привозят вам из отдаленных стран этот драгоценный песок; многочисленная армия занимается его разбрасыванием. В самом деле нужно, чтобы всюду император находил удовольствие, даже под своими ногами. Неужели теперь вы поступаете лучше, когда императоров окружает таинственность, когда, подобно ящерицам, убегающим от света в свои норы, вы скрываетесь в глубине ваших дворцов, дабы люди не видели, что и вы такие же люди, как они? Разве не тогда [было лучше], когда нашей армией предводительствовали полководцы, которые вели жизнь солдата. Почерневшие от солнца, простые и безыскусственные, чуждые театрального блеска, в войлочных лаконских шапках, которые ныне возбуждают смех в детях, рассматривающих изображения [полководцев], они и взрослым не кажутся счастливыми, а в сравнении с вами представляются просто несчастными. Но зато они, эти воины, не нуждались в том, чтобы окружать стенами свои города, чтобы защитить себя от нападений со стороны Азии и Европы. Наоборот, своими подвигами они заставляли неприятелей заботиться о защите их собственных очагов. Часто они проникали даже за Евфрат для преследования парфян и за Истр для нападения на гетов и массагетов. Последние же теперь приняли другие имена вместо прежних, а некоторые изменили и лица каким-то способом, чтобы казаться новым и страшным племенем, вышедшим из земли; они, поселив, страх в наши души, в свою очередь переправляются [на наши берега этих рек] и вынуждают нас покупать мир,
„ежели ты не одеешься в крепость“. [1]
Но оставим, если угодно, сравнение древних времен с настоящими, чтобы не показалось, будто мы, под видом совета, наносим оскорбление, подчеркивая, что императорская власть настолько же удалилась от истины, насколько возросла ее надменность.
16. Если наша речь задержалась довольно долго на окружающей вас роскоши, то мы желаем, чтобы она уделила некоторую долю внимания прежнему деревенскому и простому быту императоров. Хорошо противопоставить друг другу расточительность и бережливость и, таким образом, сопоставляя оба эти качества в их противоположности, ты пожелаешь истинной красоты государя, отбросив все фальшивое и пустое. Расточительность во всей ее полноте мы показали на этой мишуре; [2] бережливость же нужно искать в другом месте, а не здесь. Она не допускает ничего лишнего — это ее не занимает.
1. Гомер. Иллиада, IX, 231 (перевод Н. И. Гнедича).
2. В издании Миня (J. P. Migne. Patrologia graeca, t. LXVI, col. 1081. В) дано чтение χρημάτων; мы принимаем чтение χρωμάτων, которое содержится в ряде рукописей. См. N. Terzaghi, v. II, p. 35. Cp. C. Lacombrade. Le discours sur la royauté, p. 55.
348
Ее поведение — вот что, пожалуй, дает о ней представление. Ведь действия сопровождают замыслы живущих сообразно с природой. Итак, стоит упомянуть о нравах и делах одного императора. Это будет достаточно для характеристики целого. Говорят, некогда существовал император, не очень древний, которого легко могли знать деды современных стариков, если только они не были молодыми, когда у них родились дети и дети их не были молодыми, когда их сделали дедушками. Итак, говорят, что он отправился с войсками против Аршакидов, угрожавших Риму, и добрался до крайних армянских гор. Прежде чем напасть на неприятельскую территорию, он захотел пообедать и приказал войску взять из обоза запасы, так как [считал], что поблизости есть все, что угодно. При этом он указал на поля парфян. Когда они находились в таком положении, появились неприятельские послы, которые ожидали, что они предстанут сначала пред знатными представителями государя, клиентами и докладчиками, и только спустя много дней государь займется делами посольства. Случилось, что в то время государь обедал. Телохранители, отборное войско, молодые, высокорослые, светловолосые и тщательно причесанные
„сами красавцы лицом, головою“ [1]
с золотыми щитами и золотыми копьями, — в это время нигде не были видны. Из их появления мы обычно заключаем о приближении императора, подобно тому, как появление первых лучей света служит предвестником солнца. Но там все войско выполняло свои обязанности, одновременно являясь телохранителем государя и государства. Они же [государи] держали себя просто, были государями не по внешним украшениям, и по душевным качествам, и внутренними качествами отличались от толпы, а внешним видом были подобны массе. В этом виде, говорят, послы застали Карина. [2] Пурпуровая его одежда лежала на земле, на траве, а пищу составляла вчерашняя похлебка из толченого гороха с кусками старой соленой свинины. Итак, когда он их увидел, то, говорят, не встал и нисколько не изменил своего положения, позвал их к себе и сказал, что он — Карин повелел в тот же день объявить их молодому государю, что если он не поспешит дать ему удовлетворения, то все их пастбища и поля в одну лунную ночь сделаются еще более голыми, чем голова Карина. Говоря это, он снял шапку, чтобы показать голову, ничем не отличающуюся от покрывающего ее шлема, [и прибавил], — что если они хотят есть, то могут опустить руку в горшок; если же нет, то пусть тотчас удалятся и будут вне римского лагеря, ибо их миссия закончена. Когда они сообщили множеству врагов и предводителей все, что видели и слышали и то, что, вероятно, произойдет, на всех напал ужас и страх при мысли о необходимости сражаться с такими врагами, царь которых не является царем, не стыдится своей плешивости и, приготовив горшок с едой, приглашает сотрапезников. Надменным царем овладел страх, и он, облаченный в тиару и царский кафтан, готов был все уступить одетому в хитон из грубой шерсти и шапку из войлока.
17. Думаю, что слышал про другого, более близкого к нам, чем этот. Ведь невероятно, чтобы кто-нибудь не знал о том императоре,
1. Гомер. Одиссея, XV, 332 (перевод П. А. Шуйского).
2. Синезий смешивает, очевидно, Карина с каким-то другим императором, так как Карин не совершал походов против парфян (персов). R. Volkmann (Ук. соч., стр. 32) полагал, что Синезий говорит о Каре; H. Druon (Ук. соч., стр. 114) считал этого императора Пробом.
349
который, проникая в неприятельские пределы под видом посольства, выполнял функции разведчика. [1] Тогда стоять во главе городов и войск значило выполнять общественные обязанности, и поэтому столь многие категорически отказывались от власти. И один из них, прожив всю жизнь императором, утомленный трудом, добровольно стал частным человеком. [2] Я покажу, что самое слово царь появилось поздно, оставленное римлянами с того времени, как народ изгнал царей. Ибо мы с того времени вас почитаем и называем царями; вы же сознательно или бессознательно, уступая привычке, казалось, желали избежать одиозности этого названия. Поэтому в письменных обращениях к городам, к частным лицам, префектам, к начальствующим из варваров никогда не употребляли названия царь, но называли себя императорами. Императором же называется полководец, облеченный полной властью. И Ификрат, и Перикл вышли из Афин полководцами-императорами. И не оскорбляло это название свободного афинского народа, но сам он установил эту магистратуру, как законную. В Афинах был и так называемый царь — второстепенный, подначальный магистрат. Я думаю, что народ, пользовавшийся полной свободой, употреблял это имя в насмешку. И император у них — это не монарх, но [человек] достойный и по делам, и по имени. Разве не ясно, что это был признак благоразумного образа мыслей в Римском государстве, что монархия, несомненно там установившаяся, гнушалась ужасов тирании, остерегалась и избегала пользоваться наименованием „царская власть“. Монархию делает ненавистной тирания; императорская же власть делает ее желанной, и Платон называет ее божественным благом для людей. [3] Он сам учит, что нужно освободиться от всякого высокомерия и тщеславия, чтобы сделаться соучастником божества. Ибо бог не напоминает выступающего на сцене или совершающего чудеса фокусника, но „подвигаясь по тихой дороге, справедливо улаживает человеческие дела“, [4] готовый участвовать во всем происходящем сообразно природе. .Поэтому полагаю, что государь является общим благом и должен быть скромным. Тираны скрываются, хотя и привыкли к фокусам, и.когда появляются, внушают страх. Мы им не завидуем, когда они, лишенные истинного величия, прибегают к притворству. Тот, кто не имеет ничего здорового и сам сознает это, — как он может не избегать света! Ведь этим он избегает презрения к себе. Но солнца до сих пор никто не презирал, хотя оно самое обычное зрелище.
Поэтому государь, если он истинный государь, убедит в этом других тогда, когда он будет для всех вполне доступен. Ничуть не меньше, если не больше, он будет предметом удивления. Ибо того хромого мужа, которого в своем труде восхваляет Ксенофонт, не презирали ни те, которых он вел, ни те, через страны которых он проходил, ни те, против которых он направлялся, хотя он весьма часто появлялся публично в самых людных местах каждого города, делал все на глазах тех, кто хотел видеть полководца Спарты. [5] Но он, переправившись с небольшим войском в Азию, почти лишил власти человека, которому бесчисленные народы поклонялись, как богу; во всяком случае, он смирил его высокомерие.
1. Возможно, что Синезий имеет в виду Галерия. Cp. Eutropius, Breviarium historiae Romanae, IX, 25.
2. Имеется в виду Диоклетиан.
3. Платон. Политика (пер. Карпова. М., 1879, стр. 143).
4. Еврипид. Троянки, стк. 887—888.
5. Ксенофонт. Агесилай.
350
Когда отозванный отечественными властями, он покинул свои азиатские предприятия, то одержал многочисленные победы над греками, и был побежден в сражении тем единственным человеком, который по справедливости превосходил Агесилая простотой нравов. Это был Эпаминонд. Всякий раз, как увенчивающие его города приглашали его на пиршества, он являлся на них (он не мог поступить иначе, не возбуждая со стороны магистратов против себя обвинения в преступлении) и пил кислое вино, „чтобы, — говорил он,— Эпаминонд не забыл о домашней пище“.
Когда афинский юноша осмеивал ножны его меча, сделанные грубо из самого плохого дерева, он сказал: „Когда будем сражаться, то ножны Тебе не понадобятся, а за меч ты не будешь упрекать меня“. Если царское дело править, то править должны имеющие опыт в правлении, знающие привычки и образ жизни подданных. Мы хорошо понимаем, что все организуются благоразумными и скромными людьми, а не заносчивыми и варварами, и поэтому гордость и роскошь должны быть изгнаны из [здорового] государства, так как у него нет ничего общего с чуждым ему.
18. Мы возвратимся в своей речи к началу, а ты возврати императорское достоинство к прежнему обычаю, ибо при установлении воздержного образа жизни и возвращении благоразумия обязательно возвратятся прежние блага и произойдет и коренная отмена всего несоответствующего [этому]. Ты же, государь, будь инициатором возвращения благ и возврати нам государя, служителя государства. Уже невозможно дальше оставаться в том состоянии нерадения, в котором ты находишься; невозможно итти дальше [по этому пути]. Все мы теперь помещены на тончайшем острие ножа; дело бога и императора по отношению к государству устранить этот кризис римской империи, который уже зародился и должен выйти наружу. Продолжая речь и рисуя образ государя, как бы желая воздвигнуть прекраснейшую статую, я показываю ясно, что кризис уже назревает, что ему должна воспрепятствовать сильная и мудрая императорская власть. И насколько от меня зависит, я буду содействовать, чтобы ты стал тем, кто воспрепятствует этому [кризису]. Бог же всегда и во всем милостив к добрым и помогает им.
19. Теперь оставим эти общие рассуждения о качествах идеального государя и перейдем к настоящему положению дел. Философия нас учит, что государь должен часто общаться с воинами, а не сидеть в своем дворце. Она учит, что этим постоянным и повседневным общением приобретается любовь их, которая является единственной и величайшей охраной государя. Но когда философ, любящий императора, предписывает ему жить с воинами и разделять с ними упражнения, то каких воинов разумеет он? Очевидно тех, которые происходят из наших городов и сел, тех, которых страны, подчиненные твоей власти, посылают к тебе, как защитников, и которые избираются для защиты государства и законов, которым они сами обязаны попечениями, оказанными им в их детстве и юности, тех, которых Платон сравнивает с верными собаками. Но пастух остерегается помещать волков вместе с собаками, ибо, хотя взятые молодыми и, повидимому, прирученные, они со временем сделаются опасными для стада: тотчас, как только они почувствуют ослабление бдительности и строгости собак, они бросятся на овец и пастуха. Законодатель не должен давать оружия тем, которые не рождены в его стране и не воспитаны установленными там законами, ибо какое ручательство имеет он за их благорасположенность. Только человек безрассудный, или пустой мечтатель, может видеть многочисленных юношей, чуждых нашим учреждениям и нашим нравам,
351
занимающихся военными упражнениями, и не страшиться их. Ибо мы или должны думать, что они мудры, или, если в этом отчаяться, то признать, что скала Тантала висит над нашей империей на тончайшем волоске. Они бросятся на нас, когда почувствуют, что могут сделать это с успехом. Некоторые признаки уже предвещают близкую опасность.
У империи, как у больного тела, воспалены многие члены. Инородные частицы мешают ей восстановить покой и здоровье. Но для того, чтобы излечить отдельное лицо, как и целое государство, нужно устранить причину зла: это правило употребляют как врачи, так и императоры. Ибо не заботиться о защите от варваров, как будто они нам преданы, и в то же время дозволять гражданам быть свободными от военной службы, что это значит, как не стремиться к погибели! Скорее, чем дозволять скифам носить оружие, должно требовать от нашего земледелия людей, которые им занимаются и которые готовы его защищать. Исторгнем поэтому философа из школы, ремесленника из мастерской, торговца из лавки; призовем эту чернь, шумящую и праздную, проводящую время в театрах, пока есть еще время действовать — если она не хочет в скором времени перейти от смеха к плачу; пока еще нет никакого препятствия для создания собственной армии из римлян. В семействах, как и в государствах, на мужчине лежит обязанность защиты, а на женщине — бремя домашних хлопот. Можем ли мы допустить, чтобы у нас были чужие мужчины защитники? Не постыднее ли уступать им воинскую славу в столь обильной, сильными мужчинами империи? Что касается меня, то если бы они принесли нам даже славные победы, мне было бы стыдно принять от них такую услугу.
Это, во всяком случае, „знаю я, понял“. [1]
И понятно всякому, обладающему разумом, что когда это „мужское“ и „женское“ не является братским и не связано никаким родством, малейшего предлога достаточно, чтобы вооруженные пожелали стать господами граждан и не приученные к войне могли быть, вынуждены сражаться с опытными в военном деле. Но прежде чем дело дойдет до этого, до чего отчасти и дошло, нам следует возвратить римские помыслы и приучиться самим добывать себе победы, причем варвары не должны в этом принимать никакого участия, — их нужно удалить из всех учреждений.
20. Сперва должно им запретить доступ к высшим должностям и исключить их из сената, потому что они презирают эти почести, считающиеся у римлян высочайшими. При виде того, что теперь происходит, бог войны и богиня Фемида, присутствующая на собраниях, должны часто, я думаю, скрываться от стыда: полководец, одетый в звериные шкуры, командует воинами, одетыми в хламиды; варвары, завернувшись в грубый плащ и надев сверху тогу, приходят рассуждать с римскими магистратами об общественных делах, восседая в первом ряду после консулов, выше стольких почетных граждан. Потом, выйдя из сената, они снова надевают одежды из звериных шкур и смеются с своими товарищами над этой тогой, одеждой, как они говорят, неудобной для людей, которым нужно носить меч. Странность нашего поведения меня часто удивляет, но вот что особенно меня смущает. Во всех семействах, пользующихся достатком, рабами бывают скифы; скифы накрывают на стол, готовят еду, разливают вино.
1. Гомер. Одиссея, XVII, 193 и 281 (перевод П. И. Шуйского).
352
Служители, носящие носилки, на которые садятся их господа на улицах, также скифы. Вообще скифы — племя, издревле рожденное для рабства, достойное и годное только на служение римлянам. Но чтобы эти люди, белокурые и причесанные на манер эвбеян, были в одной и той же стране рабами частных лиц и хозяевами государства — это зрелище неслыханное, удивительное для других. Если это не так, я не знаю, что называется загадкой.
Некогда в Галлии Крикс и Спартак, люди из низких гладиаторов, назначенные быть очистительными жертвами за римский народ в амфитеатре, убежали и, вооружившись для ниспровержения законов, начали войну рабов, самую ужасную из всех, какие только выдерживали римляне. Нужны были против них полководцы, консулы и счастье Помпея, чтобы спасти государство от угрожающей гибели. Те, которые соединились с Криксом и Спартаком, были не из той же страны, из которой эти предводители, и не принадлежали к одной и той же народности, но общность их судьбы и благоприятный момент сделали их единомышленниками. Случай соединил их в одном предприятии; ибо, думаю, естественно, что всякий раб — враг своего господина, когда надеется его победить. Не находимся ли и мы в подобных обстоятельствах? Не хуже ли будет тот бич, который мы себе приготовляем? Ибо теперь дело идет не о начатом только двумя людьми, презревшими всех богов, возмущении, но о полностью вооруженных, [происходящих] из того же «самого племени, из какого и наши рабы, кровожадных ордах, допущенных к нашему несчастью в империю, имеющих своих вождей, которым дарованы высочайшие должности.
„Какая наша ошибка!“ [1]
Кроме воинов, находящихся под их начальством, эти полководцы несомненно пожелают видеть присоединенными к их рядам наших самых смелых и самых дерзких рабов, готовых совершить все роды злодеяний, чтобы только насладиться свободой. Должно ниспровергнуть эту силу, нам угрожающую, нужно затушить этот пожар, еще скрытый. Не будем дожидаться, чтобы чужестранцы проявили свою ненависть; зло, легко уничтожаемое в зародыше, укореняется со временем. Император должен очистить свою армию, как очищают хлебные поля, отделяя дурные зерна и чужеядные семена, заглушающие рост чистой пшеницы. Если тебе кажется, что я советую отнюдь не легкое дело, не забывай, над какими людьми ты являешься императором, о каком народе я веду речь. Ведь римляне победили всех и этим прославили свое имя между людьми. Они победили всех, с кем вели войны, и силой и умом. И они обошли всю землю, как боги, которые, как говорит Гомер,
„Смотрят, надменные, кто и кто справедливые люди“. [2]
21. Скифы же — племена, как говорит Геродот, [3] да и мы сами это видели, одержимые трусостью. Из них ведь во все страны доставляются рабы. Блуждающие и не имеющие отечества, они постоянно переменяют страну, — отсюда это выражение, перешедшее в поговорку: „пустыня скифская“. [4] Как повествуют те, которые передают памяти древние события [т. историки], их изгоняли с своих мест сначала киммерийцы, [5]
1. Цитата из какого-то несохранившегося сочинения.
2. Гомер. Одиссея, XVII, 487 (перевод П. И. Шуйского).
3. Геродот. I, 105.
4. Эсхил. Прометей, стк. 2.
5. На самом деле Геродот (IV, 1) рассказывает, что скифы преследовали киммерийцев.
353
после — другие племена, потом женщины [амазонки], позже наши предки и наконец — царь Македонский. Изгнанные из одной страны, они идут в другую, чтобы быть изгнанными снова. Они не останавливаются до тех пор, пока преследуемые одними [неприятелями] они не наталкиваются на других. Но когда они нападали внезапно на неподготовленных, то временно приводили все в расстройство, как, например, некогда у ассирийцев, мидян и палестинян. И теперь к нам они пришли не с целью начать войну, но в виде просителей, после того, как снова были изгнаны. Римляне встретили их не оружием, а добротой, [1] как и надлежит поступать по отношению к просителям. Невежественный народ отблагодарил за справедливость тем, что возгордился и забыл о благодеянии. Наказанный за это твоим отцом, выступившим против них с оружием, он снова оказался жалким просителем со [своими] женами. Тот же, победитель в войне, оказался побежденным милосердием. Он возвысил просителей, сделал их союзниками, удостоил гражданства, высших должностей, наделил этих убийц римской землей; это был человек, проявивший в милосердии благородство и великодушие своей природы, но варвары не понимают добродетели. С этого времени и до настоящего дня они не перестают осмеивать нас, зная, что они должны были от нас получить и что получили. Слава об этом открыла путь к нам и их соседям. И из чужеземцев многие конные стрелки, оставив отечество, отправляются к сговорчивым людям и требуют гостеприимного приема, поступая по образцу этих негодяев. И мне кажется, что зло все более увеличивается благодаря тому, что народ называет убеждением, соединенным с принуждением. Ведь философия, которая ищет средств для выражения мыслей, не должна затруднять себя подбором названий — ведь и народные [выражения] делают мысль ясной и четкой. Разве для нас не трудное дело отвоевать славу.
„Выгнав отсюда собак, посланных злою судьбою“. [2]
Если послушаешь меня, то это трудное [дело] представится самым легким. Увеличив собственные полки, а у полков уверенность в себе, создав собственное войско, ты придашь государству то, в чем оно оказалось нуждающимся. Гомер это предприятие приписывает лучшим.
„Гнев же не легок царя, питомца владыки Кронида“. [3]
Итак, нужен гнев против этих людей. Пусть они или в зависимом состоянии обрабатывают землю, как это некогда делали мессеняне для лакедемонян, положив оружие, или пусть бегут тем же путем, каким пришли, и объявят обитающим по ту сторону реки, что нет уже у римлян прежней кротости, но что управляет ими молодбй и благородный государь.
„Взметчивый муж, и невинного вовсе легко обвинит он“. [4]
Пусть будет так. Таковы должны быть подготовка и воспитание воинственного государя.
22. Только тому возможно сохранить мир, кто может покарать нападающего. И я сказал бы, что государь должен быть осведомлен во всем, относящемся к миру и не желать причинять несправедливость другим
1. В тексте игра слов: „Не слабым оружием, но мягкими нравами“ (μαλακωτέροις οὐ τοῖς ὅπλοις, ἀλλα τοῖς ἤθεσιν).
2. Гомер. Илиада, VIII, 527.
3. Там же, II, 196 (перевод В. Вересаева).
4. Там же, XI, 654 (перевод Н. И. Гнедича).
354
[но в то же время] должен собрать силы, чтобы самому не подвергаться обидам. Если он сам не сможет вести войну, то войну ему объявят другие. Но мир желательнее войны, так как к войне мы готовимся ради мира; мир же, являющийся целью, уже в силу одного этого по справедливости должен быть предпочитаем. Так как империя разделена на две части: войско и гражданское население, то будет правильным уделить поочередно должное внимание тому и другому и после воинов заняться городами и гражданским населением, [1] которому при помощи воинов мы доставляем блага земледелия и государственности. Следует посетить какие возможно города и народы. О тех частях империи, которые не удастся посетить, нужно позаботиться насколько возможно наилучшим образом.
23. Посольства, и раньше считавшиеся священными, теперь должны цениться выше всего. Вступая в общение с ними, государь узнает отдаленное так же, как и близкое, и без помощи зрения будет осуществлять заботу управления. Хотя он и не будет видеть, но восстановит упавшее, поможет нуждающимся народам, освободит от повинностей обремененных старыми повинностями, выполнит обещания, уничтожит войны и позаботится о всем другом. Так при помощи посольств, подобно богу, император может
„все видеть и слышать“. [2]
Пусть он будет легко доступен, как кроткий отец, [3] не делая различия между ближайшими и отдаленными. Так говорил о миролюбивом государе когда-то Гомер.
24. И прежде всего нужно приказать воинам, чтобы они щадили горожан и деревенских жителей и отнюдь не были им в тягость, помня о трудах, которые те приняли ради них. Император воюет для защиты достояния городов и деревень и [для этого] набирает воинов. Поэтому тот, кто отгоняет от меня чужестранного врага, а сам обходится со мной дурно, тот по моему мнению не отличается от собаки, которая в течение долгого времени отгоняла волков, помышляя на досуге без помех растерзать стадо вместо того, чтобы получить в награду молоко. Поэтому совершенный мир заключается в таком воспитании воинов, чтобы они относились к безоружным, как к братьям, и брали только то, что установлено законом.
25. Не подобает государю также истощать города поборами. Да и на что много денег хорошему государю, не приученному гордыней ума к большим издержкам, не носящему в себе заносчивого честолюбия, а ведущему благоразумный образ жизни, не тратящему по ребяческому обычаю на сценические игры плоды труда трудолюбивых людей, не вынужденному необходимостью вести частые войны, которые, как говорил лакедемонянин, [4] всегда ненасытны. Ибо наша речь делает доброго государя огражденным от заговоров и вторжений. Если он будет довольствоваться необходимым, то он не будет нуждаться в излишествах. Поэтому ему можно не быть обременительным сборщиком налогов, [ему можно] прощать известную часть недоимок, устанавливать налоги, соразмерно силам налогоплательщиков. Напротив, корыстолюбивый государь хуже торговца, потому что тот заботится о семье; у этого же низость мысли не имеет извинения.
1. δῆμοι, т. е. димы.
2. Гомер. Илиада, III, 277.
3. См. Гомер. Одиссея, II, 47 и др.
4. Синезий имеет в виду Архидама, сына Агесилая. См. Плутарх. Клеомен, 27.
355
Я часто наблюдал, какое влияние оказывает каждая из страстей на охваченных ею людей, (я имею ввиду частных лиц) и считаю профессию, ставящую своей целью наживу, низкой, нечестивой и совершенно неблагородной; в одном только больном государстве она может занимать не совсем низкое место. Такие люди сами являются виновниками своей низости потому, что мыслят· о главном и второстепенном в противоречии с велениями природы. Природа тело определила на служение душе, внешние блага на служение телу. Последнему она дала второстепенное место. Они же и душу и тело подчиняют наживе. Поэтому бесчестя самих себя и порабощая главное в себе, что они могут сделать или посоветовать великого и благородного? Признавая их ниже и ограниченнее муравьев, я не покраснею за истину. Ибо те измеряют приобретение потребностями жизни, тогда как эти находят возможным жизнь измерять приобретением и потребностью прибыли. Добрый государь должен отстраняться сам и ограждать своих подданных от этой заразы, чтобы добродетельный управлял добродетельными, возбуждая соревнование в добродетелях, и сам государь пусть явится участником и распорядителем этого соревнования. Позорно, сказал некто, состязаться публично в метании копья и в борьбе, награждать победителей этих состязаний венками и никак не соревноваться в воздержности и добродетели. [1] Вероятно, больше, чем вероятно и даже совершенно несомненно, что этому настроению государя будут следовать города, ^восстановится древнейшая золотая славная жизнь, устраняющая зло и дающая простор для всех благ и прежде всего для благочестия. Вождем же и в этом пусть будет государь, испрашивая свыше благословение на начало всякого большого и меньшего дела. Поистине ничего нельзя увидеть и представить почтеннее того государя, который впереди народа, воздевая руки, поклоняется общему своему и своего народа царю. Благочестивому государю разумно умилостивлять божество прославлением и служением, вступая с ним в общение таинственными связями. Кто почтителен к богу, тот будет также расположен и к людям и будет являть себя им таким, каким сам познает царя [т. е. бога]. При этом, естественно, проявится все должное. А моя речь снова возвратится, к тому, о чем я говорил немного раньше.
26. Признаком государя мы считаем его благодеяния, благотворительность в раздаче благ и милостей и другие присущие также и богу качества, которые мы перечисляем. Это и то, что было сказано раньше, прежде чем мы объявили о намерении в своей речи изобразить идеал государя, теперь будет изложено по частям, и пусть статуя будет окончена. Основное же заключается в том, что как раздаватель благ он должен быть неутомимым в выполнении этого, так же, как неутомимо солнце, изливающее лучи на животных и растения. Оно делает это без всякого труда, так как содержит в своей сущности свет и источник света. Итак, внедряясь естественно во все проявления жизни, пусты [государь] сам управляет всем, куда только взор его проникает. И тех, кто всего ближе стоит к его трону, кто уступает одному ему, а первенствует над прочими, пусть вдохновит царским настроением души, возложит на них обязанность помогать людям сообразно полученных каждым полномочий.
27. Затем при таком пространстве империи необходимо извне посылать правителей. Должен быть произведен тщательный отбор судебных архонтов, так как эта забота ответственная и божественная.
1. Слова киника Диогена — см. Diogenes Laertius, VI, 27.
356
Ибо желание видеть каждое место и человека, и [рассмотреть каждую] тяжбу требует больших разъездов, и даже Дионисий, поставленный властителем одного острова и притом не целого, не мог обеспечить о нем заботу. Через немногих попечителей должно позаботиться о многих· Можно назвать божественным и всеобщим попечением то, которое основывается на незыблемом порядке и не пренебрегает малейшими частями, чтобы и малое не осталось без призрения и ничто таким образом не ускользнуло от его внимания. Пользуясь этим, бог не сам занимается каждым из мелких дел, но использует природу, как орудие, оставаясь в обычном состоянии, и является причиной всех благ, являясь причиной причин. Так и государю нужно заняться попечением о всем. Правителей, с которыми он будет разделять власть, он должен иметь справедливейших и прекраснейших. Для него легче знать немногих, чем многих, и узнать, хорошо или худо они управляют. Он должен избирать правителей по достоинству, а не по богатству; в болезнях мы доверяемся не тем врачам, которые богаты, но тем, которые наиболее сведущи в своем деле. Тем больше должно предпочитать богатому архонта, знающего искусство управления, так как на него возлагается и больше ответственности в результате плохого или хорошего ведения дел. Справедливо ли избирать в правители того, кто порочным образом приобрел богатство, и предпочитать его хотя и бедному, но справедливому и добродетельному человеку, который именно потому, что был справедлив, не стыдится общения с бедностью. Но разбогатевший каким-то образом, купивший власть, не знает, как он станет поборником правды. Кажется мне, что не легко он возненавидит несправедливость и пренебрежет богатством, а скорее наоборот, он превратит присутственные места в места продажи правосудия. Мало вероятно, чтобы он с открытым лицом и холодными глазами смотрел на золото. Напротив, он будет питать почтение, уступать и, наконец, пожелает отблагодарить того, к кому он должен питать благодарность, так как за долю богатства юн уступил тому [интересы] государства и отдал за плату города, как какую-то продажную вещь. Он знает, что благодаря этому он сделался почитаемым и восседает на возвышенном троне, на который с подобострастием взирают не только многочисленный плебс, но даже и благородные люди — справедливые и бедные.
28. Но ты сделай так, чтобы несколько ценился и ревнитель добродетели, хотя и бедный. Пусть не скрывается от тебя ум человека, справедливость и прочее множество добродетелей, прикрытые худой одеждой, но выдвигай такого человека, почти добродетель, чтобы она находила общественное применение. Нужно, чтобы она не оставалась дома в бездействии, но чтобы она действовала открыто и вела борьбу. Твердо помни, что если ты теперь ее прославишь, то сам будешь прославляем всеми долгие времена, дав образчик счастливого царствования. Если это сделаешь, то тотчас увидишь многих, стыдящихся приобретенных богатств, других гордящихся добровольно избранной бедностью, и изменятся существующие в настоящее время мнения об этом, так, что приобретать богатства будет считаться предосудительным, а бедность будет занимать почетное место. Из всего великого и прекрасного, что бог даровал императорскому достоинству, не меньше, а больше всего можно удивляться и прославлять его сильное влияние на своих подданных, так как государь может изменять мнения, внедренные долгим обычаем и предшествовавшей роскошью, если открыто будет уважать и превозносить противоположное. То, что нравится государю, необходимо должно расти и усваиваться многими.
357
29. Дойдя до этого в своей речи, я желаю вознести мольбу относительно своих любимцев. О если бы, государь, тебя пленила любовь к философии и истинной образованности! Ибо из того, что я сказал прежде, необходимо следует, что у тебя будет много в этом соперников, и пусть они будут в какой-нибудь чести и уважении.
В настоящее время, когда она [любовь к философии] считается презренной, есть опасность, что она погаснет совершенно, и в данный момент даже не существует никакого облегчения тем, которые желали бы ее воспламенить. Но разве только о философии я выражаю пожелания? Разве ей будет хуже, если она будет удалена от сообщества людей? Но она помещает свой очаг у бога, о котором много заботится, когда пребывает здесь. А если ее, сошедшую на землю, здесь не принимают, она остается у своего отца, справедливо говоря нам:
„Не нуждаюсь в этой я чести. И так воля Зевеса
Меня вознесла“. [1]
Дела же человеческие в зависимости от ее присутствия и отсутствия становятся хуже и лучше и даже достигают вершин счастья и бездны неудач. Поэтому за них и за философию я возношу мольбы.
О если бы даровал бог и я осуществил то желание, которое выразил Платон, [2] но не добился его осуществления! О если бы я видел, что в тебе философия соединилась с государственной властью! Никто тогда не услышит более моих рассуждений о государстве. Ибо время уже замолчать, так как в одной речи я охватил все. Насколько я смог, я дал то, к чему стремился сначала, обещая в своей речи показать тебе образ государя.
Поистине моя речь является только тенью предмета. Тебя же прошу оживить его и сделать реальностью. И я увижу это спустя короткое время, и ты возвратишь мне образ государя, если мои речи не проскользнули мимо твоих ушей, но влились в них и внедрились в глубине твоей души. Я убежден, что не без божественного промысла философия устремилась к этому увещанию, но по внушению божества, которое, как легко предположить, желает улучшить твои дела. Я же по справедливости буду первый наслаждаться всходами моих посевов, увидя тебя в действительности таким государем, каким рисовал в идеале, когда приготовил и держал речь о нуждах городов.
1. Слова Ахилла — Гомер. Илиада, IX, 607.
2. Платон. Политика или государство, СПб., 1863, стр. 284 (перевод Карпова).