Часть I
ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН И ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА
Славяне и Дунай — "Прародина" - "Взятие родины" — Первоначально ограниченная территория? — Изначальность диалектного членения
Праславянский - живой язык или "непротиворечивая" модель? — "Метод исключения" — Подвижность древнего ареала — Славянский и балтийский — Сходства и различия — Поздние балты в верхнем Поднепровье — Подвижность балтийского ареала — Балто-дако-фракийские связи III тыс. до н.э. (славянский не участвует)- Карта 1. I период, III тысячелетие до н.э.
Когда появился праславянский язык? — Славяне и Центральная Европа (балты не участвуют) — Славяне и иллирийцы — Кентумные элементы в праславянском — Балты на янтарном пути
- Карта 2. II период, II тысячелетие до н.э.
- Карта 3. III период, 1-я половина I тысячелетия до н.э.
- Карта 4. IV период, 2-я половина I тысячелетия до н.э.
Балтийский и "древнеевропейская" гидронимия — Сближение балтов и славян
Славянский и "древнеевропейская" гидронимия — Праиндоевропейский ареал — Дунайский регион — Праславяне на Дунае — Славяне восточные, западные, южные — Славянская ономастика Подунавья; Сравнительный возраст этнонимии и антропонимии — Кельты и славяне — Проблема невров — Языковые связи и культура (славяне, кельты, иранцы, индоарийцы) — Начальные города славян (Киев)
Индоевропейские истоки праславянского языка и этногенеза — Свидетельства археологии — "Когда появился праславянский язык?" — Мифы сравнительного языкознания и истории культуры — Против прямолинейных заключений — Статичность популярных концепций социальной и этнической истории индоевропейцев — Непрерывная эволюция индоевропейской Европы — К вопросу об индоевропейском консонантизме — Семитское влияние на индоиранский вокализм? — О русском аканье
Изоглоссы внутри ареала сатэм. Daco-slavica — Название конопли в свете проблемы сатэм в Восточной Европе — Об отражении индоевропейского консонантизма в славянском языке-сатэм — Центр праславянских фонетических инноваций - в Паннонии — О центре индоевропейского ареала — Славянский ареал - в Центральной Европе
Самоназвание и самосознание — Типология этногенеза: балто-славянские отношения — Типология этногенеза: германо-славянские аналогии — Этническая память и вопрос о древнем двуязычии — Продолжение поисков в Центральной Европе — Среднедунайский ареал — Дальнейшее о среднедунайском центре праславянских фонетических инноваций — Типология этногенеза. Германо-славянские аналогии: подвижка юг ↔ север
Дальнейшие германо-славянские аналогии и название железа — Концентричность культурных и языковых ареалов в Центральной Европе — Из загадок на будущее
Глава 7. (Вопросы подвижности праславянского языкового ареала, неоднозначные корреспонденции языкознания и истории культуры. Названия Киев)
- Карта 6. 1 - Киев, Киева, Киево и т.п.; 2 - киевец, киевини (kijowice) и т.д.
Настоящая работа посвящена проблеме лингвистического этногенеза славян - вопросу старому и неизменно актуальному. Тема судеб славянских индоевропейцев не может не быть широка и сложна, и она будет всегда слишком велика даже для специальной монографии, поэтому я вполне сознательно не претендую на подробное и равномерное освещение, но излагаю наиболее, как мне представляется, интересные результаты и наблюдения, главным образом из новых этимологических исследований слов и имен собственных, перед которыми поставлена высшая цель - комбинации и реконструкции моментов внешней языковой и этнической истории.
Собственно, задача проста, насколько может быть проста монументальная задача: отобрать и реконструировать форму, значение и происхождение древнего лексикона славян и извлечь из этого лингвистического материала максимум информации по истории этноса. Над воссозданием праславянского фонда работают в Москве и в Кракове [1], если говорить только о новых больших этимологических словарях. Разумеется над этими и близкими вопросами работает значительно больший круг лиц у нас и во многих других странах. Надежная реконструкция слов и значений - путь к реконструкции культуры во всех ее проявлениях. Почему славяне заменили индоевропейское название бороны новым словом? Как сложилось обозначение действия 'платить' у древних славян? Что следует думать относительно ситуации "славяне и море"? Как образовалось название корабля у славян? На эти и на многие другие вопросы мы уже знаем ответы (к вопросу о море мы еще обратимся далее). Однако многие слова по-прежнему неясны, другие вообще вышли из употребления, забыты, в лучшем случае сохраняются на ономастическом уровне. Отсюда наш острый интерес к ономастическим материалам и новым трудам вроде Словаря гидронимов Украины [2], которые углубляют наши знания древней славянской апеллативной лексики и дают пищу для рассмотрения новых принципиальных вопросов по ономастике, например, о славянском топонимическом наддиалекте, о существовании
1. Подробную характеристику см. [1].
12
![]()
славянских генуинных гидронимов, т.е. таких, у которых апеллативная стадия отсутствует, например, *morica и его продолжения в разных славянских гидронимиях.
Наконец, древний ареал обитания, прародину славян тоже нельзя выявить без изучения этимологии и ономастики. Как решается этот вопрос? Есть прямолинейные пути (найти территорию, где много или все топонимы-гидронимы чисто славянские) и есть также, должны быть, более тонкие, более совершенные пути. Что происходило с запасом лексики и ономастики, когда мигрировал древний этнос? Называл ли он только то, что видел и знал сам? Но словарь народа превосходит действительный (актуальный) опыт народа [3, с. XLVII], а значит, он хранит еще не только свой древний петрифицированный опыт, но также и чужой, услышанный опыт. Это тоже резерв нашего исследования. Славянская письменность начинается исторически поздно - с IX в. Но славянское слово или имя, в том числе отраженное в чужом языке, - это тоже запись без письменности, меморизация. Например, личное имя короля антов rex Boz у Иордана (обычно читают Бож 'божий') отражает раннеславянское *voǯь или *vožь, русск. народ. вож (калька гех = вож), книжн. вождь, уже в IV в. с проведенной палатализацией, слово вполне современного вида.
СЛАВЯНЕ И ДУНАЙ
Чем были вызваны вторжения славян в VI в. в придунайские земли и далее на юг? Союзом с аварами? Слабостью Рима и Константинополя? Или толчок к ним дали устойчивые предания о древнем проживании по Дунаю? Может быть, тогда вся эта знаменитая дунайско-балканская миграция славян приобретет смысл реконкисты, обратного завоевания, правда, в силу благоприятной конъюнктуры и увлекающегося нрава славян несколько вышедшего из берегов... Чем иным, как не памятью о былом житье на Дунае, отдают, например, старые песни о Дунае у восточных славян - народов, заметим, на памяти письменной истории никогда на Дунае (scil. - Среднем Дунае) не живших и в раннесредневековые балканские походы не ходивших. Если упорно сопротивляться принятию этого допущения, то можно весьма затруднить себе весь дальнейший ход рассуждений, как это случилось с К. Мошинским, который, слишком строго понимая собственную концепцию среднеднепровской прародины славян, пришел даже к утверждению, что в русских былинах Дунаем назывался Днепр ... [4, с. 152-153] [*]. Ненужное и неестественное предположение.
*. Не более убедителен и З. Голомб, развивающий мнение Мошинского в том смысле, что слав. Dunajь/Dunavь первоначально обозначало будто бы Днепр, а затем этот оригинальный (?) славянский гидроним был перенесен вторично на реку с "похожим" чужим названием (герм. *Dōnawi). Так см.: Gołąb Z. Etnogeneza Słowian w świetle językoznawstwa // Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej. Wrocław etc., 1987. Т. I. Pod. red. G. Labudy i S. Tabaczyńskiego. S. 74. - И все-таки для меня остается неясным, зачем потребовалось это искусственное построение, в то время как германское происхождение-заимствование-слав. *Dunavь/*Dunajь очевидно вплоть до деталей фонетики (герм. ō > слав. u) и, если угодно, - морфологии (вариация исходов слав. * Dunavь/*Dunajь - в зависимости от падежных флексий германского прототипа).
13
![]()
Еще более трудным оказывается положение тех ученых, которые с Лер-Сплавинским пытаются доказать, что у славян был широко распространен первоначально не гидроним Dunaj, а апеллатив dunaj 'лужа', 'море', якобы из и.-е. *dhou-nā [5, с. 74-75]. В последние годы эту неудачную этимологию повторил Ю. Удольф [6, с. 367]. Заметим, что все трое ученых ищут прародину славян в разных местах: Лер-Сплавинский - в междуречье Одера и Вислы, Мошинский - в Среднем Поднепровье, а Удольф - в Прикарпатье. Их объединяет, пожалуй, лишь стремление опровергнуть древнее знакомство славян с Дунаем - гидронимом и рекой, настойчиво подсказываемое языком. А стоило, наверное, прислушаться к голосу языка.
Термин "прародина" крайне неудачен и обременен биологическими представлениями, которые сковывают мысль и уводят ее на неверные пути (есть, правда, словоупотребление еще более романтичное и соответственно менее научное, чем прародина, Urheimat, - польск. prakolebka 'древняя колыбель' [7, с. 321 и сл.], англ. cradle). Отсюда можно заключить, что если у человека родина - одна, то и у народа, языка - одна прародина. Однако небольшой типологической аналогии достаточно, чтобы задуматься всерьез над другой возможностью. Пример - венгры, у которых родин или прародин было несколько: приуральская, где они сформировались и выделялись из угорской ветви, севернокавказская, где они общались с тюрками-булгарами, южноукраинская, где начался их симбиоз с аланами, и, наконец, "взятие родины" на Дунае - венг. honfoglalás, нем. Landnahme, термин, кстати, очень деловой и весьма адекватный, не содержащий иллюзию изначальности, которая неизбежно присутствует в слове прародина. Исландцы тоже хорошо помнят свое "взятие родины" (landnáma). Поэтому методологически целесообразнее сосредоточиться не на отыскивании одной ограниченной прародины, а на лингвоэтногенезе, или лингвистических аспектах этногенеза. Четкой памяти о занятии родины у славян не сохранилось, о чем, с одной стороны, можно пожалеть, имея в виду доказанную эффектную траекторию древних венгров из Приуралья на Дунай и память о ней, а с другой стороны - нужно научиться правильно интерпретировать сам факт отсутствия памяти о приходе славян издалека. Ведь существуют примеры тысячелетней памяти о ярких событиях в жизни народа (в первую очередь - об этнических миграциях) даже в условиях полного отсутствия письменности. Отсутствие памяти
14
![]()
о приходе славян может служить одним из указаний на извечность обитания их и их предков в Центрально-Восточной Европе в широких пределах.
Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что в настоящее время надо считать законченным (исчерпавшим себя) предыдущий период или направление прямолинейных исканий прародины славян, когда с усилением темпа миграции прямо ассоциировали убыстрение изменений языка и лексики, когда исходный характер этнической области старались обосновать, всеми силами доказывая славянскую принадлежность ее (макро)гидронимии или обязательное наличие в ней "чисто славянской топонимики", будь то висло-одерская с постепенным расширением в одерско-днепровскую [8], или правобережносреднеднепровская [9], или припятско-полесская [10].
ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОГРАНИЧЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ?
Прежде чем мы приступим к пересмотру распространенной аргументации прародины, полезно вспомнить мудрые слова Брюкнера, который давно ощутил методологическую неудовлетворительность постулата ограниченной прародины: "Не делай другому того, что неприятно тебе самому. Немецкие ученые охотно утопили бы всех славян в болотах Припяти, а славянские - всех немцев в Долларте (устье реки Эмс. - О.Т.); совершенно напрасный труд, они там не уместятся; лучше бросить это дело и не жалеть света божьего ни для одних, ни для других" (цит. по [11]). Это, конечно, была шутка, но проблема размера прародины имеет серьезное научно-методологическое значение. Верно замечено, что идея ограниченной прародины (в немецкой этногенетической литературе активно пользуются еще термином "Keimzelle", буквально "зародышевая клетка", что совсем уводит нас в биологию развития) - это пережиток теории родословного древа [12, с. 342]. Необходимо считаться с подвижностью праславянского ареала, с возможностью не только расширения, но и сокращения его, вообще - с фактом сосуществования разных этносов даже внутри этого ареала, как и в целом - со смешанным характером заселения древней Европы, далее - с неустойчивостью этнических границ и проницаемостью праславянской территории. Вспомним поучительный пример прохода венгров в IX в. сквозь восточнославянские земли уже в эпоху Киевского государства. Отдельность этноса не исключала его дисперсности [13], а для древней поры просто обязательно предполагала ее.
ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ ДИАЛЕКТНОГО ЧЛЕНЕНИЯ
Хотя современное изучение индоевропейских диалектов ведут обычно от Мейе, он вполне отдавал дань унитаристской концепции индоевропейского праязыка [12, с. 330], а славянские языки тем более производил из "почти единого наречия" [14, с. 1], забывая в данном
15
![]()
вопросе завет своего учителя Ф. де Соссюра о диалектном членении внутри первоначального ареала. Стоит ли удивляться, что до последнего времени говорят о "единстве" общеславянского языка [15], покойный З. Штибер пришел даже к выводу, что до 500 г. н.э. в славянском имелась только одна (!) диалектная особенность, в чем ему тут же вполне резонно возразили, что так просто не могло быть в тех условиях [16]. Малые размеры праславянской территории, как и первоначальная бездиалектность праславянского языка, - это не доказанные истины, а предвзятые идеи. В науке накоплен большой материал, свидетельствующий об ином. Индоевропеистика давно считается с диалектными различиями внутри первоначального ареала [17]. Современная романистика уже не держится за идею единой народной латыни [12, с. 326]. С разных сторон указывают на то, что язык есть интеграция [18], что славянский языковой тип - результат консолидации [19], что уместно говорить о многокомпонентности каждого языка [12, с. 334], наконец, доступные письменные свидетельства о древних эпохах прямо показывают, что чем дальше в глубь веков, тем языков было больше, а не меньше. В духе понимания этих или подобных фактов в современной литературе по истории русского и славянских языков можно чаще встретить выражение вроде "славянское этноязыковое объединение" [20]. Верно замечено, что праславянский язык - не искусственная модель, а живой, многодиалектный язык.
ПРАСЛАВЯНСКИЙ - ЖИВОЙ ЯЗЫК ИЛИ "НЕПРОТИВОРЕЧИВАЯ" МОДЕЛЬ?
Эпоха структурного моделирования в последние два десятилетия ощутимо коснулась и праславянского языка, в чем-то притормозив полноту постижения его оригинальных особенностей, потому что в моделировании, в конструировании "непротиворечивой" модели как нигде проявляется это reductio ad unum [21], упрощающее, а не обогащающее наши представления о предмете.
Принимая во внимание авторитетность языкознания, можно понять, что такая унитаристская концепция праславянского языка не могла не влиять негативно на историю и археологию, ср., например, высказывание историка о едином "государстве" (!) всех славян перед их экспансией [2], распространение среди археологов преувеличенных мнений об общности материальной культуры древних славян, тогда как славянство в действительности археологически не монолитно [22]. Архаизм языка отнюдь не проистекает прямо от автохтонизма народа, как, впрочем, и инновации не обязательно связаны с миграциями. Все это самостоятельные лингвистические вопросы. Что же
2. См. [4, с. 115-116].
16
![]()
касается этнического автохтонизма, то это особая проблема: Хирт, например, считал, что славяне и балты дольше других оставались в пределах индоевропейской прародины [23, с. 23], а археолог Косинна утверждал, что славяне и арийцы (балтов он вообще в расчет не принимал) были дальше всех от центра на восток [24].
Унитаристская концепция рассматривала лингвистическую дифференциацию (Мейе: "свой собственный тип") как результат внешнего импульса - субстрата [25, 5, с. 95]. Ниже мы еще коснемся разных моделей праславянского языка в духе сложения-вычитания. А в вопросе о субстрате нам больше импонирует точка зрения Покорного в том, что "каждый народ реагирует на свой субстрат поразному" [26].
Таким образом, на смену представлению о первоначально бездиалектном праславянском языке приходит учение о диалектно сложном древнем языке славян с сильно развитым древним диалектным словарем [3]. Неверным оказывается популярное деление истории праславянского языка на два периода - консервативный (якобы оседлый) период и период коренных изменений (миграционный). Существуют серьезные доводы, что как раз оседлая жизнь создает условия для дифференциации языка, тогда как кочевая жизнь сглаживает различия [12, S. 340].
Из верного общего положения о конечности также языкового развития не следует вывод, что в условиях праязыка и прародины один язык можно объяснить, лишь возведя его к другому, подобно тому как это нередко делается в археологии путем объяснения одной культуры из другой.
Возможна ли чисто славянская гидронимическая область? Нет, это наивная концепция. В пределах славянского ареала всегда были дославянские и неславянские элементы, как были они, бесспорно, и в Прикарпатье, что вынужден признать и Удольф. Стерильно чистое (бессубстратное) этническое пространство - исключительное и сомнительное явление. Нет чисто славянских топонимических территорий [29], и одна эта выразительная констатация бесповоротно зачеркивает "метод исключения" немецкой школы (Фасмер, сейчас - Удольф), который, если применять его прямолинейно ("где не жили праславяне?"), исключит славян из Европы совсем, что, конечно, не соответствует действительности и не может отменить факта древнего обитания славян в Центрально-Восточной Европе в достаточно широких (и подвижных) пределах.
3. О древней диалектной сложности праславянской лексики см. впервые [27]. Например, слав. vesna, праиндоевропейского происхождения, никогда не было общеславянским, в южнославянском оно отсутствует - см. [28].
17
![]()
Как исследовать древнюю подвижность славянского ареала средствами языкознания - ономастики и этимологии? Важнейшим материалом для этого служат состав и происхождение местных (водных) названий. При этом обращают внимание на кучность однородных названий, а район кучности водных названий исконного славянского вида объявляется районом древнейшего распространения славян, иначе - их прародиной. Именно такой прямолинейный вывод относительно Прикарпатья (бывшая Галиция) сделал в своей новой большой книге (см. [6]) Ю. Удольф. Однако динамика этнических передвижений отражается в топонимии не прямо, а преломленно. Кучность однородных славянских названий как раз характеризует зоны экспансии, колонизованные районы, а отнюдь не очаг возникновения, который по самой логике должен давать неяркую, смазанную картину, а не вспышку. Это положение обосновал В.А. Никонов [30, с. 478]. Удольф обнаружил в Прикарпатье, по-видимому, один из районов освоения славянами, но не искомую их прародину. Второе положение Никонова - об относительной негативности топонимии ("в сплошных лесах бессмысленны названия Лес.." [30, с. 478] - тоже имеет самое прямое отношение к вскрытию динамики заселения через анализ топонимии, но оно, к сожалению, прошло незамеченным как для Удольфа, так и для его рецензента Дикенмана [31]. Оба они удивлены, почему в гидронимии болотистого Полесья не встретишь термина Болото, а между тем, в Полесье, как мы теперь знаем, все в порядке в смысле соответствия принципам языковой номинации (см. выше). В современной индоевропеистике было бы полезно шире применять эти положения, что помогло бы избежать ошибок или явных преувеличений, одно из которых мы специально рассмотрим далее.
Важным критерием локализации древнего ареала славян служат родственные отношения славянского к другим индоевропейским языкам и прежде всего - к балтийскому. Принимаемая лингвистами схема или модель этих отношений коренным образом определяет их представления о местах обитания праславян. Например, для Лер-Сплавинского и его последователей тесный характер связи балтийского и славянского диктует необходимость поисков прародины славян в непосредственной близости к первоначальному ареалу балтов [5, с. 28]. Неоспоримость близости языков балтов и славян подчас отвлекает внимание исследователей от сложного характера этой близости. Впрочем, именно характер отношений славянских и балтийских языков стал предметом непрекращающихся дискуссий современного языкознания, что, согласимся, делает балто-
18
![]()
славянский языковой критерий весьма ненадежным в вопросе локализации прародины славян. Поэтому сначала необходимо, хотя бы кратко, остановиться на самих балто-славянских языковых отношениях.
Начнем с лексики как с важнейшей для этимологии и ономастики. Сторонники балто-славянского единства указывают большую лексическую общность между этими языками - свыше 1600 слов [5, с. 25 и сл.]. Кипарский аргументирует эпоху балто-славянского единства общими важными инновациями лексики и семантики: названия "голова", "рука", "железо" и др. [32]. Но железо - самый поздний металл древности, отсутствие общих балто-славянских названий более древней меди (бронзы) наводит на мысль о контактах эпохи железного века, т.е. последних столетий до нашей эры (ср. аналогию кельтско-германских отношений). Новообразования же типа "голова", "рука" принадлежат к часто обновляемым лексемам и тоже могут относиться к более позднему времени. Вышеупомянутый "аргумент железа" уже до детальной проверки показывает шаткость датировки выделения праславянского из балто-славянского временем около 500 г. до н.э. [33].
Существует немало теорий балто-славянских отношений. В 1969 г. их насчитывали пять [34]: 1) балто-славянский праязык (Шлейхер); 2) независимое, параллельное развитие близких балтийских и славянских диалектов (Мейе); 3) вторичное сближение балтийского и славянского (Эндзелин); 4) древняя общность, затем длительный перерыв и новое сближение (Розвадовский); 5) образование славянского из периферийных диалектов балтийского (Иванов-Топоров). Этот перечень неполон и не совсем точен. Если теория балто-славянского праязыка или единства принадлежит в основном прошлому, несмотря на отдельные новые опыты, а весьма здравая концепция независимого развития и вторичного сближения славянского и балтийского, к сожалению, не получила новых детальных разработок, то радикальные теории, объясняющие главным образом славянский из балтийского, переживают сейчас свой бум. Впрочем, было бы неверно возводить их все к теории Иванова-Топорова, поскольку еще Соболевский выдвинул теорию о славянском как соединении иранского языка -х и балтийского языка -с [35]. Аналогично объяснял происхождение славянского Пизани - из прабалтийского с иранским суперстратом [36]. По мнению Лер-Сплавинского, славяне - это западные протобалты с наслоившимися на них венетами [5, с. 114]. По Горнунгу, наоборот - сами западные периферийные балты оторвались от "протославян" [37]. Идею выделения праславянского из периферийного балтийского, иначе - славянской модели как преобразования балтийского состояния, выдвигают работы
19
![]()
Топорова и Иванова [38-39]. Эту точку зрения разделяет ряд литовских языковедов [40]. Близок к теории Лер-Сплавинского, но идет еще дальше Мартынов, который производит праславянский из суммы западного протобалтийского с италийским суперстратом - миграцией XII в. до н.э. (?) - и иранским суперстратом [41-43]. Немецкий лингвист Шаль предлагает комбинацию: балтославяне = южные (?) балты + даки [44]. Нельзя сказать, чтобы такой комбинаторный лингвоэтногенез удовлетворял всех. В.П. Шмид, будучи жарким сторонником "балтоцентристской" модели всего индоевропейского (об этом - ниже), тем не менее считает, что ни балтийский из славянского, ни славянский из балтийского, ни оба - из балто-славянского объяснить нельзя [45]. Методологически неудобными, ненадежными считает как концепцию балто-славянского единства, так и выведение славянских фактов из балтийской модели Г. Майер [46-47]. Довольно давно замечено наличие многочисленных расхождений и отсутствие переходов между балтийским и славянским [48], выдвигалось мнение о балто-славянском языковом союзе [49-50] с признаками вторичного языкового родства и разного рода ареальных контактов. За этими контактами и сближениями стоят глубокие внутренние различия. Еще Лер-Сплавинский, выступая с критикой произведения славянской модели из балтийской, обращал внимание на неравномерность темпов балтийского и славянского языкового развития [51]. Балто-славянскую дискуссию следует настойчиво переводить из плана слишком абстрактных сомнений в "равноценности" балтийского и славянского, в одинаковом количестве "шагов", проделанных одним и другим (чего, кажется, никто и не утверждает), - переводить в план конкретного сравнительного анализа форм, этимологии слов и имен. Фактов накопилось достаточно, в чем убеждает даже беглый взгляд.
Глубокие различия балтийского и славянского очевидны на всех уровнях. На лексико-семантическом уровне эти различия обнаруживают древний характер. По данным Этимологического словаря славянских языков (ЭССЯ) (сплошная проверка вып. 1-7), такие важнейшие понятия, как "ягненок", "яйцо", "бить", "мука", "живот", "дева", "долина", "дуб", "долбить", "голубь", "господин", "гость", "горн (кузнечный)", выражаются разными словами в балтийских и славянских языках. Список этот, разумеется, можно продолжить, в том числе на ономастическом уровне (этнонимы, антропонимы).
Элементарны и древние различия в фонетике. Здесь надо отметить передвижение балтийских рядов чередования гласных в противоположность консервативному сохранению индоевропейских рядов аблаута в праславянском [4]. Совершенно независимо прошла в
4. Имело место прямое отражение вокализма и.-е. *prō-, * pō > слав. pra-, pa- и преобразование и.-е. *prō-, * pō- > балт. *prā-, *pā-, иначе ожидалось бы регулярное балт. (литов.) *pruo-, *puo-, см. [47, S. 57].
20
![]()
балтийском и славянском сатемизация рефлексов палатальных задненебных, причем прабалтийский рефлекс и.-е. k̑ → š, не известный праславянскому, проделавшему развитие k̑ > *c > s [5]. Найти здесь "общую инновацию системы согласных" элементарно невозможно, и недавняя попытка Шмальштига прямо соотнести š в слав. pišetь 'пишет' (из sj!) и š в литов. piẽšti 'рисовать' [53] должна быть отвергнута как анахронизм.
Еще более красноречивы отношения в морфологии. Именная флексия в балтийском более архаична, чем в славянском, впрочем, и здесь отмечаются праславянские архаизмы вроде род. п. ед. ч. *ženy < *gu̯enōm-s [6]. Что же касается глагола, то его формы и флексии в праславянском архаичнее и ближе индоевропейскому состоянию, чем в балтийском [55]. Даже те славянские формы, которые обнаруживают преобразованное состояние, как, например, флексия 1-го л. ед. ч. наст, времени -ǫ (и.-е. -ō + вторичное окончание -m?), вполне самобытны и не допускают объяснения на балтийской базе. Распределение отдельных флексий резко отлично, ср., например, -s- как формант славянского аориста, а в балтийском - будущего времени [14, с. 20]. Старый аорист на -ē сохранен в славянском (мьнѣ), а в балтийском представлен в расширенных формах (литов. minė́jo) [56]. Славянский перфект *vĕdĕ, восходящий к индоевропейскому нередуплицированному перфекту *u̯oi̯da(i̯), - архаизм без балтийского соответствия [57]. Славянский императив *jьdi 'иди' продолжает и.-е. *i-dhí, не известное в балтийском. Славянские причастия на -lъ имеют индоевропейский фон (армянский, тохарский); балтийский не знает ничего подобного [14, с. 211]. Целую проблему в себе представляют флексии 3-го л. ед. - мн. ч. [58], причем славянский хорошо отражает форманты и.-е. -t: -nt, полностью отсутствующие в балтийском; если даже считать, что в балтийском мы имеем дело с древним невключением их в глагольную парадигму, то тогда в славянском представлена ранняя инновация, связывающая его с рядом индоевропейских диалектов, за исключением балтийского. Ясно, что славянская глагольная парадигма - это индоевропейская модель, не сводимая к балтийскому [7]. Реконструкция глагола в славянском имеет большую глубину, чем в балтийском [60].
Что касается именного словообразования, то на его глубокие отличия как в балтийском, так и в славянском обращали внимание и сторонники, и противники балто-славянского единства [61-63].
5. См., вслед за О.Н. Трубачевым [52].
6. См., вслед за Кноблохом [54].
7. Естественный вывод об индоевропейской самобытности и большей, сравнительно с балтийским, архаичности славянского глагола, несводимости его к балтийскому состоянию в работе [59], к сожалению, не сделан.
21
![]()
ПОЗДНИЕ БАЛТЫ В ВЕРХНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ
После такой краткой, но как можно более конкретной характеристики балто-славянских языковых отношений, естественно, конкретизируется и взгляд на их взаимную локализацию.
Эпоха развитого балтийского языкового типа застает балтов, по-видимому, уже в местах, близких к их современному ареалу, т.е. в районе Верхнего Поднепровья. В начале I тыс. н.э. там во всяком случае преобладает балтийский этнический элемент [64, с. 236]. Считать, что верхнеднепровские гидронимы допускают более широкую - балто-славянскую характеристику [65], нет достаточных оснований, равно как и искать ранний ареал славян к северу от Припяти. Развитый балтийский языковой тип - это система форм глагола с одним презенсом и одним претеритом, что весьма напоминает финские языки [66] [8]. После этого и в связи с этим можно привести мнение о гребенчатой керамике как вероятном финском культурном субстрате балтов этой поры; здесь же уместно указать на структурные балто-финские сходства в образовании сложных гидронимов со вторым компонентом '-озеро' прежде всего [9].
ПОДВИЖНОСТЬ БАЛТИЙСКОГО АРЕАЛА
Но к балтийскому ареалу мы должны подходить с тем же мерилом подвижности (см. выше), и это весьма существенно, поскольку ломает привычные взгляды в этом вопросе ("консервативность" = "территориальная устойчивость"). При этом вырисовываются разные судьбы этнических балтов и славян по данным языка.
БАЛТО-ДАКО-ФРАКИЙСКИЕ СВЯЗИ III ТЫС. ДО Н.Э.
(славянский не участвует)
"Праколыбель" балтов не извечно находилась где-то в районе Верхнего Поднепровья или бассейна Немана [68], и вот почему. Уже довольно давно обратили внимание на связь балтийской ономастической номенклатуры с древней индоевропейской ономастикой Балкан. Эти изоглоссы особенно охватывают восточную - дако-фракийскую часть Балкан, но касаются в ряде случаев и западной - иллирийской части Балканского п-ова. Ср. фрак. Σέρμη - литов. Sérmas, названия рек, фрак. Κέρσης - др.-прусск. Kerse, названия лиц [69, с. 93, 100]; фрак. Ἔδεσσα, название города, - балт. Ведоса, верхнеднепровский гидроним, фрак. Σάλδαπα - литов. Žel̃tupė и др. [70].
8. Автор указывает на глагольную систему финского (один презенс - один претерит) в связи с упрощением системы времени в германском. О финском субстрате теперешнего балтийского ареала см. [67].
9. Ср. литов. Akležeris, Baltežeris, Gùdežeris, Juodežeris, Klēvžeris, лтш. Kalnezers, Purvezers, Saulezers и другие сложения на -ežeris, -upe, -upis "финского" типа, ср. Выгозеро, Пудозеро, Топозеро на русском Севере; см. [64, с. 169-171].
![]()
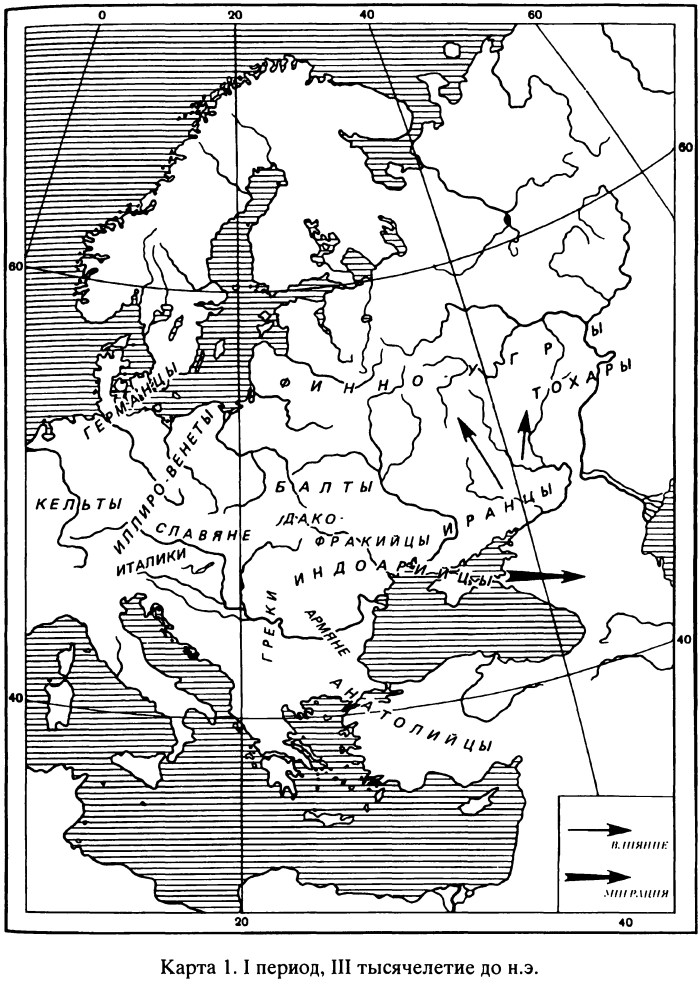
Карта 1. I период, III тысячелетие до н.э.
Из апеллативной лексики следует упомянуть близость рум. doină (автохтонный балканский элемент) - литов. dainà 'песня' [71]. Особенно важны для ранней датировки малоазиатско-фракийские соответствия балтийским именам, ср. выразительное фрак. Προῦσα, название города в Вифинии - балт. Prūs-, этноним [72]. Малоазиатско-фракийско-балтийские соответствия могут быть умножены, причем
23
![]()
за счет таких существенных, как Καῦνος, город в Карии, - литов. Kaũnas [10], Πριήνη, город в Карии, - литов. Prienai, Σινώπη, город на берегу Черного моря, - литов. Sam̃pe < *San-upe, название озера. Затронутые фракийские формы охватывают не только Троаду, Вифинию, но и Карию. Распространение фракийского элемента в западной и северной части Малой Азии относится к весьма раннему времени (вероятно, II тыс. до н.э.), поэтому можно согласиться с мнением относительно времени соответствующих территориальных контактов балтийских и фракийских племен - примерно III тыс. до н.э. [69, с. 100]. Нас не может не заинтересовать указание, что славянский в этих контактах не участвует [69, с. 100].
Раннюю близость ареала балтов к Балканам позволяют локализовать разыскания, установившие присутствие балтийских элементов к югу от Припяти, включая случаи, в которых даже трудно различить непосредственное участие балтийского или балканско-индоевропейского - гидронимы Церем, Церемский, Саремский < *serma- [75, с. 284]. Западно-балканские (иллирийские) элементы необходимо также учитывать (особенно в Прикарпатье, на верхнем Днестре), как и их связи с балтийским [75, с. 276 и сл.; 76] [*].
КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК?
Решить или во всяком случае поставить вопрос, когда появился праславянский язык, наиболее склонны были те лингвисты, которые связывали его появление с выделением из балто-славянского
10. См., вслед за Студерусом и Френкелем [73-74].
*. На этот счет в современной науке представлены как концепции, утверждающие и развивающие мысль об изначальном (с III тыс. до н.э. и ранее) обитании древних балтов в Центральной России (напр. З. Голомб, см. о его работах у нас ниже), так и достаточно основательная критика исконности древнебалтийского ареала в указанном регионе. См. специально: Kilian L. Mittelrußland Urheimat der Balten? (Sine loco). September 1988, passim. Известный западногерманский археолог последовательно указывает, что так называемым "балтам Подмосковья" стратиграфически предшествуют признаки достаточно интенсивного финно-угорского заселения, далее - что днепровская культура также не может считаться прабалтийской (здесь же - о спорности балтийской принадлежности милоградской культуры). Сам Килиан убежден в исконнобалтийском характере береговой культуры Южной Прибалтики (Haffküstenkultur), находя единомышленников в археологе М. Гимбутас и лингвисте В.П. Шмиде. Отсюда - из Южной Прибалтики (предполагает Килиан) - начинается юго-восточная миграция пруссов и других балтов, приводящая их в "Южную Россию". Здесь уместно четко обозначить наше естественное расхождение с Л. Килианом, ибо наиболее южная локализация балтов (напр. к югу от Припяти), которая, по Килиану, есть вторичный этап, по нашим данным - древнейший установимый балтийский ареал, и против этого вряд ли можно возражать, если не упускать из виду хотя бы балто-палеобалканских (дако-фракийских) связей предположительно III тыс. до н.э. (по Дуриданову). Если верно, что балто-иллирийские отношения были реальны и в более северных районах, учитывая первоначально более северное расположение иллирийцев (см. и Kilian L. Op. cit. S. 27), то утверждать то же самое о дако-фракийцах мы не можем. Следы последних не заходят севернее Среднеднепровского Правобережья и Припяти.
24
![]()
единства, приурочивая это событие к кануну новой эры или за несколько столетий до него (так - Лямпрехт, см. [33], а также Лер-Сплавинский, Фасмер). В настоящее время отмечается объективная тенденция углубления датировок истории древних индоевропейских диалектов, и это касается славянского как одного из индоевропейских диалектов. Однако вопрос сейчас не в том, что древняя история праславянского может измеряться масштабами II и III тыс. до н.э., а в том, что мы в принципе затрудняемся даже условно датировать "появление" или "выделение" праславянского или праславянских диалектов из индоевропейского именно ввиду собственных непрерывных индоевропейских истоков славянского. Последнее убеждение согласуется с указанием Мейе о том, что славянский - это индоевропейский язык архаического типа, словарь и грамматика которого не испытали потрясений в отличие, например, от греческого (словаря) [14, с. 14, 38, 395].
(балты не участвуют)
Для древнейшей поры, условно - эпохи упомянутых балто-балканских контактов, видимо, надо говорить о преимущественно западных связях славян, в отличие от балтов. Из них древнее других ориентация праславян на связи с праиталийскими племенами. Эти связи в лексике, семантике и словообразовании отражают несложное хозяйство и общие моменты условий жизни и среды обитания на стадии раннепраязыкового развития без признаков заметного превосходства партнера или четкого одностороннего заимствования. Ср. соответствия лат. hospes - слав. *gospodь, favēre - *govĕti (общество, обычаи), struere (*stroi̯-u̯-?) - *strojiti (домохозяйство), palūdes - *pola voda (среда обитания) [11], pōmum 'плод, фрукты' < *po-emom 'снятое, сорванное' - *pojьmo (русск. поймо 'горсть; сколько колоса жнея забирает в одну руку', Даль; сельское хозяйство). В этих отношениях, как правило, не участвуют балты, собственные отношения которых к италийскому (латинскому) характеризуются такими признаками, как полигенез, совпадение явлений, т.е. отсутствие непосредственных контактов [88], несмотря на наличие отдельных (более поздних?) культурных заимствований вроде литов. áuksas 'золото', если из италийского *ausom [23, с. 8], так и не ставшего общебалтийским термином. Более позднему времени, видимо, эпохе развитой металлургии, принадлежат западные контакты праславян, охватывающие не только италийцев, но и германцев, обозначаемые понятием центральноевропейского культурного района [79, с. 331 и сл.]. Ср. праслав. *ĕstĕja (: герм.), *vygnь (: герм., кельт.), *gъrnъ (: итал.), *kladivo (: итал.), *moltь (: итал.). Эти фрагменты германо-
11. См., с использованием работ О.Н. Трубачева и др. [77].
25
![]()
славянских отношений, возможно, древнее (и сохранились хуже) тех более известных германо-славянских языковых отношений, которые представлены большим числом слов (германизмов в славянской лексике) и отражают эпоху после проведения германского передвижения согласных, а в плане этнической истории - симбиоз (тесное сосуществование) германцев и славян, принимаемый некоторыми учеными для пшеворской археологической культуры [80, с. 71, 74]. Но этому предшествовали другие контакты славян на других территориях.
II
тыс. до н.э. застает италиков на пути из Центральной Европы на юг (вот почему
нам трудно согласиться с отождествлением италиков с носителями лужицкой культуры
и с утверждением, что в XII в. до н.э. именно италики с западными балтами
генерировали праславян). В южном направлении двигаются около этого времени и
иллирийцы, не сразу превратившиеся в "балканских" индоевропейцев. Я в основном
принимаю теорию о древнем пребывании иллирийцев к югу от Балтийского моря
[81;
82, с. 169] и считаю, что она еще может быть плодотворно использована
[12].
Вполне возможно, что иллирийцы прошли через земли славян на юг, а славяне, в
свою очередь, распространяясь на север, находили остатки иллирийцев или остатки
их ономастики. Это дает нам право говорить об иллирийско-славянских отношениях.
Иначе трудно объяснить несколько собственных имен: Doksy, местное
название в Чехии, ср. Daksa, остров в Адриатическом море, и глоссу
δάξα∙θάλασσα. Ἠπειρῶται (Гесихий) [84] [13],
Дукля, перевал в
Карпатах, ср. Дукља в Черногории, Δόκλεα (Птолемей) [75, с. 282],
наконец, гапакс ранней польской истории - Licicaviki, название,
приписываемое славянскому племени, но объяснимое только как иллир. *Liccavici,
ср. иллирийские личные имена Liccavus, Liccavius и местное название Lika в Югославии
[84]. На основании названия
местного ветра, дующего
в Апулии, - Atābulus (Сенека), ср. иллир. *bul-, βύριον'жилье',
сюда же Ἀταβυρία, (Ζεὺς) Ἀταβύριος, реконструируется иллир. *ata-bulas,
аналитический препозитивный аблатив "от/из дома", ср. параллельное слав.,
др.-русск. (ѿ
рода Рускаго (Ипат. лет., л. 13), наряду с постпозитивной конструкцией аблатива
и.-е. ![]() 'от волка'. Здесь представлена иллирийско-славянская изоглосса, ценная
ввиду неизвестности иллирийской именной флексии [84].
'от волка'. Здесь представлена иллирийско-славянская изоглосса, ценная
ввиду неизвестности иллирийской именной флексии [84].
12. Отрицание значительного распространения иллирийцев и их соседства со славянами см. [83].
13. См. подробнее об этимологии δάξα [85]. Автор приводит сближение Будимира эпир. глосс. δάξα a 'море' (вар. δάψα) с ζάψ 'прибой' и именем морской богини Θέτις < *Θέπτις, сюда же алб. det/dejet 'море' - как иллир. и догреч. продолжение и.-е. *dheu̯p/b- 'глубокий'.
26
![]()
КЕНТУМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПРАСЛАВЯНСКОМ
Кроме ранних италийско-славянских связей, участия в общих инновациях центральноевропейского культурного района и других изоглоссах (например, иллирийско-славянских), именно в Центральной Европе праславянский язык обогатился рядом кентумных элементов лексики, носящих бесспорно культурный характер [86-87]. Ответственность за них несут, видимо, в значительной степени контакты с кельтами. Так, праслав. *korva, название домашнего животного, восходит, видимо, через стадию *kărăvā [14] к форме, близкой кельт. car(a)vos 'олень', исконнославянское слово ожидалось бы в форме *sorva, с правильным сатемным рефлексом и.-е. k̑ [4, с. 18-19], который в славянском есть в форме *sьrna, обозначающей дикое животное, что придает эпизоду с *korva культурное звучание. Праславянский передал, видимо, далее, свое * kărăvā или * korəvā вместе с его акутовой интонацией балтийскому (литов. kárvė), в котором это слово выглядит тоже изолированно.
Что касается балтов, то их контакт с Центральной Европой или даже скорее - с ее излучениями, не первичен, он начинается, видимо, с того, впрочем, достаточно раннего времени, когда балты попали в зону Янтарного пути, в низовьях Вислы. Только условно можно датировать их обоснование здесь II тыс. до н.э., не раньше, но и едва ли позже, потому что этрусск. ἄριμος 'обезьяна' могло попасть в восточнобалтийский диалект (лтш. erms 'обезьяна'), очевидно, до глубокой перестройки самого балтийского языкового ареала и до упадка Этрурии уже в I тыс. до н.э. Прибалтика всегда сохраняла значение периферии, но благодаря Янтарному пути по Висле двусторонние связи с Адриатикой и Северной Италией фрагментарно проявлялись и могут еще вскрываться сейчас. Любопытный пример - предлагаемое здесь новое прочтение Лигурийского названия реки По в Северной Италии - Bodincus, которое приводит Плиний, сообщая также его апеллативное значение: ...Ligurum quidem lingua amnem ipsum (seil. - Padum) Bodincum vocari, quod significet fundo carentem, cui argumento adest oppidum iuxta Industria vetusto nomine Bodincomagum, ubi praeeipua altitudo ineipit (C. Plinius Sec. Nat. hist. III, 16, ed. C. Mayhoff). Таким образом, Bodincus или Bodinco- значило по-лигурийски 'fundo carens, бездонный' и может быть восстановлено по снятии вероятных кельтских (лепонтских) наслоений как
14. Такие раннеполногласные варианты для нерусских территорий см. [88].
![]()

Карта 2. II период, II тысячелетие до н.э.
![]()
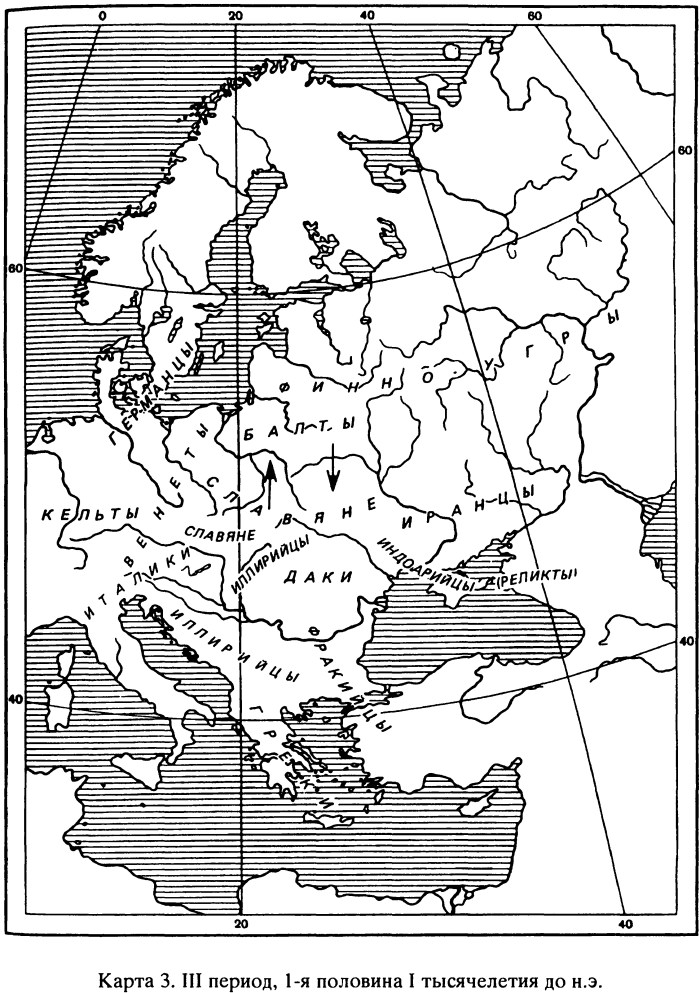
Карта 3. III период, 1-я половина I тысячелетия до н.э.
![]()
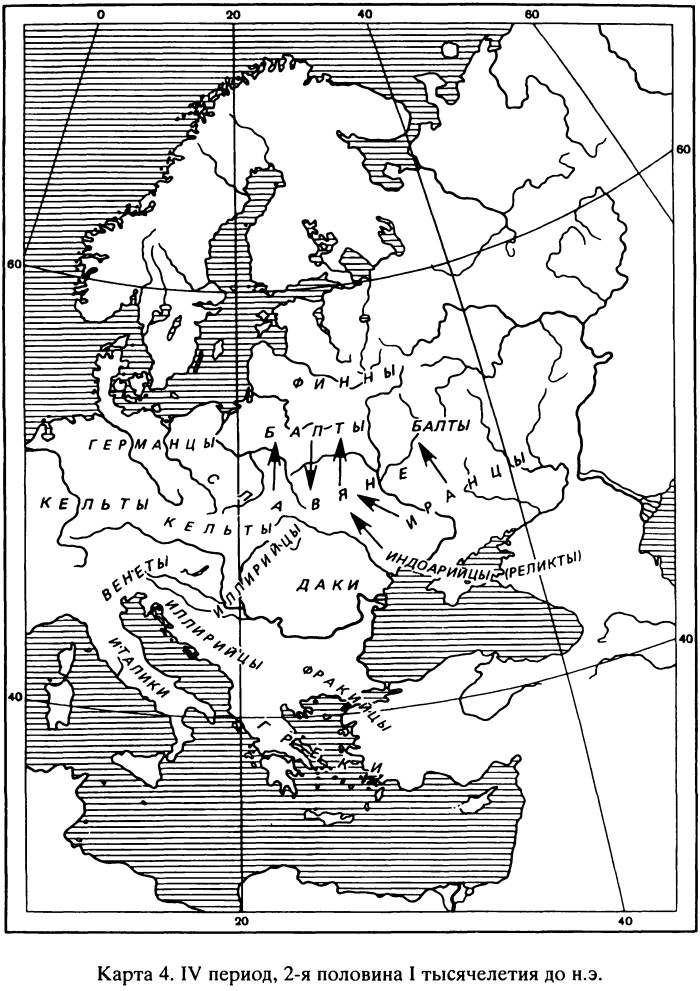
Карта 4. IV период, 2-я половина I тысячелетия до н.э.
*bo-dicno- / *bo-digno < *bo-dugno- 'бездонный, без дна', что довольно точно соответствует литов. be dùgno 'без дна', bedùgnis 'бездна', также в гидронимии - Bedùgnė, Bedùgnis и позволяет внести корректив в известную географию соответствий балт. be(z), слав. bez (и индо-иран. параллели).
30
![]()
БАЛТИЙСКИЙ И "ДРЕВНЕЕВРОПЕЙСКАЯ" ГИДРОНИМИЯ
По долине Вислы к балтам распространялись и изоглоссы древнеевропейской гидронимии, обрывающиеся к западу (лакуна между Одером и Вислой). Краэ отмечал добалтийский характер древнеевропейской гидронимии [89], и, я думаю, этот тезис сохраняет свое значение, имея в виду не столько додиалектный, сколько наддиалектный статус этой гидронимии (выработка различными контактирующими индоевропейскими диалектами общего гидронимического фонда). В.П. Шмид плодотворно расширил понятие "древнеевропейской" гидронимии до объема индоевропейской, но он допускает явное преувеличение, стремясь в своих последних работах утвердить идею ее центра в балтийском и даже выдвигая балтоцентристскую модель всего индоевропейского [90] [15]; [91; 93, с. 11; 94] [16]. Однако кучность "древнеевропейских" гидронимов на балтийской языковой территории допускает другое объяснение в духе уже изложенного нами ранее. Балтийский (исторически) - не центр древнеевропейской гидронимии (В.П. Шмид: "Ausstrahlungszentrum"), а фиксированная вспышка в зоне экспансии балтов на восток, куда они распространялись, унося с собой и размноженные древнеевропейские гидронимы.
Лишь после самостоятельных ранних миграций балтов и славян стало намечаться их последующее сближение (ср. установленный факт наличия в балтийском раннепраславянских заимствований до окончательного проведения славянской ассибиляции и.-е. k̑ > *c > s, например, литов. stirna < раннепраслав. *cirna, праслав. *sьrna и др. [95]. Хронологически это было близко к славянскому переходу s > x в известных позициях, который некоторые авторы рассматривают даже как "первый шаг" на пути обособления праславянского от балтийского, что из общей перспективы выглядит очень странно. В плане абсолютной хронологии эти балто-славянские контакты (сближения) относятся уже к железному веку (см. выше "аргумент железа"), т.е. к последним векам до новой эры.
Этому предшествовала длительная эпоха жизни праславян в Центральной Европе - жизни, далекой от герметизма в ареале с размытыми границами и открытом как западным, так и восточным влияниям.
15. Карта - см. с. 11, с. 13 - досадная ошибка: гидронимы Tain в Шотландии и Tean в Англии возводятся автором к *Taniā, которое он этимологизирует с помощью слав. tonja 'tiefe Stelle im Wasser', но последнее происходит только из *top-nja и к остальным европейским названиям отношения не имеет.
16. Между прочим, балтоцентристскую теорию индоевропейской прародины отстаивал уже Poesche более ста лет назад [3, с. XXXII].
31
![]()
ЛИТЕРАТУРА
1. Копечный Фр. О новых этимологических словарях славянских языков // ВЯ. 1976. № 1. С. 3 и сл.
2. Словник гідронімів України / Ред. кол.: Непокупний А.П., Стрижак О.С., Цитуйко К.К. Київ, 1979.
3. Mallory J.P. A short history of the Indo-European problem // Hehn V. Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe (= Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series l. V. 7). Amsterdam, 1976.
4. Moszyński К. Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957.
5. Lehr-Spławiński Т. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946.
6. Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. (= Beiträge zur Namenforschung. Neue Floge. Beiheft 17). Heidelberg, 1979.
7. Rudnicki M. O prakolebce Słowian // Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4. Językoznawstwo. W-wa, 1973.
8. Лер-Сплавинский Т. - ВЯ. 1958. № 2. С. 45-49.
9. Кипарский В. - ВЯ. 1958. № 2. С. 49.
10. Vasmer М. Die Urheimat der Slaven // Der ostdeutsche Volksboden. Hrsg. von Volz W. Breslau. 1926. S. 118-143.
11. Labuda G. Alexander Brückner und die slavische Altertumskunde // Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen. Bd. 14, I. Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert. Vorträge... zum ehrenden Gedenken an A. Brückner. Bonn, 1978. Bd. I. Giessen, 1980. S. 23, примеч. 28.
12. Solta G. Gedanken zum Indogermanenproblem // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968.
13. Королюк В.Д. К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. С. 19.
14. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951.
15. Pătruţ I. О единстве и продолжительности общеславянского языка // RS. 1976, t. XXXVII. Cz. 1. С. 3 и сл.
16. Stieber Z. Problem najdawniejszych różnic między dialektami słowiańskimi // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, IX. 1965. Wrocław etc., 1968. S. 97.
17. Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964. С. 84.
18. Pisani V. Indogermanisch und Europa. München, 1974, passim.
19. Polák V. Konsolidace slovanského jazykovăho typu v širšich východoevropských souvislostech // Slavia. 1973. Ročn. XLVI.
20. Филин Ф.П. О происхождении праславянского языка и восточнославянских языков // ВЯ. 1980. № 4. С. 36, 42.
21. Silvestri D. La varietà linguistica nel mondo antico // ΑΙΩΝ. 1979. 1. P. 19, 23.
22. Рыбаков Б.А. Новая концепция предыстории Киевской Руси (тезисы) // История СССР. 1981. № 1. С. 57.
23. Hirt Н. Die Heimat der indogermanischen Völker und ihre Wanderungen // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968.
24. Kossinna G. Die indogermanische Frage archäologisch beantwortet // Die Urheimat der Indogermanen. S. 97.
32
![]()
25. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 59.
26. Pokorny J. Substrattheorie und Urheimat der Indogermanen // Die Urheimat der Indogermanen. S. 209.
27. Трубачев O.H. Принципы построения этимологических словарей славянских языков // ВЯ. 1957. № 5. С. 69 и сл.
28. Popović I. Les noms slaves de 'printemps' // Annali [del] Istituto universitario orientale. Sez. lingu. I, 2. Roma, 1959. P. 184.
29. Polák V. Slovanská pravlast s hlediska jazykového // Vznik a původ Slovanů. I. Pr., 1956. S. 13,23.
30. Никонов В.А. - IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962. С. 478.
31. Dickenmann Е. — Onoma, 1980, XXIV, S. 279. — Рец. на кн.: Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979.
32. Кипарский В. - ВЯ. 1958. № 1. С. 50.
33. Lamprecht A. Praslovanština a jej i chronologické členĕní // Československé přednášky pro VIII. mezinárodni sjezd slavistů v Zahřebu. Pr., 1978. S. 150.
34. Karaliūnas S. - Frenkelis E. Baltų kalbos. Vilnius, 1969. Р. 13.
35. Соболевский А. Что такое славянский праязык и славянский пранарод? // Известия II Отд. Росс. АН. 1922. Т. XXVII. С. 321 и сл.
36. Pisani V. Baltisch, Slavisch, Iranisch // Baltistica. 1969. V (2). S. 138-139.
37. Горнунг Б.В. Из предыстории образования общеславянского языкового единства. М., 1963. С. 49.
38. Иванов В.В., Топоров В.И. К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961. С. 303.
39. Топоров В.Н. К проблеме балто-славянских языковых отношений // Актуальные проблемы славяноведения (КСИС 33-34). М., 1961. С. 213.
40. Mažiulis V. Apie senovės vakarų baltus bei jų santykius su slavais, ilirais ir germanais // lš lietuvių etnogenezės. Vilnius, 1981. P. 7.
41. Мартынов B.B. Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая синонимия. Минск, 1978. С. 43.
42. Мартынов В.В. Балто-славянские лексико-словообразовательные отношения и глоттогенез славян // Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом: Конференция 11-15 дек. 1978 г. Предварительные материалы. М., 1978. С. 102.
43. Мартынов В.В. Балто-славянские этнические отношения по данным лингвистики // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов: Тез. докл. Вильнюс, 1981. С. 104-106.
44. Schall Н. Südbalten und Daker: Väter der Lettoslawen // Primus congressus studiorum thracicorum. Thracia II. Serdicae, 1974. S. 304, 308, 310.
45. Schmid W.P. Baltisch und Indogermanisch // Baltistica. 1976. XII (2). S. 120.
46. Mayer H.E. Kann das Baltische als Muster für das Slavische gelten? // ZfslPh. 1976. XXXIX. S. 32 и сл.
47. Mayer H.E. Die Divergenz des Baltischen und des Slavischen // ZfslPh. 1978. XL. S. 52 и сл.
48. Булаховский Л.А. - ВЯ. 1958. № 1. С. 41-45.
49. Трост П. Современное состояние вопроса о балто-славянских языковых отношениях // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962. С. 422.
33
![]()
50. Бернштейн С.Б. - ВЯ. 1958. № 1. С. 48-49.
51. Лер-Сплавинский Т. [Выступление] // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962. С. 431-432.
52. Pohl H.D. Baltisch und Slavisch. Die Fiktion von der baltisch-slavischen Spracheinheit // Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft. 1980. 6. S. 68-69.
53. Schmalstieg W. Common innovations in the Balto-Slavic consonantal system // IV Всесоюзная конференция балтистов 23-25 сент. 1980 г.: Тез. докл. Рига, 1980. С. 86.
54. Топоров В.Н. Несколько соображений о происхождении флексий славянского генитива // Bereiche der Slavistik. Festschrift zu Ehren von J. Hamm. Wien, 1975. S. 287 и сл., 296.
55. Топоров В.Н. К вопросу об эволюции славянского и балтийского глагола // ВСЯ. Вып. 5. М., 1981. С. 37.
56. Курилович Е. О балто-славянском языковом единстве // ВСЯ. Вып. 3. М., 1958. С. 40.
57. Kuryłowicz J. The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg. 1964. Р. 80.
58. Kortlandt F. Toward a reconstruction of the Balto-Slavic verbal system // Lingua. 1979. 49. P. 64 и сл.
59. Иванов Вяч. Вс. Отражение в балтийском и славянском двух серий индоевропейских глагольных форм: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Вильнюс, 1978.
60. Савченко А.И. Проблема системной реконструкции праязыковых состояний (на материале балтийских и славянских языков) // Baltistica. 1973. IX (2). С. 143.
61. Meillet A. Etudes sur Etymologie et le vocabulaire du vieux slave. 2-е partie. Р., 1905. Р. 201-202.
62. Эндзелин И.М. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911. С. 1. (= Endzelīns J. Darbu izlase. II. Rīgā, 1974. 170).
63. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. Т. IV. La formation des noms. Р., 1974. Р. 13-14.
64. Топоров B.H., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
65. Birnbaum Н. О możliwości odtworzenia pierwotnego stanu języka prasłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej // American contributions to the Seventh International congress of Slavists. Warsaw. Aug. 21-27. 1973. V. I. Р. 57.
66. Pokorny./. Die Träger der Kultur der Jungsteinzeit und die Indogermanenfrage // Die Urheimat der Indogermanen. S. 309.
67. Prinz J. - Zeitschrift für Balkanologie. 1978. XIV. S. 223.
68. Milewski Т. Dyferencjacja języków indoeuropejskich // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965. Wrocław etc., 1968. S. 67-68.
69. Duridanov I. Thrakisch-dakische Studien. I. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen (= Linguistique balkanique XIII, 2). Sofia, 1969.
70. Топоров В.Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям // Балканское языкознание. М., 1973. С. 51, 52.
71. Pisani V. Indogermanisch und Europa. München, 1974. S. 51.
72. Топоров В.Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям. II // Балканский лингвистический сборник. М., 1977. С. 81-82.
34
![]()
73. Топоров В.Н. К древнебалканским связям в области языка и мифологии // Там же. С. 43.
74. Топоров В.Н. Прусский язык. Словарь. I - К. М., 1980. С. 279.
75. Трубачев О.Н. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968.
76. Топоров В.Н. Несколько иллирийско-балтийских параллелей из области топономастики // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, С. 52 и сл.
77. Pohl H.D. Slavisch und Lateinisch (= Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft. Beiheft 3). Klagenfurt, 1977.
78. Ademollo Gagliano M.T. Le corrispondenze lessicali balto-latine // Archivio glottologico italiano, 1978, 63. Р. 1. и сл.
79. Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.
80. Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
81. Krähe Н. Die Sprache der Illyrier, I. Teil: Die Quellen. Wiesbaden, 1955. S. 8.
82. Krähe H. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954.
83. Georgiev V.I. Illyrier, Veneter und Urslawen // Linguistique balkanique. 1968. XIII. 1. S. 5 и сл.
84. Трубачев O.H. Illyrica // Античная балканистика.
85. Katičić R. Ancient languages of the Balkans. Part I. The Hague; Paris, 1976. P. 64-65.
86. Gołąb Z. "Kentum" elements in Slavic // Lingua Posnaniensis. 1972. XVI. C. 53 и сл.
87. Gołąb Z. Stratyfikacja słownictwa prasłowiańskiego a zagadnienie etnogenezy Słowian // RS. 1977. XXXVIII, 1. S. 16 (Warstwa "kentumowa").
88. Mareš F.V. The origin of the Slavic phonological system and its development up to the end of Slavic language unity. Ann Arbor, 1965. Р. 24-25, 30—31.
89. Krähe H. Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten um den Nordteil der Adria // Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistesund Sozialwissenschaftlichen Klasse. Mainz. 1957. N 3. S. 120.
90. Schmid W.P. Baltische Gewassernamen und das vorgeschichtliche Europa // IF. 1972. Bd. LXXVII. S. 1 и сл.
91. Schmid W.P. Baltisch und Indogermanisch // Baltistica. 1976. XII (2).
92. Schmid W.P. Alteuropäisch und Indogermanisch // Probleme der Namenforschung im deutschsprachigen Raum. Darmstadt, 1977. S. 98 и сл.
93. Schmid W.P. Indogermanistische Modelle and osteuropäische Frühgeschichte // Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistesund Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 1978, Nr. I. Mainz; Wiesbaden, 1978.
94. Schmid W.P. Das Hethitische in einem neuen Verwandtschaftsmodell // Hethitisch und Indogermanisch. Hrsg. von Neu E. und Meid W. Innsbruck, 1979. S. 232-233.
95. Трубачев O.H. Лексикография и этимология // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. М., 1973. С. 311.
35
![]()
СЛАВЯНСКИЙ И "ДРЕВНЕЕВРОПЕЙСКАЯ" ГИДРОНИМИЯ
Далеко еще недостаточно изучен вопрос об отношении славян к "древнеевропейской" гидронимии. Автор этой концепции Краэ несколько априористически, на основании неполноты сведений выразил в своих работах тенденцию как бы вытолкнуть славян из "древнеевропейского" гидронимического ареала [95]. В последнее время это положение коренным образом пересматривается в науке и выдвигаются данные, свидетельствующие об участии славянского в древнеевропейской гидронимии [96, 97], о вхождении также топонимии Правобережной Украины в центральноевропейский топонимический ареал к северу от Альп [98]. В свое время мы уже указывали на это, приводя конкретные соответствия:
др.-европ. Oumena - укр. Умань [75, с. 113-114];
Talamone (Италия), Tolmin (Словения) - Телемень / Товмень (Украина) [75, с. 232];
др.-европ. *Arman-tia, Armeno (Триент), литов. Armenà - Ромен (Украина) [75, с. 209].
Название Солунка на верхнем Днестре реконструирует как др.-европ. *Salantia с соответствием в Швейцарии Удольф вслед за Трубачевым [6, с. 635].
Некоторые факты в этом духе можно найти в работах В.П. Шмида, однако к его преувеличенной балтоцентристской ориентации всей древней индоевропейской гидронимии Европы следует сделать некоторые критические замечания, отметив в первую очередь наличие в наиболее фондовом минимуме "древнеевропейской" гидронимии (еще у Краэ) ряда случаев, которые в ответ на дилемму - балтийский или славянский - соотносятся только со славянскими апеллативами, причем в балтийском точные лексические соответствия отсутствуют, например, др.-европ. *alisā, *amā - слав. "Wasserworter" *оlьха (*alisā), *(j)amā). К отмеченному В.П. Шмидом на балтийской территории важному гидрониму Venta, который он в общем верно относит к русск. ("Fluß im Gebiet von Minsk") Вяча < *Ventiā [93, с. 16], необходимо добавить, что предыдущие исследователи убедительно указывали на небалтийское, славянское происхождение данного гидронима [4, с. 309 и примеч. 10]. Лакуна между древнеевропейской гидронимией и славянским постепенно заполняется, и вместе с тем обогащается само понятие древнеевропейской (= древнеиндоевропейской) гидронимии Европы. Одновременно крепнет сознание древних связей славян с Центральной Европой, с локализацией и судьбами всего древнеиндоевропейского языкового конгломерата.
Несмотря на неутихающие споры вокруг "древнеевропейской" гидронимии (это понятие введено в научный оборот в 1962 г.), нам ясно принципиальное значение этого достижения и связанные с ним
36
![]()
далекоидущие перспективы, их важность в решении вопроса всего индоевропейского лингвоэтногенеза. Поскольку последний, в свою очередь, теснейшим образом связан со славянским лингвоэтногенезом и пространственной локализацией праславянского (отныне не скованной схемами балто-славянского языкового единства или постулируемых отношений западнобалтийского "отца" - праславянского "сына"), здесь уместно высказаться кратко и по этому вопросу вопросов, ограничившись лишь самым главным. Дело в том, что для древней локализации славян вовсе не безразлично, как казалось бы, откуда задолго до того пришли индоевропейцы и приходили ли они вообще в Европу издалека. Небезразличны, например, теории вторичной "курганизации" (= индоевропеизации) якобы первоначально неиндоевропейской Европы с Востока в V тыс. до н.э. [99]; по этому поводу мы не станем повторять, что культура и этнос не идентичны, а напомним лишь, что распространение культурных волн (которые всегда были больше сродни моде [100], чем обычно думают) не предполагает всякий раз перемещения самих носителей культуры, самой среды. Обязательно ли с перемещением, скажем, боевых топоров перемещались и сами этносы - носители культуры? Может быть, здесь типологически уместно вспомнить опыт теории волн в сравнительном языкознании и подобно распространению языковых явлений и слов при сохранении устойчивых языковых границ представлять себе распространение артефактов благодаря моде, культурному обмену при сохранении границ этносов? Небезразличны для нас, далее, и новые или реновированные теории малоазиатско-передневосточной прародины индоевропейцев [101-104]. Индоевропейский и даже архаический характер отдельных хеттских гидронимов древней Анатолии мало что меняет, и он не может отменить дохеттской (западнокавказской?) принадлежности субстратного языка хаттов. Допускаемая и по этой теории вторичная северопонтийская, европейская прародина индоевропейцев Европы, пришедших сюда очень давно будто бы в результате миграции путем West by East в обход Каспийского моря или через Кавказ, тоже не удовлетворит нас, потому что при этом не объясняется главное: образование древнеевропейской гидронимии. Существенно, что ничего отдаленно напоминающего этот компактный ономастический ландшафт нет ни в Малой, ни в Большой Азии, хотя там ее зафиксировали бы древнейшие письменные традиции передневосточных цивилизаций [17]. Компактный древнеиндоевропейский ономастический
17. Спор о том, повторяется или нет древнеевропейский гидронимический ландшафт в древней Анатолии (contra - А. Шерер и pro - [105]), не может считаться оконченным, т.е. решенным в положительном смысле, как это попытался представить Б. Розенкранц в указанной статье. Трудолюбиво собранные им материалы дают повод для несколько иных заключений. Во-первых, бросаются в глаза серьезные отличия: присутствие в древней Анатолии редуплицированных, или итеративных гидронимов (Sigašiga, Ululuua), совершенно чуждых гидронимии древней Европы. Во-вторых, почти половина древнеевропейских гидронимических основ, конкретно - 12-13, из 28, отсутствует в древней Анатолии [см. 105, с. 143, таблица], причем богатство хеттской письменной документации делает случайные пропуски маловероятными. В-третьих - и это главное - находят соответствие в Анатолии те из древнеевропейских форм, которые имели живую опору в хеттской грамматике (парадигма -r-/-n-/-nt-), словообразовании (суф. -ii̯a, -l-, -s-), и лексике (h̯apa- 'река'), и, наоборот, отсутствуют анатолийские соответствия важнейшим др.-европ. гидронимическим основам *adu-/*adru, *aku̯ā, *dreu̯-/*dru-, *ned-/*nod-, *neid-/*nid-, *pol-, * u̯eis-/*u̯is-, *albh-, *arg-, *ag-, *oudh-, *ner-/*nor-. И.-е. основа *danu- выразительно размещается только на нехеттском западе Малой Азии, а также в возможной южной зоне и.-е. проникновении с Запада в Палестине ("морские народы"? пеласты/ пеласги/ филистимляне?), ср. Jor-dan при др.-европ. Rho-danus, Danubis, Tanais, и в Передней Азии. Бросается в глаза то, что в случае с древнеевропейской гидронимией факт прямой мотивировки ее со стороны конкретного языка отсутствует и о последнем возможны лишь косвенные суждения на базе самой гидронимии Древней Европы, а это, в наших глазах, показатель большей древности древнеевропейской гидронимии, чем явно вторичной индоевропейской гидронимии Анатолии, с чем, кажется, соглашается и Розенкранц [105, с. 144].
37
![]()
ареал мы находим только в Европе, и диагностическое значение этого факта трудно переоценить в вопросе древней локализации индоевропейцев. Его не могут ослабить попытки отыскать доиндоевропейские элементы в индоевропейском слое [106-108], сами по себе не очень убедительные (почему, например, нужно считать *kar- 'камень' доиндоевропейским?), хотя, как мы теперь знаем (выше), инородные включения в праязыковом ареале - нормальное явление. Его не могут дискредитировать, с другой стороны, наивные попытки найти "das letzte Indogermanisch" в "северо-западном блоке" на нижнем Рейне (ареал гидронимов на -apa, некельтских и негерманских), который (Indogermanisch) якобы не выдержал трудных условий жизни в зоне германско-римских военных действий к началу н.э. [109].
Предполагая, таким образом, тесную взаимосвязь и значительное совпадение ареалов древнеевропейской гидронимии и собственно праиндоевропейского ареала заселения, мы считали бы целесообразным прислушаться к мнениям тех ученых разных специальностей, которые давно обратили внимание на дунайский регион, ср. констатируемую антропологами иррадиацию дунайского круга еще в неолите [110], вскрываемые археологами балканско-дунайские влияния и распространение отсюда в Северное Причерноморье злаков, скота, металла в V-IV тыс. до н.э. [111]. Существенно, что на Среднем Дунае и на Украине отмечается раннее одомашнивание лошади (V-IV тыс. до н.э.) [112]. Конечно, здесь ведутся споры, причем по самому главному вопросу - считать древний придунайский (дунайско-балканский) очаг цивилизации этнически индоевропейским
38
![]()
или доиндоевропейским. Однако мнения об индоевропейской принадлежности, скажем, ареала линейно-ленточной керамики V-IV тыс. до н.э. (в том числе - трипольской культуры) не единичны. Наиболее радикальное выражение этих взглядов - теория дунайской прародины индоевропейцев [113, с. 19]. Разумеется, сознаваемая ныне с особенной остротой сложность проблемы реконструкции древних лингвоэтнических отношений, а также сложность самих этих отношений (а не простота и исходное единство, о чем - выше) побуждают не идти дальше признания несколько расплывчатого древнего ареала обитания, т.е. иными словами, допущение древнего индоевропейского дунайско-балканского ареала отнюдь не исключает отнесения сюда же части территории Украины и, возможно, других соседних областей, как не исключает оно и присутствия неиндоевропейских элементов хотя бы в части этого ареала. Но дилемма - праиндоевропейская Европа или Азия - лингвистически решается все-таки в пользу Европы. Центральноевропейская локализация отвечает и структурно-типологической характеристике индоевропейского - между уральскими и севернокавказскими языками [114] [18]. Весьма существенные ограничительные критерии получаем мы и с другой стороны. До тех пор, пока датировка индоевропейской дифференциации и расселения не шла вглубь дальше II—III тыс. до н.э., археологи и индоевропеисты особенно немецкой школы (или школ) всерьез считались с возможностью северноевропейской (прибалтийской) прародины, полагая, что конец оледенения на Севере очень далек и его можно не принимать в расчет [115]. Но сейчас индоевропейские датировки углубляются и удревняются, они практически современны концу очищения Северной Европы ото льда - около 4000 г. до н.э., а это делает просто невозможной северную локализацию прародины. Север стал заселяться только после этой даты и только с юга [116], что лишь увеличивает шансы Центральной Европы.
С концепцией центральноевропейского ареала древних индоевропейцев связана и теория дунайской прародины славян, как она традиционно называлась и по распространенному мнению отвергалась наукой нового времени. Между тем заложенное в ней рациональное ядро дает право возвратиться сейчас к рассмотрению ее фактической возможности и к исторической увязке с другими разновременными ареалами обитания славян. Дунайская теория, впрочем, никогда не утрачивала полностью своей привлекательности, и голоса в пользу ее реабилитации раздавались и прежде, и недавно в нашей литературе, но это были, например, выступления этнографов,
18. Аналогично раньше Трубецкой.
39
![]()
слабо или просто недоброкачественно обоснованные лингвистически [117, 118]. Предмет объективно труден, и не приходится думать о едином решении всех сложных вопросов, но материал для конкретных суждений и для пересмотра все-таки накопился, и не в интересах науки надолго откладывать его обсуждение.
СЛАВЯНЕ ВОСТОЧНЫЕ, ЗАПАДНЫЕ, ЮЖНЫЕ
О восточных славянах справедливо сказано (Б.А. Рыбаков), что для них история начиналась на юге. В самом начале мы уже говорили о народной памяти о Дунае, все еще живущей среди восточных славян. Конечно, вопрос о древнем среднеднепровском ареале славян продолжает стоять и сохраняет свое значение, особенно как исходный ареал для дальнейшего развития собственно восточного славянства. Единственное, на чем, видимо, не следует настаивать, - это (в свете изложенного ранее) на его четкой отграниченности и универсальности для всех времен и для всех славян. Не исключено, что для каких-то предшествующих периодов (см. отчасти выше) среднеднепровский ареал славян был лишь частью (периферией) более крупного, иначе локализованного пространства [19].
Польские (и шире - лехитские) территории были освоены славянами лишь вторично, и обратного не удалось доказать польской этногенетической и лингвистической школе, несмотря на наличие здесь ярких достижений и эффектных разработок, включая введение сравнительного частотного анализа текстов. Есть серьезные доводы, которые сводят на нет результаты польского автохтонизма. Меньше всего могут рассчитывать на успех крайние точки зрения, например, стремление обязательно доказать славянское происхождение названий рек Wisła, Odra, Noteć и др. [7, с. 323]. Впрочем, и среди польских сторонников прародины славян по Одеру и Висле признается спорность происхождения и вторичная славизация ряда гидронимов этого района, указывается на неоспоримость единственно того факта, что гидронимия по Одеру и Висле носит индоевропейский характер, а это равносильно допущению возможности пребывания здесь также других племен [120]. Конечно, мы далеки от мысли прибегать в этом дискуссионном вопросе о висло-одерской прародине славян к старой (и не оправдавшей себя) аргументации, доказывавшей автохтонность этноса через отсутствие инородных названий в ареале обитания; мы знаем, что и присутствие таковых не исключает само по себе возможной исконности пребывания данного этноса. Просто ставка Лер-Сплавинского и его школы на исконнославянскую принадлежность макрогидронимов Польши оказалась вдвойне ненадежной: 1) гидронимы эти допускают более широкую
19. Ср. указание антропологии на высокий процент средиземноморского типа у восточных славян [119], как, впрочем, и в Польше.
40
![]()
индоевропейскую (скорее всего - не славянскую) мотивацию, 2) макрогидронимы, как указывается в последнее время, этногенетически не показательны. Таким образом, возможность исконнославянского пребывания и тем более - конституирования славянского этноса на польских землях - не самая вероятная из возможностей. В этой связи приобретают значимость различные сигналы о вторичности появления славян на польских и шире - большей части западнославянских земель, ср., например, выдвинутый нами ранее тезис о вторичной окцидентализации серболужицких языков, прослеживаемой на составе лексики, отличном от других западнославянских [79, с. 391-392]. Серболужицкие территории заселялись славянами в значительной степени с юга [121], а не с востока, как ожидалось бы по висло-одерской теории. Видимо, и польские земли заселялись славянами с юга, как об этом рассказывает Повесть временных лет в эпизоде о волохах, древним характером которого мы займемся ниже. Отношение этнонима вислянских (польских) полян и схожего, но темного, дославянского племенного названия буланы, Βούλανες (Птолемей) (ср. [122, с. 45]) говорит о славизации, а не об автохтонности. Тем более сомнительны попытки трактовать северо-западное славянство как родину сначала восточных, а потом - южных славян [123-124]. Отсутствие пражской керамики, земляночных жилищ и урновых погребений-сожжений между Одером и Вислой [125] довершает сомнительность изначально славянского характера именно этих территорий.
СЛАВЯНСКАЯ ОНОМАСТИКА ПОДУНАВЬЯ; СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЭТНОНИМИИ И АНТРОПОНИМИИ
Южные славяне - пришельцы на Балканах, но пришли они, по-видимому, из относительно ближайших мест, откуда они могли проникать путем ранней инфильтрации и на Восток и на Север. Еще Копитар думал о праславянах на Дунае и о Паннонии как центре их миграции [126]. Ср. любопытное высказывание из его "Патриотических фантазий славянина":
"IV. Berührungspunct der zwey Hauptäste.
Unterhalb Wien ist's an der Pannonischen Donau zwischen Presburg und Komorn, wo sich die zwey Äste geographisch und (linguistisch-) genetisch mittelst der Slovaken und der Slovenen die Hände reichen. Dieses linguistische Datum, und der Umstand, daß gerade diese zwey Zweige allein sich mit dem bloßen allgemeinen Stammsnahmen (Slovak und Slovenez, bloß mit verschiedener Bildungsendung) begnügten, während die jüngern Zweige besondere Nahmen, Tschechen, Lechen (Polen), Horvaten, Serben, Russen, sich beylegten, begünstigt auffallend die alte Tradition, daß die Pannonische Donau der Stammsitz der Slaven sey" (Vaterlaendische Blaetter
41
![]()
fur den oesterreichischen Kaiserstaat. Dritter Jahrgang. Nr. IX. Dienstag den 5. Juni 1810."
- Цит. по факсимильному воспроизведению в: Papers in Slavic philology 2. To honor Jernej Kopitar 1780-1980. Ed. by R.L. Lenček and H.R. Cooper, Jr. Ann Arbor, 1982, Р. 222).
Считается, что Нидерле положил конец этой старой теории, хотя, строго говоря, ни археология, ни историческое языкознание (ономастика) не могли тогда (да вряд ли смогли бы и позже) предоставить в распоряжение Нидерле систематическую и полную отрицательную аргументацию. Впрочем, и Нидерле готов был допустить существование островков славян среди иллирийцев и фракийцев с первых веков нашей эры и признавал славянское происхождение названий Vulka, Vrbas, Tsierna, Pathissus [127], как и опровергаемый им Шафарик [122, с. 118 и сл.].
Версия о приходе славян "откуда-то" родилась в свое время из неправильно истолкованного молчания греческих и римских авторов о славянах как таковых. Шафарик справедливо оспорил ложный вывод о том, что славян в ту эпоху не было вообще [128]. Мы сейчас в состоянии достаточно конкретно оценить эту ситуацию, считая, что этноним (аутэтноним) славяне (который, кстати, уже у Шафарика правильно связан со слово при помощи аналогии др.-русск. кличане [129]) - категория историческая, он существовал не всегда, был естественный период в жизни праславян, когда такой макроэтноним еще не требовался, без него прекрасно обходились. Этнонимия моложе антропонимии и вообще представляет собой относительно самый молодой раздел ономастики, потому что предполагает развитое коллективное самосознание. Здесь уместно напомнить, что у славян и антропонимия оказывается более новой, молодой по составу и образованию на индоевропейском фоне [130], что вполне уживается с архаической характеристикой языка славян. Эту историческую особенность антропонимии, пожалуй, упускают из виду даже сами ономасты, делая прямые заключения на основе, скажем, отсутствия славянских личных имен в античной северопонтийской эпиграфике об отсутствии в этих местах самих славян. Точнее было бы теперь сказать так: славянская антропонимия в нашем понимании тогда еще не сложилась, а сами славяне бывали и в этих местах, о чем, кажется, говорят славяно-иранские связи скифского времени, а также возможные славяно-индоарийские связи приблизительно той же эпохи. Молодость славянской антропонимии удобна для нас своей датирующей потенцией: наличие в ней иранских влияний говорит о том, что эти влияния (славяно-иранские контакты) не следует слишком рано датировать. Относительно неустоявшийся характер как этнонимии, так и антропонимии дунайских славян уже в довольно позднее время явствует из примера личного имени моравского князя Pribina, которое мы реконструируем и этимологизируем как кличку *prijěbina, поскольку о Прибине доподлинно известно, что он - filius ex alia coniuge [131], ср. сюда же словен. prijebiš 'внебрачный' (Pleteršnik).
42
![]()
Таким образом, в жизни славян (на Дунае и в прилегающих землях) был период, когда этноним *slovĕne отсутствовал, и это зафиксировали античные писатели. Когда писатели византийского времени упоминают о славянах-склавенах, они связывают это имя опять-таки с населением околодунайских районов; особенно четко это представлено у Иордана, где говорится, что севернее склавен живут венеты, а к востоку, за Данастром, - анты. Периферийные венеты, венеды и анты - тоже славяне, но они названы заимствованными именами, как часто бывает в пограничных районах, а срединные склавены-славяне носят свой исконный аутэтноним.
Венгры, осваивая свою страну, застали там густое славянское население и славянскую топонимию. Разнообразие типов последней показывает ряд примеров из книги Я. Станислава (в венгерской, румынской графике и реконструкции автора): Tirnava, Sztruga, *Bъrzъ, *Rěčina, *Bystrica, *Sopot, *Toplica, *Kaliga, *Bělgrad, *Prěvlak, *Konotopa, *Dъbricinь, *Požega, *Črъnъgrad [132]. Эти и подобные им названия распространены в Паннонии и Потисье, т.е. по обе стороны Дуная. Особенно обращает на себя внимание водная номенклатура, топонимия Потисья, ее преемственность с давнего времени. Основной гидроним района - название реки Тиса, левого притока Дуная, затем группа территориально и структурно близких гидронимов - Марош, левый приток Тисы, Самош, также приток Тисы, Темеьи, река в Банате. Название Тиса (венг. Tisza, рум. Tisa, нем. Theiß) - очевидно, продолжает форму *Tīsā, индоевропейского происхождения, скорее всего неславянского [133, с. 87 и сл.]. Весьма любопытно, что древняя запись Pathissus, -um у Плиния (I в. н.э.) отражает не столько название реки, сколько название местности на ней, типично славянское сложение с префиксом pa- = ро-, ср. Поморье, Полабье, Подунавье, Посулье [122, с. 118 и сл.] (прочие записи, скорее дефектные, и иные объяснения здесь опускаем). Марош (венг. Maros, рум. Mureş) известен, начиная с геродотовской формы Μάρις и в общем единогласно возводится к и.-е. *mori 'море' [133, с. 92; 134, с. 408], а суффикс, также индоевропейского происхождения, имеет, по-видимому, славянскую огласовку (-is-i̯o > -išь), к тому же, объединяющую несколько гидронимов только этого района, а именно упомянутые также Темеш (венг. Temes) с не вполне ясной историей, но, по-видимому, через промежуточное слав. *tьm-išь 'темная (река)', связанное с близким иноязычным индоевропейским названием, ср. англ. Thames, древнее, доанглосаксонское Tamesis; наконец, Самош (венг. Szamos, рум. Someş), без соответствий за пределами славянского; в последнем случае Георгиев допускает образование от слав. *somъ 'сом, Silurus glanis' [133, с. 93].
Древний возраст этой гидронимической группы очевиден, а также вероятно конкретное участие славянских основ и формантов в ее образовании, как, впрочем, и тесное славянско-индоевропейское взаимодействие, затрудняющее даже различение разноязычных
43
![]()
компонентов и их атрибуцию (балканско-индоевропейский? кельтский?). Необходимо отметить, что современный исход на -š (Марош, Самош, Темеш) унаследован венграми от прежде живших здесь славян [135; 132, с. 162], в языке которых он явился преобразованием более древнего -sjo-.
К славянскому топонимическому фонду относится, вероятно, название населенного пункта "на границе Венгрии и Валахии" Tsierna (римская надпись II в. н.э.), Διερνα (Птол.), Tierna (Tab. Peut.), на что обратил внимание уже Шафарик в связи с местонахождением Tsierna на реке Черна [122, с. 118 и сл.], хотя Георгиев видит здесь дакское Tsierna, Tierna < и.-е. *kwer(ə)sna 'черная' [136].
Совершенно особую проблему в этом ряду представляет венгерское название исторической области в верховьях Тисы - комитата Máramaros, Мармарош, рум. Maramureş, первоначально - название небольшой местной реки. Высказывалось мнение, что здесь представлено удвоение все того же и.-е. *mori 'море' [134, с. 404]. Конечно, близость вышеназванного гидронима Maros бросается в глаза, но состав целого требует объяснения, которое может оказаться несколько иным. Невольно вспоминается тут загадочное название "северного океана", которое Плиний, с чужих слов, приписывает кимбрам - Morimarusa: Philemon Morimarusam a Cimbris voćari, hoc est mortuum mare 'Филемон (сообщает), что он (северный океан) у кимбров называется Morimarusa, то есть мертвое море' (С. Plin. Sec. Nat. bist. IV, 13). Кимбры - германское племя, но выражение Morimarusa - явно негерманское. Описываемые Плинием здесь же "берега Скифии" и выбрасываемый волнами янтарь свидетельствуют о том, что речь идет о Балтийском море, а сведения получены с Янтарного пути, который пролегал через Среднее Подунавье. Отсюда, видимо, и происходит в результате неточно паспортизованной информации и плиниевское Morimarusa, о котором можно довольно уверенно сказать, что это выражение на индоевропейском (негерманском) языке и глоссируется оно у Плиния весьма правдоподобно: "mortuum mare, мертвое море". На основании глоссы членить его следует как mori marusa, выражение из двух слов, первое из них - и.-е. *mori, а второе, видимо, носитель значения 'мертвое', без натяжек идентифицируется как прич. прош. на -us- ("умершее"). Название моря в этой форме могло быть у кельтов, которые бывали на Среднем Дунае, но в кельтском не было причастий на -u̯es-, -u̯os, -us, известных в индоиранских, греческом, балтийских, славянских [137]. Нам остается лишь высказать гипотезу, что Máramaros = Morimarusa и что здесь отражено праслав. *mor'e mьrъše (или раннепраслав. *mari mrŭsja?) 'умершее море'. Исследователи отмечают существование в Потисье значительного района затопления вплоть до недавнего времени [132, с. 164] [20]. Очень близкую к славянской форму названия моря
20. Со ссылкой на Э. Моора.
44
![]()
имел, по-видимому, также фракийский, ср. сложный этноним Μαριανδυνοί, Mariandyni, название обитателей приморского района Малой Азии - от *marian 'море', но Morimarusa - не фракийское название. Морская семантика и.-е. *mori применена в нем к внутриконтинентальному разливу фигурально, ср. и (фигуральное) употребление здесь причастия 'умершее'.
Мнение о том, что праславянская территория была значительно ближе к балканско-анатолийским культурам, чем принято обычно думать, высказывал Будимир [138]. Вообще проблема дунайской прародины славян имеет сторонников в югославской исторической и археологической науке [21]. К этому следует добавить отмечавшееся и в нашей литературе большое совпадение ареала пражской (достоверно славянской) керамики и распространения склавен по Иордану в основном на Среднем Дунае [140; 118, с. 77].
С середины I тыс. до н.э. для славян, как и для других племен, живших в Дунайской котловине, возникла кризисная ситуация в связи с экспансией кельтов. На территорию Чехии и Подунавья проникли бои и вольки-тектосаги (вольки-"любители странствий"). Последние, выйдя из Галлии и двигаясь на восток вдоль южных границ тогдашнего германского ареала, приобрели известность под германизированным именем (герм. *Walhōz < галльск. Volcae) [82, с. 43]. Экспансии кельтов сопутствовал их культурный подъем в гальштатское и позднее - в латенское время IV-III вв. до н.э. В Чехии, Моравии и Паннонии возник симбиоз местного населения с кельтами. С этого момента начался контакт славян с волохами, как назвала кельтов начальная русская летопись, отразив германскую форму. Верную мысль Шафарика о том, что волохи - это кельты [122, с. 80, 99, 103; см. еще 117, с. 13, 37], не смогло расшатать позднейшее комментаторство. Помимо культурного влияния кельтов в условиях мирного симбиоза, дело не обошлось и без военного нажима, в результате чего значительная часть славян была потеснена на север. Этот важнейший фрагмент славянской и европейской истории запомнила славянская народная традиция и отразила спустя больше тысячи лет в русской летописи.
Лаврентьевская летопись. Повесть временных лет (ПСРЛ, 2-е изд. Т. 1. Л., 1926),
л. 2 об. - л. 3: Волхомъ бо нашедшемъ на Словѣни на Дунаиски![]() . [и] сѣдшемъ в них.
и насилѧщемъ
. [и] сѣдшемъ в них.
и насилѧщемъ
21. О находках в Северной Венгрии и на средней Тисе материальных следов культуры "скифского характера" см. [139, с. 260]; симбиоз Urnenfelderkultur и элементов скифской культуры в Паннонии, откуда - народ, "называющий себя паннонцами" (Dio Cass. XLIX, 36), в котором автор видит славян, сопротивляющихся римской оккупации I в. н.э., частично остающихся или уходящих из этого района; отсюда - стремление ушедших вновь вернуться в старую отчизну, см. [139, с. 267].
45
![]()
имъ. Словѣни же ѡви пришедше сѣдоша на Вислѣ. и // прозвашасѧ Лѧхове.
Ипатьевская летопись (ПСРЛ, 3-е изд. Т. II. Вып. 1, Пг., 1923), л. 4: Волохомъ бо нашедшим на Словены. на Дунаискые. и сѣдшимъ в нихъ. и насилѧющимъ имъ. Словѣни же ѡви пришедше и сѣдоша. на Вислѣ. и прозвашасѧ Лѧховѣ. -
Ушли не все славяне, и летопись, далее, рассказывает, что угри (венгры), придя сюда долгое время спустя, -
(Лавр, лет., л. 8 об): ... почаша воевати на жиоуща![]() ту. Волхі и Словѣни сѣдѧху
бо ту преже Словѣни. и Волъхве. при
ту. Волхі и Словѣни сѣдѧху
бо ту преже Словѣни. и Волъхве. при![]() ша землю Словеньску посемь же Оугри
прогнаша Волъхи. и наслѣдиша землю [ту];
ша землю Словеньску посемь же Оугри
прогнаша Волъхи. и наслѣдиша землю [ту];
Ипат. лет., л. 10: ... и почаша воевати на живуща![]() ту сѣдѧху
бо ту преже Словене. и Волохове. пере
ту сѣдѧху
бо ту преже Словене. и Волохове. пере![]() ша землю Волыньскую (вар. словенскоую).
ша землю Волыньскую (вар. словенскоую).
Ко времени венгерского пришествия содержание этнонима волохи, конечно, могло измениться, но сводить его только к обозначению романизированного населения [141-142] было бы не совсем верно, как о том свидетельствуют возможные кельтские остатки в языке самих венгров. Так, в венгерском сохранилось старое обозначение славян, живущих в Венгрии, словом, tót < *tout, первоначально '(простой) народ', ср. др.-ирл. tūath 'народ, племя, страна', кимр. (уэльсск.) tūd 'страна' (*teutā); слово прослеживается и в иллирийской ономастике, но венграми вполне могло быть перенято у кельтов-волохов, обозначавших им местных славян. Другой возможный реликт - венг. mén 'жеребец', стар. Menu-, считаемое неясным [143]; ср. mannus, галльское название низкорослой лошади (в латинском), также с возможными иллирийскими связями.
Славяне, отступившие к северу, на Вислу, увлекли за собой кельтов. В Южной Польше констатируются сильные кельтские влияния, в частности, в металлургии, следы сосуществования кельтов со славянами [144], топонимия кельтского происхождения, например, название гор Pieniny, которое происходит, конечно, не от славянского названия пены, а занесено кельтами и этимологически тождественно названию гор Pennine в Англии от кельт. pennos 'голова'. Археологи связывают прямо с кельтами наблюдаемый в погребениях пшеворской культуры обычай сгибания загробных даров и прежде всего - оружия, мечей [145, 146]. Невольно при этом вспоминается лексическая группа слав. *gybnǫti, *gybělь 'гибнуть', 'гибель' из первоначального 'сгибать', 'сгибание'. Не ограничиваясь этим районом, кельты и кельтские влияния шли также на восток, на территорию Правобережной Украины и Северного Причерноморья. Галатов, т.е. галлов, упоминает буквально у стен Ольвии эпиграфический декрет Протогена III в. до н.э. [147]. Спицын обнаружил много предметов гальштатской культуры на Немировском городище скифского типа в Подолье, уместно вспомнив при этом, что Эфор называл кельтов соседями скифов [148]. Не удивительно поэтому наличие на Украине древних следов кельтов в географических названиях, как, например, Καρραδοῦνον (буквально 'каменный город',
46
![]()
кельт.), отождествляемое с Каменец-Подольском [149]. В этой связи название Галич, Галичина, Галиция вероятно сближать с именем галатов [22]. Присутствие определенного латенского компонента также в среднеднепровской зарубинецкой культуре [152] вызывает у исследователей предположение о ранней инфильтрации кельтов вместе со славянами и в пределы Правобережной Украины.
Кельтско-славянские языковые и этнические отношения - традиционно весьма дискуссионная проблема. Для их обсуждения явно недоставало реальной исторической базы, чем была вызвана неудача обширных построений Шахматова [153], отождествившего кельтов с венедами древних авторов и поместившего кельтско-славянские контакты у Балтийского моря. Висло-одерская теория Лер-Сплавинского тоже, скорее, противоречила его же допущению кельтско-славянских контактов, которые могли стать тесными только на более южных территориях. В результате можно сказать, что мы все еще плохо представляем себе эти отношения. Выше уже говорилось кратко, что "кентумными" элементами своего словаря славянский обязан в значительной степени кельтам, что было продемонстрировано на вероятном примере кельт. carvos 'олень' - праслав. *korva 'корова'. Еще одним возможным случаем этого рода является праслав. *konь 'конь, лошадь', до сих пор не имеющее удовлетворительной этимологии (каковой едва ли можно считать попытку объединить в одной парадигме *kom(o)nь, *kobnь, kobyla). Кажется более перспективным привлечь кельт. (галльск.) *kankos/*konkos 'лошадь', сохранившееся в остаточных формах и в антропонимах и родственное др.-исл. Há 'лошадь', hestr, др.-в.-нем. hengist, нем. Hengst 'жеребец' [23], сюда же литов. šankùs 'проворный, быстрый', все вместе - из и.-е. *k̑a(n)k- 'скакать', с носовым инфиксом. Кельт. *kanko-/*konko- 'скакун' было интерпретировано при заимствовании как славянский деминутив на -к- суффиксальное, почему первичными можно считать славянские формы *konikь, *konьkь, откуда лишь вторично, на славянской языковой почве - слав. *konь. Кельтский мир не однажды обогащал своих соседей лошадиной терминологией, ср. уже упоминавшееся галльско-латинское название пони - mannus из кельт. *mandos и, конечно, нем. Pferd из греческо-кельтского гибрида paraverēdus.
22. Об обнаружении в Галиции кельтского археологического комплекса, со ссылкой на работу Л.И. Крушельницкой, см. [150]; объяснение др.-русск. Галичь от галица (Фасмер, I, с. 388) все-таки не бесспорная этимология; еще более сомнительна этимология Галиция < балт. *gal- 'предел', см. [151].
23. Отнесение к кельт. * konko-, вслед за А. Шерером, laetum equino sanguine Concano у Горация, Carm. III, 4, 34 см. [154, с. 428]; к галльск. *kankos 'лошадь' тот же автор относит собственные имена Cancius, Cancilus, Cancia, см. [154, с. 429, примеч. 1150].
47
![]()
Без обращения к кельтскому, видимо, не решить важнейшую проблему древней истории и этногенеза славян - проблему невров. Кто были невры? В ответах на этот вопрос царит удивительное разнообразие.
В древней этногеографии Северного Причерноморья, дошедшей до нас благодаря Геродоту, невры располагались на запад от скифов, на рубеже с агафирсами, т.е. балканским миром. Это определяло этническую идентификацию невров последующими учеными. Шафарик видел в них "виндов", т.е. славян [122, с. 125], как и в наше время - Лер-Сплавинский, Мошинский, ряд советских археологов [5, с. 13; 4, с. 98 и сл.; 155, с. 175; 156]. Кипарский и вначале Чекановский, сопоставив названия Νευροί и ziemia Nurska на границе Польши и Украины, сочли невров неразделившимися балтославянами эпохи до перехода дифтонга eu в балт. jau и слав. (j)u, причем Кипарский даже проэтимологизировал название этих балтославян как 'понурый, печальный', ср. литов. niaurus [157] [24]. В последнее время все больше видят в неврах балтов, даже - восточных балтов [159]. А между тем после изложенного выше о кельтах и их передвижениях всего естественнее допустить кельтскую принадлежность геродотовских невров, указав на связь их названия с названием племени Nervii в Галлии [160; 118, с. 30], тем более, что ни у балтов, ни у славян мы не знаем этнонима, близкого имени невров. Различие форм Νευροί и Nervii - скорее диахронического и диалектного характера. К тому же в литературе уже указывалось, что у Аммиана Марцеллина упоминаются нервии у истоков Борисфена (Припяти?), а у Плиния в тех же местах - невры [155, с. 172, примеч. 38].
Кроме того, из античной поэзии известно весьма любопытное и показательное описание невра: te modo viderunt iterates Bactra per ortus, / te modo munito Neuricus hostis equo. Sex. Propertii. Elegiarum IV, 3, 7-8 (recensuit M. Schuster. Lipsiae, MCMLIV, p. 142); в русск. переводе: Видели Бактры твое многократное в них появленье. Видел и невр-супостат, в броню одевший коня... - Согласимся, что невр, восседающий на бронированном коне (munitus equus), о котором пишет "нежная Аретуза" в письме своему Ликоту на восточный фронт, - мало похож на раннего славянина, по данным, которыми располагает наука. Зато известно, что кельты латенского времени были искусными металлургами, железоделателями и кузнецами. И германцы и, затем, славяне переняли кельтское название нагрудного панциря [161, 162].
24. Со ссылкой на [158, с. 124], где Чекановский о своей точке зрения 1927 г. относительно невров как недифференцированных балто-славян; с. 116: невры - предки восточных балтов, ср. также с. 123: невры - балты по языку, по мнению "большинства ученых".
48
![]()
Как уже было сказано выше, из Галлии в Подунавье проникают бои и вольки-тектосаги. Дальше - на Висле и в Галиции, на Волыни - вольки прямо уже не прослеживаются, выступают невры, племя под другим названием. Однако вот что рассказывает о неврах Геродот: "Скифы и эллины, живущие в Скифии, говорят, что раз в год каждый из невров превращается в волка на несколько дней и снова обратно становится тем, чем был" (Herodoti historiae IV, 105. Recognovit С. Hude. Oxonii, 1976). Можно, конечно, как это нередко и делается, находить здесь корни славянских поверий о волколаках, вурдалаках. Но вполне вероятно, что дело здесь не столько в суевериях вокруг ликантропии, сколько в ритуально поддерживаемой и обновляемой памяти этноса о своих родственных связях. Периодическое "превращение" невров в волков обращает наше внимание на тот факт, что кельтский этноним Volcae этимологически значил 'волки' (иные объяснения, например, к ирл. folg 'проворный, живой' [163], неубедительны), и это несмотря на то, что и.-е. *u̯l̥ku̯os 'волк' почти повсеместно и очень рано вытеснено в кельтских языках, очевидно, по мотивам табуизации, за вычетом слабых реликтов в антропонимии и т.д., а также несмотря на то, что собственно кельтское (древнеирландское) продолжение индоевропейского слова для волка имело бы форму *fiich-/*flech- [154, с. 380]. Табуизация и вообще маркированность этнонимии объясняют присутствие в таких случаях как бы "перекрестных изоглосс" (термин В.И. Абаева), объясняющих построение термина "волк" и этнонима "волки" как бы не совсем по правилам своего языка (вспомним "неправильное" лат. lupus, вместо правильного *volcus, *vulcus). Вольки-тектосаги распространились в Подунавье неподалеку от племен даков (этимологически - тоже "волки"). У даков, как позднее и у румын, видимо, на эту почву легли представления о волках-оборотнях [164]. Не лишено интереса то, что слав. *vьlkъ 'волк', полностью отсутствующее в антропонимии большинства славянских языков, выступает в личных именах части южных славян - у сербов, хорватов [25].
ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ И КУЛЬТУРА (СЛАВЯНЕ, КЕЛЬТЫ, ИРАНЦЫ, ИНДОАРИЙЦЫ)
Кельты к северу и к востоку от Карпат совершенно растворились среди славян. В этом конечный смысл эпизода невров, в котором не участвовали балты. Очень многое сгладилось за тысячелетия, прошедшие с тех пор, хотя несколько слов, которые породило кельтское влияние, до сих пор занимают важное место в славянском словаре. Эта лексика и это влияние, как мы отчасти рассмотрели выше, касались почти исключительно материальной культуры, не
25. Ср. серб.-хорв. Vukobrat, Vukoman, Vukomil, Vukomir, Vukosav, Vukovoj, Bjelovuk, Dobrovuk, Milovuk, см. [130, с. 73].
49
![]()
затронув идеологии, и в этом - полное отличие от славяно-иранских контактов, которые, сохраняя также свою проблематичность в ряде вопросов, несомненно затронули в первую очередь идеологию, религиозную и социальную сферу жизни праславян, но не их материальную культуру. Не очень отличаясь по времени от кельтско-славянских отношений (особенно если учесть реальность даже непосредственных кельтско-скифских контактов, как бы перекрывающих славянское пространство, ср. выше свидетельство Эфора и данные археологии), славяно-иранские отношения не только фиксировались на восточной периферии славянства, где постепенно, как полагают, дело дошло до симбиоза славян и иранцев в Черняховской культуре первых веков нашей эры [80, с. 100], но и проявлялись в результате глубоких проникновений иранских племен в славянский ареал, что ярким образом, хотя и косвенно, продемонстрировало существование ранних праславянских диалектов задолго до того времени, для которого о них считала возможным говорить славистика 50-60-х годов (ср. [165]). Часть древних иранизмов не вышла за пределы (части) предзападнославянских диалектов. В этом смысл феномена, который был в свое время мной описан и приблизительно обозначен как "polono-iranica" [166], когда, например, лексический (социальный) иранизм *(gъ)panъ 'господин' охватил только часть западно-славянского (без серболужицких). Иранских влияний ожидали только с востока и на востоке, поэтому понятна реакция Кипарского, который в беседе о моих polono-iranica сказал мне: "Вы поставили все с ног на голову". Однако археологии давно известны набеги скифов в область лужицкой культуры (заходившей и на территорию современной Чехословакии), которые были вызваны, как полагают, походом персидского царя Дария на скифов в 512 г. до н.э. [26]
Славяно-иранские отношения начались, по-видимому, в основном около середины I тыс. до н.э. Они заметно коснулись славянской антропонимии, которая в это время только еще конструировалась, отделяясь от апеллятивной лексики; во всяком случае, если в славянском и существовали унаследованные древние индоевропейские двухчленные антропонимические модели, их лексическое наполнение (и грамматическая модификация) испытали в эту эпоху иранское влияние [130, с. 63, 99, 206, 218]. Характер этого влияния отражал воздействие религиозно-социальной сферы, свойственной иранцам, скифам того времени. Но до глубокого воздействия на строй и звуковой состав праславянского языка дело, по-видимому, не дошло. Славянское х, которое нередко рассматривают как продукт славяно-иранских контактов [168], в значительной степени случайно совпало с иранским h, х. Достаточно сказать, что в иранском
26. О кладе скифских вещей начала V в. до н.э. в Феттерсфельде (Нижняя Лужица), исследованном Фуртвенглером, см. [167]; о скифских находках в области лужицкой культуры, даже в Чехии и Моравии, см. [5, с. 112].
50
![]()
это результат абсолютного перехода старого s (аспирация), в славянском - позиционно обусловленный процесс, объяснимый только условиями славянского языкового развития, которое привело к возникновению новых согласных, причем отчасти - в условиях сходных (стадия аффрикаты): ks > х; (и.-е. k̑ >) ts > s. Тенденция к постепенному повышению звучности, впоследствии так ярко выразившаяся в гласном облике славянской речи, задолго до того проявила себя в праславянских консонантных инновациях (здесь - дезаффрикация).
Правобережная Украина по крайней мере в I тыс. до н.э. уже была частью (периферией) праславянского лингвоэтнического пространства. Поскольку сейчас сложность древней этногеографии Скифии вырисовывается все более настойчиво и мы приходим к констатации реального сохранения на части (частях) ее территории, наряду с иранским (скифским), индоарийского (праиндийского) ее компонента или его реликтов, встает уместный вопрос о реальности также славяно-индоарийских контактов приблизительно в скифское время [169, 170]. Это констатация, опирающаяся на систематизированные аргументы и факты, при всех спорах, которые она породила и еще может породить, Способна продвинуть науку вперед в этом вопросе, проливая новый свет на известные факты и выявляя новые. Достаточно назвать славянский теоним *Svarogъ и его выразительно древнеиндийское соответствие (источник) svarga- 'небо' [27]. Отмечается, таким образом, индоарийский вклад в праславянскую теонимию, что само по себе характеризует уровень этих контактов, отчасти напоминающих славянско-иранские; далее, отмечается такой индоарийский компонент в составе ранней славянской этнонимии, как название народа *sьrbi, сербы [172], его возможное вхождение (при сколько угодно крутой смене этнического состава самих носителей) в праславянский ареал со стороны Побужья (геродотовская Старая Скифия с ее индоарийскими, "староарийскими" связями). Иную крутую траекторию проделал славянский этноним *xъrvati, хорваты - от иранского (сарматского) Приазовья до Адриатики, от иранского антропонима - до славянского этнонима. Основной корпус остальных славянских этнонимов своими структурными особенностями (-n-, -t-суффиксация) тяготеет к иллирийской и фракийской этнонимии, возвращая нас, таким образом, в Подунавье [173].
В славяно-иранских (и славяно-индоарийских?) отношениях был возможен момент симбиоза. Иначе складывались пограничные контакты
27. М. Энриетти отводит обычно принимаемую версию об иранизме *Svarogъ (ожидалось бы начальное h-, х-) и говорит о возможности прямого заимствования в славянский из индоарийского в Северном Причерноморье, ср. др.-инд. svarga- 'небо'; при этом он опирается на мою теорию об индоарийском лингвоэтническом компоненте Скифии, давая довольно полный и объективный обзор моих работ на эту тему, см. [171, с. 75]. Сближение *Svarogъ - svarga- в духе заимствования из индоарийского в Северном Причерноморье уже давно у меня в статье в журнале Ponto-Baltica (1981. N 1. Р. 127).
51
![]()
балтов, обосновавшихся в Верхнем Поднепровье, и иранцев, - контакты, лингвистически и археологически вполне реальные [64] [28] как финал относительно поздней экспансии балтов в юго-восточном направлении, но в чем-то отличные, скажем, от славяно-иранских (схождения в лексике материальной культуры, высокая сфера не затронута).
На этом можно закончить предварительный обзор некоторых аспектов древних и древнейших языковых и этнических отношений праславян, с установкой на максимальную конкретность и выяснение отдельных узловых моментов, например, балто-славянских отношений и некоторых других, от которых подчас зависело решение всего комплекса вопросов. О решении всех вопросов говорить, естественно, не приходится, но можно сказать, что проблему собственного индоевропейского прошлого славян мы ставим более уверенно.
Хотя праславянские индоевропейцы видятся нам прежде всего как носители языка, и мы, лингвисты, выявив древнюю языковую ситуацию, можем считать свою задачу выполненной, было бы крайне неутешительно остановиться только на этом, когда так велик соблазн пойти дальше. Конечно, идти в глубь веков целесообразно, на каждом шагу отдавая себе отчет в достижимости реконструкции, возможностях метода (или методов). Эти возможности велики, ответим мы охотникам их преуменьшать, но пока не беспредельны. В общем я согласен с мнением, что "для палеолита и мезолита... нет оснований допускать образования языковых общностей, следы которых дожили до исторических времен" [113, с. 16].
Спорность определенного (значительного) числа этимологий - не повод для скепсиса или иронического неверия, но лишь обычная ситуация для наук объясняющих (не описательных). А для нас это сигнал, что надо упорно искать дальше. Конечно, в случаях диаметрально противоположных выводов прав скорее всего кто-то один, например, и.-е. *gu̯er-n- 'жернов' - классический пример исконной лексики ввиду комплектности аблаута и полной мотивированности (Дресслер [176]) или и.-е. *gu̯er-n- менее мотивировано, чем его предполагаемое соответствие в семитском и потому заимствовано оттуда (Гамкрелидзе - Иванов [103, с. 13])? Этимология апеллативной лексики и ономастики может очень многое и уже сделала многое, поэтому мы должны быть внимательнее и бережливей к традиции, чем это имеет место. Например, в современной индоевропеистской литературе мы едва ли встретим указание, что славянский сохранил следы и.-е. *ak̑u̯a 'вода' или *ek̑u̯os, -ă 'лошадь', а между тем еще Розвадовский довольно убедительно показал наличие слав. *osva 'вода', а также вероятность связи *ek̑u̯os и *ak̑u̯ā, причем и то и другое
28. Против теории балто-иранских контактов - [175, с. 73 и сл.] (мнение автора о том, что археологи до сих пор не нашли в Посемье следов скифов, устарело, ср. работы В.В. Седова).
52
![]()
- к и.-е. *ōk̑u- 'быстрый'; эти следы были выявлены в гидронимах Осва, Освица на балтийской периферии от Припяти до Западной Двины, но ничто не мешает принять славянский характер *osva из и.-е. *ak̑u̯a, поскольку древний балтийский рефлекс и.-е. k̑ был шипящим [177] [29]. Не требует особых доказательств, что название реки Ока [178] сюда не относится.
В случае с некоторыми другими словами традиция, наоборот, упорно держится неверного пути или ищет неверный выход из тупиковой ситуации, как например с этимологией слав. *korabjь 'преимущественно морское судно' - из греч. καράβιον [179], из семитских [180]. Единственно вероятное здесь - предположить развитие ложного полногласия *kor-a-bjь < *korb-i̯o 'корзиночный', ср. лат. corbita 'грузовое судно' < corbis 'корзина'. Относительно названного фонетического и словообразовательного явления могут быть приведены такие примеры, как серб.-хорв. корак 'шаг': крак 'нога', польск. kołatać: kłócić и др., предполагающие еще и праславянский возраст явления - до метатезы плавных. Это - из области отношений праславян к воде, морю. На суше жили праславяне в селениях нередко круглой формы, о чем наряду с археологией [181] свидетельствует этимология *obьtjь из первоначального "круглый" [182].
НАЧАЛЬНЫЕ ГОРОДА СЛАВЯН (КИЕВ)
Актуален вопрос о городах у славян. Точка зрения, согласно которой лишь с X в. у них стабилизируется оседлый образ жизни, а с ним и топонимы, обозначающие города [183], устарела. Сейчас наличие славянских городов, вернее - укрепленных городищ, предполагается уже в VI в. [184], в науке активно разрабатывается понятие зародышей городов ("предгорода"), "протогородских" поселений, ранних городов у славян [185, 186]. Весьма перспективными представляются проблема "начальных городов" у славян, понятие "полицентрического типа" этих городов. Ситуация "полицентрического типа", конечно, возникала при образовании старых крупных центров - например, Киева. Это объясняет - на первый взгляд, странные - показания древней ономастики, когда вначале до нас доходят (довольно смутные) сведения как будто о нескольких названиях древнего города, по крайней мере двух (*Kyjevъ - *sǫvodъ), потом второе рано исчезает и остается единое - Киев. Объяснение может быть одно: первоначально это были обозначения топографически разных мест, *Kyjevъ - городище Кия, а *sǫvodъ - Σαμβατάς Константина Багрянородного - местности близ слияния Десны с Днепром (ср. там гидроним Сувид). Слившись, они (а, вероятно, еще и другие с ними) образовали единый город, один из ранних городов славян, проблема названия которого будет нас занимать также в дальнейшем.
29. Розвадовский вскрывает следы др.-инд. *aśvā, иран. *aspā 'вода'.
53
![]()
ЛИТЕРАТУРА
95. Krähe Н. Unsere ältesten Flussnamen. Wiesbaden, 1964. S. 33.
96. Udolph J. Alteuropa an der Weichselmundung // Beiträge zur Namenforschung. 1980. 15. S. 97.
97. Udolph J. Ex Oriente lux. Zu einigen germanischen Flußnamen // Beiträge zur Namenforschung. 1981. 16. S. 105.
98. Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках / Відп. ред. Стрижак О.С. Київ, 1981. С. 32.
99. Gimbutas М. The first wave of Eurasian steppe pastoralists into Copper Age Europe // The Journal of Indo-European studies. 1977. 5. P. 277 и сл.
100. Мерперт И.Я. Древнеямная культурно-историческая область и вопросы формирования культур шнуровой керамики // Восточная Европа в эпоху камня и бронзы. М., 1976. С. 121-122.
101. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Проблема определения первоначальной территории обитания и путей миграции носителей диалектов общеиндоевропейского языка // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков: Предварительные материалы. М., 1972. С. 19 и сл.
102. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Древняя Передняя Азия и индоевропейские миграции // Народы Азии и Африки. 1980. № 1. С. 64 и сл.
103. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики общеиндоевропейского языка по лингвистическим и культурноисторическим данным // ВДИ. 1980. № 3. С. 3 и сл.
104. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Миграция племен - носителей индоевропейских диалектов - с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии // ВДИ. 1981. № 2. С. 11 и сл. См. также наиболее подробное изложение в: Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I-II. Тбилиси, 1984.
105. Rosenkranz В. Flußund Gewässernamen in Anatolien // Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge. 1966. Bd. 1. S. 124 и сл., с библиографией.
106. Tovar A. Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1977.
107. Schmid W.P. - IF, 1977. 82. S. 314 и сл. - Rec.: Tovar A. Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1977.
108. Udolph J. - Kratylos, XXII. S. 123 и сл. - Rec.: Tovar A. Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1977.
109. Kuhn H. Das letzte Indogermanisch (= Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistesund Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrg. 1978, Nr. 4). Mainz; Wiesbaden, 1978. S. 22, 26.
110. Kóčka W. Zagadnienie etnogenezy ludów Europy. Wrocław, 1958. S. 100.
111. Кузьмина E.E. О балканском или центральноазиатском пути миграции индоевропейских народов // Античная балканистика. Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Предварительные материалы: Тезисы докладов. М., 1980. С. 35.
54
![]()
112. Bökönyi S. The earliest waves of domestic horses in East Europe // The Journal of Indo-European studies. 1978. 6. P. 17 и сл.
113. Горнунг Б.В. К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964. С. 19 (с литературой).
114. Scherer A. Das Problem der indogermanischen Urheimat vom Standpunkt der Sprachwissenschaft // Die Urheimat der Indogermanen. Darmstadt, 1968. S. 301.
115. Neckel G. Die Frage nach der Urneimat der Indogermanen // Die Urheimat der Indogermanen. Darmstadt, 1968. S. 160-161.
116. Slovenská archeológia. Ročn. XXIX. С. 1. (Bratislava). 1981. S. 28, 33, 34; 105 и сл., 177 и сл.
117. Толстов С.П. "Нарцы" и "волхи" на Дунае (Из историко-этнографических комментариев к Нестору) // Советская этнография. 1948. № 2. С. 8 и сл.
118. Кобычев В.П. В поисках прародины славян. М., 1973.
119. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973.
120. Rysiewicz Z. О praojczyźnie Słowian // Rysiewicz Z. Studia językoznawcze. Wrocław, 1956. S. 81.
121. Eichler E. Die slawische Landnahme im Elbe/Saaleund Oder-Raum und ihre Widerspiegelung in den Siedlungsund Landschaftsnamen // Onomastica Slavogermanica. 1976. X. S. 70.
122. Шафарик П.И. Славянские древности. Т. I. Кн. II. М., 1837.
123. Eichler Е. Beziehungen zwischen Sudslawisch und Westslawisch im Lichte der Toponomastik // Македонски јазик, 1974. XXV. S. 87 и сл.
124. Eichler E. Westslawisch-südslawische Beziehungen im Lichte der Toponomastik // Onomastica Jugoslavica. 1976. 6. S. 71 и сл.
125. Herrmann J. Probleme der Herausbildung der archäologischen Kulturen slawischer Stämme des 6.-9. Jh. // Rapports du III-e Congrès International d'archéologie slave. Bratislava. 7-14.IX.1975. Bratislava, 1979. S. 53.
126. Куркина Л.В. Некоторые вопросы формирования южных славян в связи с паннонской теорией Е. Копитара // ВЯ. 1981. № 3. С. 85 и сл.
127. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956. С. 56.
128. Шафарик П.И. Славянские древности. Т. I. Кн. 1. С. 77, 79.
129. Шафарик П.И. Славянские древности. Т. II. Кн. I. М, 1848. С. 73.
130. Milewski Т. Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław etc., 1969. S. 216.
131. Гавлик Л. Моравская народность в эпоху раннего феодализма // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. С. 170.
132. Stanislav J. Slovenský juh v stredoveku. I. diel. Turčiansky sv. Martin, 1948, passim.
133. Georgiev V. Theiss, Temes, Maros, Szamos (Herkunft und Bildung) // Beiträge zur Namenforschung. 1961. XII. N 1.
134. Kiss L. Földrajzi nevek etimolögiai szötära. Budapest, 1978, 408 old.
135. Moór E. Die slawischen Ortsnamen der Theissebene // Zeitschrift fur Ortsnamenforschung. 1930. VI. N 2. S. 131.
136. Georgiev V. Sur l'ethnogenese des peuples balkaniques: le dace, l'albanais et le roumain // Studie clasice, 1961. III. P. 24.
137. Brugmann K. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1904. S. 316.
55
![]()
138. Будимир М. Protoslavica II Славянская филология. II. IV Международный съезд славистов. М., 1958. С. 134.
139. Trbuhović V. Južne kulture i narodi prema lužičkoj kulturi, Praslovenima i Slovenima // I Międzynarodowy kongres archeologii stowiańskiej. Warszawa, 14-18. IX. 1965. Wrocław etc., 1968.
140. Седов B.B. Ранний период славянского этногенеза // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. С. 106-107.
141. Королюк В.Д. Волохи и славяне "Повести временных лет" // Сов. славяновед. 1971. № 4. С. 41 и сл.
142. Королюк В Д. К вопросу о месте известий о волохах в "Повести временных лет" // Сов. славяновед. 1972. № 1. С. 76 и сл.
143. A magyar nyelv történeti-etymológiai szótár. II. k. Budapest, 1970, 887 old.
144. Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961. С. 115.
145. Kostrzewski J. Celtyckie elementy w kulturze słowiańskiej // Słownik starożytności słowiańskiej. Т. 1. S. 228.
146. Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. 2-е изд. М., 1953. С. 132-134.
147. Latyschev В. Inscriptiones orae septentrionalis Ponţi Euxini. V. I. Petropoli, MDCCCLXXXV. Р. 38. (N 16), 39-40.
148. Спицын А. Скифы и Гальштатт // Сборник археологических статей, поднесенный Д.А. Бобринскому. СПб., 1911. С. 160-161, 164, 166.
149. Vasmer M. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde // Hrsg. von Bräuer H. Bd. II. Berlin, 1971. S. 565-566.
150. Мачинский А.Д. Кельты на землях к востоку от Карпат // Кельты и кельтские языки. М., 1974. С. 35, 36.
151. Иванов В.В., Топоров В.Н. О древних славянских этнонимах // Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980. С. 43-44.
152. Максимов Е.В. Зарубинецкая культура // Проблемы этногенеза славян. Киев. С. 55 (с литературой).
153. Schachmalov A. Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen // AfslPh, 1911. XXXIII. S. 51 и сл.
154. Birkhan H. Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit. Wien, 1970.
155. Мельниковская O.H. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. М., 1967.
156. Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. М., 1979. С. 146, 189.
157. Кипарский В. - IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962. С. 488.
158. Czekanowski J. Wstęp do historii Słowian. Wyd. 2. Poznań, 1957.
159. Седов B.B. Славяне верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970. С. 36.
160. Менгес К.Г. Восточные элементы в Слове о полку Игореве. Гл. 1. Очерк ранней истории славян. Д., 1979. С. 30.
161. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl. Bearb. von Mitzka W. Berlin, 1975.
162. ЭССЯ. Вып. 3. С. 55.
163. Holder A. Alt-celtischer Sprachschatz. Bd. III. Graz, 1962. Sp. 436.
164. Свешникова Т.Н. Волки-оборотни у румын // Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979. С. 208 и сл.
56
![]()
165. Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М, 1961. С. 68.
166. Трубачев О.Н. Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965. М., 1967. С. 78 и сл.
167. Minns E.H. Scythians and Greeks. Cambridge, 1913. Р. 150, 236, 237.
168. Gołąb Z. The initial x- in Common Slavic: a contribution to prehistorical Slavic-Iranian contacts // American contributions to the Seventh International congress of slavists. Warsaw. Aug. 21-27. 1973. V. 1. P. 129 и сл.
169. Трубачев O.H. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье // ВЯ. 1977. № 6. С. 24 и сл.
170. Трубачев О.Н. "Старая Скифия" (Ἀρχαίη Σκυθίη) Геродота (IV, 99) и славяне. Лингвистический аспект // ВЯ. 1979. № 4. С. 41-42.
171. Enrietti М. Slavo Svarogŭ // Studi in onore di Ettore Lo Gatto (отд. отт.).
172. Трубачев О.Н. Некоторые данные об индоарийском языковом субстрате Северного Кавказа в античное время // ВДИ. 1978. № 4. С. 41-42.
173. Трубачев О.Н. Ранние славянские этнонимы - свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6. С. 59.
174. Абаев В.И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965. С. 134.
175. Arumaa P. Baltes et Iraniens // Studi linguistici in onore di V. Pisani. Brescia, s.a.
176. Dressler W. Methodische Vorfragen bei der Bestimmung der "Urheimat" // Die Sprache. 1965. Bd. XI. S. 43-44.
177. Rozwadowski J. Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków, 1948. S. 176 и сл.
178. Фасмер III. С. 127.
179. Фасмер II. С. 321.
180. Hyrkkänen J. und Salonen E. Über die Herkunft des slawischen *korabjь, griechischen karabos/karabion (отд. отт.)
181. Рыбаков Б.А. Новая концепция предыстории Киевской Руси (тезисы) // История СССР. 1981. № 1. С. 60.
182. Трубачев О.Н. История славянских терминов родства. М., 1959. С. 168.
183. Шмилауэр В. - IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. И. Проблемы славянского языкознания. М., 1962. С. 483.
184. Королюк В.Д. "Вместо городов у них болота и леса..." (К вопросу об уровне славянской культуры в V-VI вв.) // Вопросы истории. 1973. № 12. С. 198.
185. Котляр Н.Ф. К вопросу о генезисе восточнославянских городов (на материалах Галичины и Волыни) // Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980. С. 132.
186. Седов В.В. Конгресс по славянской археологии // Вестник АН СССР. 1981. №5. С. 98, 101.
57
![]()
Нет ничего удивительного в том, что исследование особо сложной проблемы этногенеза славян в наше время синтеза наук протекает в духе острой дискуссии и пересмотра очень многого из того, что сделано предшественниками. Тем выше наша благодарность классикам славяноведения - именно тем из них, с которыми пришлось коренным образом разойтись по основным положениям, потому что, перечитывая их труды, мы встречаем мысли, покоряющие нас глубиной и верностью видения именно в современных аспектах науки: "... не существует народа, происхождение и генезис которого удалось бы в достаточной степени выяснить на основании непосредственно сохранившихся исторических источников" [1, с. 5]. "... Этнографические факты констатируют, что уже в "первобытных" условиях жизни и даже при очень редкой заселенности взаимное перекрещивание культурных влияний было очень сильным либо благодаря интенсивному обмену культурными ценностями посредством примитивной, но порой удивительно интенсивной меновой торговли, либо благодаря постоянным войнам, приводившим к обмену женщинами..." [2, с. 13].
Этими высказываниями польских зачинателей науки об этногенезе славян я хотел бы продолжить свое рассмотрение проблемы, начатое в предыдущих главах (см. также [3, 4]). Прошли годы с начала первых моих публикаций на эту тему, которые принесли новую литературу и новую пищу для размышлений. Думаю, будет естественно, если в нижеследующем изложении я попытаюсь отразить некоторый первоначальный дискуссионный обмен мнениями, в частности - на "круглом столе" по этногенезу славян, времен IX Международного съезда славистов в Киеве (сентябрь 1983 г.) и даже - наиболее интересные места из тогдашней переписки с друзьями. Итак, мы уже обращали внимание на бесспорное древнее знакомство славян с (Средним) Дунаем, на методологическую уязвимость традиционных разысканий о прародине славян, под которой в них неоправданно понималось первоначально ограниченное стабильное пространство, будто бы обязательно свободное от других этносов и первоначально бездиалектное; самоограничение исследователей внутренней реконструкцией приводило к воссозданию "непротиворечивой" модели праязыка, по-видимому, весьма отдаленной от реального, некогда живого праславянского языка с внутренним диалектным членением и собственными индоевропейскими истоками, что весьма затемнялось разнообразными балто-славянскими теориями, в том числе той из них, по которой праславянская языковая модель производна от балтийской. Широкое понимание сложного пути праславянского не совместимо, как мы думаем, с этой концепцией, и, кажется, только такое понимание обеспечивает адекватное рассмотрение
58
![]()
динамичных, самобытных судеб древних носителей славянских, балтийских, а также других индоевропейских диалектов, что и было изложено нами кратко, но на конкретных данных этимологии, изоглосс (балто-фракийских, славяно-италийских, славяно-иллирийских, славяно-кельтских, лигурийско-балтийских, славяно-балтийских). В проблему праславянского ареала и лингвоэтногенеза нами намеренно был включен вопрос о праиндоевропейском ареале с характерной для последнего древней гидронимией. Речь шла о Центральной Европе и бассейне Среднего Дуная и в одном, и в другом случае. Размытые границы и сильные ранние иррадиации в сторону периферий признавались нами как характерные особенности древнего языкового и этнического ареала славян в Европе.
ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ИСТОКИ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА И ЭТНОГЕНЕЗА
В настоящей главе из всего этого комплекса достаточно актуальных вопросов я намерен выделить наиболее общий и актуальный. Таким является (в чем, я думаю, со мной согласятся) вопрос об индоевропейских истоках праславянского языка и славянского этногенеза. Речь идет, таким образом, об истории языка и - через его посредство - об истории носителей языка. Известно, что применительно к дальним эпохам в этом вопросе основная "тяжесть доказательства" возлагается на языкознание; это признается не только лингвистами и, между прочим, не только относительно дальних эпох, так, например, замеченная диспропорция между реконструируемой развитой праславянской терминологией (и, без сомнения, стоявшей за ней сложной социальной организацией и культурой) и примитивными представлениями письменной истории времен конца античности и раннего средневековья заставляет также современных историков решительно отдать предпочтение косвенным (реконструированным) данным языкознания перед прямыми, но скудными или даже превратными, пристрастными данными из исторических источников [5].
Такая глубинно историческая дисциплина, как археология, тоже далеко не всегда дает однозначные ответы. Ср. тот факт, что общей, единой индоевропейской археологической культуры не существовало [6; 7, с. 87]. По мнению ряда археологов, не существует, оказывается, и единой достоверно славянской материальной культуры, которая была бы древнее VI в. н.э., когда появляются памятники так называемого пражского типа [8; 9]. Пессимистично заключение археологии относительно непрерывной культурной преемственности, вернее - ее отсутствия в Карпатско-Дунайской котловине, поскольку,
59
![]()
оказывается, уже для VIII-IX вв. не могут назвать в этой области ни одной культуры, которая бы уходила корнями в римскую эпоху [10]. Есть и противоречивые суждения, исходящие, к тому же, от авторитетов. Так, сторонников теории балто-славянского единства (которых, правда, сейчас осталось не так много) должно огорчать заявление такого археолога, как Костшевский, что "с археологической точки зрения нахождение такой культуры, которая могла бы представлять еще не разделенных предков балтов и славян, до сих пор невозможно, и, если бы достаточно было опереться только на исторические данные, то нужно бы было признать, что настоящей эпохи балто-славянской языковой общности никогда не существовало" [цит. по 11]. Впрочем, приверженцев этой теории может утешить противоположное мнение другого археолога - В. Хенселя, который выступил на I Международном съезде по славянской археологии с докладом "Балто-славянская культурная археологическая общность", где он прямо утверждает, что "археологические источники не противоречат возможности балто-славянской общности", и даже датирует эту общность временем с 1800 по 1200 гг. до н.э., видя в ней часть ареала шнуровой керамики [12].
Очевидно, не следует спешить с общими выводами на базе археологических свидетельств, во всяком случае не стоит толковать их прямолинейно, и это пожелание мы просили бы расценивать как проявление нашей оппозиции против всякой прямолинейности в целом (ср. об этом также ниже). Археология добилась огромных успехов, и несправедливо говорить, что ее материалы немы; напротив, они слишком многозначны. Обычно говорят, что археология превосходит лингвистику точностью датировок, но это верно далеко не всегда, и сами археологи признают, что основой их датирования все-таки служит не столько стратиграфия (залегание объекта в определенных слоях, куда он мог попасть в принципе и случайно), а типология формы и материала, т.е. та же относительная хронология, что и в лингвистике. Абсолютно точных дат ждут от радиоуглеродного анализа, но и их абсолютность также признается нередко спорной. Наконец, знамением современной науки является и то, что в археологии тоже практически заговорили о "диалектологии" в смысле неоднородности древних культур, и как раз в этом последнем пункте сказывается наиболее плодотворно обмен идеями между современным языкознанием и современной археологией.
"КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК?"
Именно поэтому, например, вопрос "когда появился праславянский язык?" следует признать некорректным, на него никогда не сможет точно и однозначно ответить наша наука, как бы ни утончались ее методы (неслучайно, что и на киевском съезде славистов - в докладе В.К. Журавлева - вновь говорилось о нелингвистическом
60
![]()
характере абсолютной хронологии, а прогресс лингвистических знаний связывался с относительной хронологией как отражающей внутренние взаимосвязи). Не буду говорить об этом подробно, но всякие утверждения об обособлении праславянского с точностью до века или до года (например, с 500 г. до н.э.), с моей точки зрения, представляются беспредметными. Подобной "точности" ответа, в сущности - мнимой, не надо требовать от нашей науки. Ссылки на опыт археологов в указанном выше смысле тоже не вполне правомерны. Археологи, как уже сказано, сами оперируют типологической классификацией и хронологией, а их абсолютная хронология производна от типологии. Правда, когда я высказал это мнение на уже упоминавшемся "круглом столе" по этногенезу славян (Киев, 12 сент. 1983 г.), выступивший затем археолог В.В. Седов возразил, что археологические датировки достигают большой степени точности и бесспорности; для примера он сослался на абсолютные датировки зарубинецкой культуры, и все же думается, что значительное количество археологических датировок, подаваемых как абсолютные, сохраняет спорность. Попутно замечу, что не обоснованы упования на лексикостатистику Сводеша и его продолжателей, оперирующую куцым списком из 200 или 100 основных слов и совершенно не доказанным тезисом о равномерности их убывания во всех языках, на чем построены вычисления лексикостатистикой дат "распада" праязыков. Языки и их лексика развиваются неравномерно, в этом их самобытность и прелесть. И все же жадный интерес - особенно молодых - читателей и слушателей (как на том, IX, съезде), которые уверены, что "начало праславянского языка будет найдено", вынуждает нас возвращаться к рассмотрению вопроса, "когда появился праславянский язык?"
С другой стороны, я заметил, что всякое принципиальное углубление славянской языковой хронологии, акцентирование индоевропейских истоков праславянского конфузит и опытных, и молодых лингвистов, привыкших думать иначе. К сожалению, умами многих исследователей еще владеет психология привычки поздно датировать все собственно славянское в языке и культуре. Этой психологии отдавали дань и некоторые участники киевского съезда славистов. Например, словацкие археологи Б. Хроповский и П. Шальковский явно не сочувствуют попыткам "искать славян в глубокой древности" [13]. Для югославского лингвиста Д. Брозовича праславянский "моложе других праязыков" [14]. В дискуссионном выступлении В.Н. Чекмана был выдвинут тезис о праславянском как новом, недавно родившемся языке; в письменном сообщении Г. Лиминга (Великобритания) "Некоторые проблемы сравнительной славянской лексикологии" праславянский тоже фигурирует "не как прямой наследник (индоевропейского. - О.Т.), а как совершенно новое целое" [15].
Ф. Копечный, ознакомившись с моим "Языкознанием и этногенезом славян" [3, 4], написал мне тогда же, вскоре, три письма; я позволю
61
![]()
себе процитировать отдельные места из его письма от 10 июля 1983 г. Он называет это чтение волнующим, однако делится со мной своими несогласиями: "Вряд ли можно говорить в III тысячелетии до н.э. или даже раньше о славянах, германцах, балтах и т.п.; но я знаю, что Вы под этими названиями понимаете их предков. Для меня славяне и праславянский начинается монофтонгизацией дифтонгов, т.е. - скажем - началом VII ст. н.э." Ясно, что мы с покойным Францем Францевичем видели по-разному некоторые вещи, причем устами Ф. Копечного говорит лингвист starej daty, как сказали бы поляки. Я вообще не считаю возможным ставить вопрос о появлении славянского в зависимость от такой фонетической особенности, как монофтонгизация, хотя сам тоже занимаюсь реконструкцией праславянского языка эпохи проведенной монофтонгизации дифтонгов в нашем Этимологическом словаре славянских языков. Однако для меня это лишь удобная форма, наиболее близкая к ранней письменной фиксации, но не точка отсчета. Иначе, рассуждая логично, мы, пожалуй, должны будем снова перестать называть чешский язык славянским с того момента, как в нем "опять" дифтонгизировались монофтонги в определенных условиях. Этот пример показывает нам относительность якобы строгих фонетических критериев, помогает понять, что методика, преувеличенно опирающаяся на эти критерии, может оказаться недостаточно тонкой в вопросах лингво- и этногенеза, для которых требуются более широкие и гибкие категории и допущения (последнее касается в немалой степени и терминологического содержания этнонимов, традиционно употребляемых в этногенетических исследованиях). Когда я огласил в устном докладе на съезде славистов в Киеве слова Ф. Копечного и свои мысли по этому поводу, то во время обсуждения мне возразили, что Ф. Копечный "наверное, так не думал", впрочем, едва ли я понял Ф. Копечного менее точно, чем выступавший дискутант (Г.А. Хабургаев), который в своем выступлении явно преувеличил возможности "стадиальной" концепции вхождения разных этнических компонентов, прежде якобы не бывших, а затем ставших праславянами.
Имеет место определенная недооценка также славянской культурной хронологии. Возвращаясь к киевскому съезду славистов, приведу еще один пример. Ш. Ондруш (ЧССР), выступая на обсуждении докладов, говорил о большом славянском влиянии на балтов в терминологии торговли, ср. литов. tur̃gus 'базар' < слав. *tьrgъ. В ответ на это Вяч.В. Иванов счел возможным высказать сомнения в существовании торговли в праславянскую эпоху вообще. Неверие в возможность древнего обмена, конечно, неоправданно и противоречит данным истории древней культуры, о которых на этот счет хорошо сказано в нашей вводной цитате (в начале главы) из крупнейшего славянского этнолога К. Мошинского [2, с. 13].
Углубляя, удревняя внешнюю и внутреннюю историю праславянского, мы пересматриваем разные аспекты славянско-неславянских
62
![]()
отношений, понимаем необходимость разрабатывать их стратиграфию. При этом не все отношения оказываются релевантными в плане этногенеза славян. Так, мы говорим в этом плане положительно о славянско-италийских отношениях (см. о них кратко в предыдущих главах), тогда как, скажем, славянско-восточнороманские отношения можно обозначить как постэтногенетические. Определить в этих терминах балто-славянские отношения, т.е. решить, релевантны ли они для славянского этногенеза или, скорее, постэтногенетичны или, возможно, параэтногенетичны (в смысле независимого параллельного развития языков и этносов) - в этом суть балто-славянской проблемы, одной из центральных по-прежнему для славистики вообще. Теорию балто-славянского единства, как известно, продолжает отстаивать Ф. Славский. Однако эта теория явно не выдерживает напора фактов, говорящих скорее о самобытности славянского языкового развития. В дискуссиях, в частности - на IX Международном съезде славистов со всей серьезностью указывалось, что палатализация согласных, столь характерная для славянского, протекает в балтийском иначе или отсутствует там совсем (З. Зинкявичюс), эволюция долгих гласных осуществлялась в балтийском и славянском в противоположных направлениях (Э. Станкевич, США). Как я уже говорил в другом месте, несходным путем шла в них сатемизация индоевропейских палатальных согласных. А. Ванагас показал, что со стороны гидронимического анализа нет оснований для сохранения положения о балто-славянском языковом единстве [16].
Из числа сторонников известной теории развития славянского из балтийских диалектов упомяну В. Мажюлиса, который в выступлении на киевском "круглом столе" сказал, что "праславянский резко повернул по небалтийскому эволюционному пути", но сама идея "поворота" и имплицируемая ею предшествующая эволюция будто бы по балтийскому пути представляются нам недоказанными. В связи с этим можно упомянуть обмен мнениями между В.В. Мартыновым и Ю.В. Откупщиковым, причем последний высказался по поводу теории ингредиентов (праславянский = протобалтийский + италийский) у В.В. Мартынова [17], констатируя большое количество славянско-индоевропейских изоглосс, не известных балтийскому и заставляющих признать праславянский самобытным индоевропейским языком [18].
Что касается киевского съезда славистов в целом, он продемонстрировал взлет (В. Хенсель, выступление на "круглом столе" по этногенезу: "renesans") научных интересов к вопросам о времени и месте формирования славянского языка и этноса и дал новые перспективы взаимообогащения и сближения традиционно разных концепций. Например, В.В. Мартынов в своих устных выступлениях отметил актуальность нынешних поисков южных границ праславянского ареала, допуская их паннонскую (придунайскую) локализацию, в
63
![]()
частности - славяно-кельтские контакты именно на этой территории. Это не мешало, правда, другим ученым остаться при привычных убеждениях (В. Маньчак: "...мне трудно поверить в придунайскую прародину славян..."). Споры касались всего комплекса вопросов древней истории славянского. Мои собственные поиски, в частности - в дифференцированных индоарийском и иранском аспектах, получили интересную поддержку (если опять-таки отнестись при этом cum grano salis к абсолютной хронологии), как мне кажется, в выступлении антрополога В.Д. Дяченко на круглом столе по этногенезу: отмечу здесь выделяемый им иллиро-фракийский и индоиранский период I тыс. до н.э. - середины I тыс. н.э. с вхождением в состав древних славян балкано-центральноевропейского комплекса (карпатский и понтийский антропологические типы), а также степных - древнеиндийского (индо-днепровского длинноголового мезогнатного типа) и перекрывшего его иранского компонента.
Картина сегодняшних балто-славянских контроверз останется неполной, если не упомянуть еще более острый обмен - пятью годами позже - между Э. Станкевичем и группой московских акцентологов, которым американский славист противопоставил развернутую критику теории Хр. Станга и некоторых из его московских последователей, в частности - таких их крайних идей, как отношения славянской и балтийской акцентуации как младшего варианта к старшему, далее - отрицание (Стангом и др.) действия закона Фортунатова-де Соссюра в славянском, если говорить только о наиболее существенном. Лично мне как исследователю глубоко импонирует главная идея Станкевича о разных путях развития литовской и славянской акцентуации [*].
МИФЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
Однако для того, чтобы полнее использовать свои преимущества в деле исторической и этнической реконструкции, языкознанию необходимо еще много работать над совершенствованием своих методов и над преодолением ряда своих постулатов, которые стали привычными (порою - по причине ассоциации с методами, одно время считавшимися передовыми в науке), оставаясь недоказуемыми. Речь идет о мифах сравнительного и общего языкознания, впрочем, как и о мифах истории культуры. Наука остро нуждается в их демифологизации, т.е. в преодолении традиционных прямолинейных заключений в исследованиях. Здесь затронуты,
*. Stankiewicz Е. The nominal accentuation of Common Slavic and Lithuanian // American contributions to the Tenth International Congress of Slavists. Sofia, September 1988. Linguistics. Ed. by A.M. Schenker, passim. О соответствующей дискуссии см.: Трубачев О.Н. О работе секции языкознания X Международного съезда славистов // ВЯ. 1989. № 3.
64
![]()
бесспорно, интересы целого круга дисциплин, изучающих историю культуры, поэтому обмен опытом должен быть обоюдным (примеры - ниже), вместе с тем серьезный методологический урок негативного влияния идеи изоморфизма разных уровней (языка) должен исходить от языкознания. Напомню такие мифы сравнительного языкознания, как (1) "додиалектное" единство каждого праязыка, (2) "небольшая прародина" ("Keimzelle"), (3) одновременность появления этноса и этнонима, (4) балто-славянские отношения (любые) как terminus post quem для славянской языковой эволюции. Сюда же, далее, надо отнести порожденный современными направлениями языкознания миф о существовании "совершенных систем". Против последнего уже раздаются голоса критики с разных сторон, причем указывалось, что и структурализм, и генеративизм повинны в конструировании "совершенных систем", которые по самой своей природе "не подлежат сравнению" (are noncomparable), тогда как именно сравнимость - пробный камень всякого исторического анализа [19]. Это, конечно, верно, но еще важнее то, что конструируемые "совершенные системы" (пример: "непротиворечивые модели" праславянского или праиндоевропейского языка) противоречат главному мотиву языковой эволюции, каковым является асимметрия.
ПРОТИВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
Потребность проверки и преодоления прямолинейных заключений в историческом языкознании ощущается в настоящее время, хотя, возможно, далеко не всеми и не во всех случаях, где в этом назрела необходимость. К тому же, это отнюдь не простое дело, поскольку преодолевать при этом приходится иногда эффектные построения авторитетных исследователей. Например, Семереньи удалось показать неверность одного такого эффектного положения Мейе (1912 г.) об исключительно ускоренном (быстрее романского) развитии и упадке среднеиранского языка в условиях его крайнего распространения в мировой державе ахеменидов. Критически проверив реальные данные, Семереньи получил фактически иную картину: интенсивное развитие вплоть до упадка языка имело место в сердце тогдашнего иранского пространства - на территории современного Ирана, а на перифериях Севера и Востока был отмечен характерный консерватизм [20]. Запомним этот пример, который лишний раз показывает, что политическая и территориальная экспансия этноса не синонимична ускоренному развитию в языковом плане. По крайней мере столь же неоправданным является очень живучее убеждение, что - vice versa - оседлость и малая территориальная подвижность этноса находит выражение в неразвитости, архаичности его языка. Эту концепцию может оправдать только все еще недостаточное развитие этнолингвистики и социолингвистики, особенно
65
![]()
применительно к ранним периодам эволюции этносов и языков. Так, по нашему мнению, в указанном выше смысле неоправданной прямолинейности уязвимо заключение авторов теории ближневосточной прародины индоевропейцев: "Смещение общеанатолийского по отношению к первоначальному ареалу распространения общеиндоевропейского языка было сравнительно небольшим. Этим и объясняется исключительная архаичность анатолийских языков..." [21]. Для нас совершенно очевидно, что из этой же самой посылки - архаичность хеттского и других анатолийских языков - может быть с гораздо большим основанием сделан вывод о дальней миграции, приведшей эти языки на периферию некоего ареала...
Некоторые методологические предостережения сходного характера можно почерпнуть и из опыта смежных наук исторического цикла. Так, например, в очевидную для всех связь, которая существует между строительством укреплений и военным временем, чешские археологи Шимек и Неуступный внесли существенную поправку: "строительство укрепленных поселений производилось не во времена битв, а наоборот - в период спокойствия и стабилизации" [22]. Другой пример: европейская карта бронзового века обычно представляется археологу расчерченной миграциями и походами, которые как будто документируются этнически характерной керамической посудой. Не зная подлинных имен этих этносов, археолог привычно обозначает их Schnurkeramiker, sznurowcy, носители культуры шнуровой керамики и т.д. Шнуровая керамика встречается от Северного Причерноморья до Скандинавии, но для того, чтобы совершать такие дальние походы и миграции, надо отличаться особой воинственностью и подвижностью, короче говоря, надо вести кочевую жизнь, а нам указывают, с другой стороны, что кочевой образ жизни и производство керамики плохо совместимы по причине хрупкости глиняной посуды! [23]. Поэтому время от времени раздаются голоса, рекомендующие видеть в распространении изделий именно распространение изделий (через торговлю, заимствование, культурное влияние, моду и т.д.), а не делать поспешных выводов о распространении людей [24, 25] [*]. К сожалению, и сейчас авторы этих здравых суждений остаются пока в меньшинстве, и до сих пор говорят больше о нашествии носителей лужицкой культуры на балтийскую
*. Чрезвычайно поучительно суждение английского археолога Кр. Хокса: «Моим собственным термином для этого является сейчас "иммобилизм". Он удерживает доисторические популяции в основном на месте, предоставляя передвижение только торговцам. Обновление или изменение в обычаях или структуре общества оказываются либо стихийными, либо внедряются путем мирного влияния со стороны других народов - далеких и близких, осуществляющих обмен идеями... Многие доисторические культуры представляются по сути дела неподвижными (immobile)» (Hawkes Chr. Archaeologists and indo-europeanists. Can they mate? Hindrances and hopes // Proto-Indo-European. The archaeology of a linguistic problem. Studies in honor of M. Gimbutas. Ed. by S. Nacev Skomal and E.C. Polome. Washington, D.C. 1987. P. 203, 204).
66
![]()
территорию с Запада [1, с. 98; 26], чем о лужицком культурном влиянии [27, с. 48]. Таким образом, культурные влияния, культурный обмен, столь важный для человечества во все времена, скорее преуменьшаются, отчего картина древних этнических отношений невольно подвергается искажению. Предубеждения коснулись и ассортимента предметов культурного обмена, того, что в специальной литературе именуется "импортами". Недооценка ведет к излишней категоричности суждений, которые оказываются рискованными, как, например, утверждение М. Гимбутас: "Burial practices are not loaned" [28, с. 293]. Однако всесильная мода и культурные течения не обходят стороной и погребальный ритуал, который также может заимствоваться от этноса к этносу [29].
СТАТИЧНОСТЬ ПОПУЛЯРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ
Определенной критики заслуживают некоторые влиятельные концепции, стройность которых достигается ценой их собственной статичности. Известно, например, каким широким признанием пользуется теория трехчастной социальной организации и соответствующей ей идеологии у индоевропейцев (Дюмезиль). Можно сказать, что эта трехчастность, трехклассовость (жрецы, воины, скотоводы) имплицируется названным учением уже у ранних индоевропейцев, хотя в такой общей и абстрактной форме это сомнительно и обращает на себя внимание отсутствием идеи эволюции. Теория Дюмезиля не нова и насчитывает не один десяток лет, но современная критика ее, можно сказать, только еще делает первые осторожные шаги. Ср. сомнения, высказанные Поломе по поводу реальности существования упомянутой четкой социальной дифференциации уже у ранних индоевропейцев IV-III тыс. до н.э., если известно даже о древних германцах по письменным источникам, т.е. около начала н.э., что они жили преимущественно бесклассовым обществом, далее - что у них имелись не жрецы, а жрицы, что само развитие общественных отношений могло быть неравномерным у германцев и прочих индоевропейцев, ср. сюда же полное отсутствие трехфункциональной социальной модели у анатолийских индоевропейцев [*]. Наконец, и это важно как самый серьезный исторический корректив к трехчастной социальной теории - для ряда индоевропейских культур необходимо считаться с наличием четвертого класса - ремесленников [30]. О ранней специализации ремесленников по обработке дерева, камня, глины, стекла, янтаря и металла у индоевропейцев бронзового века см. [31, с. 9-10], впрочем, о выделении ремесленников
*. Дальнейшие доводы против дюмезилевской трехчастности и.-е. общества см.: Studien zum indogermanischen Wortschatz. Herausg. von W. Meid (= Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 52). Innsbruck, 1987, passim. См. также рецензию на эту книгу: Anttila R // Language. 64. № 1. 1988. Р. 198-199.
67
![]()
говорят как о феномене неолита, во всяком случае - с неолитической революции, ознаменовавшейся зарождением производящей экономики [32, с. 17-18]. Совершенно очевидно, что вопрос о "диалектологии" индоевропейской социальной организации и культуры еще только предстоит поставить в полный рост. Думается, что со временем крайняя неразработанность хронологии в этой области будет более определенно оценена как неудовлетворительная. Так, неучет хронологии феномена дает повод для ложной этнической атрибуции; например, трудно вместе с Гимбутас [33, с. 7] противопоставлять социально нерасчлененное население "Древней Европы" V тыс. до н.э. (по Гимбутас - неиндоевропейское) социально якобы дифференцированным пришлым индоевропейцам, потому что для столь раннего времени (V тыс. до н.э.!) трудно поверить в факт социальной дифференциации последних на фоне постулируемой автором бесклассовости более цивилизованной "доиндоевропейской" Древней Европы, а также в свете того, что известно о реликтах бесклассовости и социального синкретизма у самих индоевропейцев даже в несравненно более поздние эпохи, по данным письменной истории (выше). Имеет место и негативное давление индоевропейской трехчастной схемы, проявляющееся в готовности некоторых исследователей перекодировать в терминах этой теории весьма различные этнические отношения, особенно если в последних фигурируют три племени или три части этноса, как, например, делается в одном недавнем опыте с тремя русскими центрами - Куяба, Славана, Артания - в арабской традиции X в.
Еще один яркий пример статичной концепции, парадоксальный ввиду внешней динамичности самой концепции, - это теория вторжения в Европу извне (с Востока) индоевропейской курганной культуры. Американский археолог литовского происхождения, Мария Гимбутас, в ряде своих публикаций 60-80-х годов выдвинула теорию, согласно которой Европа не является прародиной носителей индоевропейских языков, которые, будучи всадниками и скотоводами, вселились сюда в результате ряда вторжений ("волн") со второй половины V до начала III тыс. до н.э. Индоевропейцы были степными скотоводами с характерным курганным погребальным обрядом, патриархальной организацией, воинственностью и даже "безразличием к искусству" (indifferent to art). Их культура представляется Гимбутас противоположной культуре неиндоевропейских обитателей "Древней Европы" (термин в этом употреблении также принадлежит Гимбутас) с их оседлым бытом, матриархатом, миролюбием, высоким уровнем ремесла, искусства и всей цивилизации, хотя, при всем этом высоком уровне развития и проистекающего от него богатства среднего класса (а rich middle class), доиндоевропейцы будто бы не имели антагонистических классов. Их культура легла субстратом в основание культуры позднейших индоевропейских завоевателей [34, 28, 33, passim]. Последователи Гимбутас называют индоевропейское
68
![]()
расселение как "1600 лет курганной экспансии" [7, с, 102]. Одна из "курганных волн" (вторая, конец IV тыс. до н.э.) якобы достигла Восточного Средиземноморья [35]. Концепция Гимбутас получила широкое распространение, причем среди языковедов - не меньше, чем среди археологов [36, с. 122]. Сама исследовательница настроена очень решительно и не видит иной альтернативы для решения индоевропейской проблемы: "Если курганная традиция не тождественна с индоевропейской прародиной, чего тогда мы можем ожидать от археологии в решении вопроса пространственной и временной базы праиндоевропейского?" [28, с. 294]. Однако невозможность иных серьезных точек зрения явно преувеличена у Гимбутас. Курганная традиция IV тыс. до н.э. тянется в Сибири до верхнего Енисея [28, с. 295], что зарождает сомнения в ее тождестве с индоевропейской традицией, больше того - вызывает резко критическую реакцию со стороны некоторых археологов, например, Килиана [27, с. 28], который прямо говорит, что выведение индоевропейских племен из-за Нижней Волги и из Казахстана элементарно противоречит европеоидной антропологической характеристике. Отождествление индоевропейцев и поздненеолитической курганной культуры встретило отрицательное отношение и у других археологов, которые считают, что все дело - в точности абсолютных датировок и что якобы производные культуры в Европе практически оказываются одновременными с южнорусскими ямными погребениями, а не более поздними и не производными от последних [31, с. 6, 7]. Далее английские археологи Коулз и Хардинг высказывают также свои сомнения в правомерности чрезмерного обобщения одной культурной черты - типа погребений и использования ее как показателя расового родства; они допускают, что погребальный курган - это своеобразная мода эпохи, а не признак какого-то "курганного народа", тем более, что курганные погребения широко известны "во времени и пространстве". В целом концепция смены населения и прибытия народа курганной культуры обязательно с Востока представляется этим авторам "квази-исторической интерпретацией" [31, с. 102]. Они располагают и конкретным материалом, свидетельствующим, что как раз Восток в существенных моментах сохранял значение архаической периферии, а не источника культурной инновации; так, в то время, когда на территории Западной Украины уже встречается культура курганных погребений в сочетании с культурой шаровидных амфор и шнуровой керамики, на Нижнем Днепре и в задонских степях все еще функционирует культура ямных погребений [31, с. 117]. Но наиболее серьезный критический анализ концепции М. Гимбутас с отрицательным результатом дал немецкий археолог А. Хойслер (ГДР), который пришел к выводу, что погребальные курганы архаических культур Греции не связаны с курганами Северного Причерноморья и допускают локальное объяснение, что подтверждается также косвенно [37]. Так же обстоятельно разбирает и затем отвергает
69
![]()
он "курганизацию" извне других районов, показывая, вслед за другими исследователями, автохтонность курганной культуры в Восточной Европе, ее вырастание из культур местных охотников и рыболовов; шнуровая керамика, известная в Центральной Европе и Скандинавии, возникла отнюдь не в ходе экспансии скотоводов ямной культуры с Востока, а тем более - целого ряда миграций (вариант: трех волн), что не находит и антропологических подтверждений для разбираемых М. Гимбутас неолитических культур (например, на территории Венгрии), во время чего Гимбутас прибегает к явно произвольным социальным интерпретациям (проверка не обнаруживает там признаков социального расслоения и господствующего положения воинов и вообще не находит связи этих культур с севернопричерноморскими). Наблюдаемые в европейских культурах изменения домостроительства, положения мужчин представляют собой "чисто стадиальное явление, итог определенных социально-экономических перемен, которые объяснимы и без нашествий из восточных степей" [36, с. 126]. Хойслер акцентирует возможную эндемичность культур и культурных явлений; он выступает против воззрений на одомашнивание лошади, шнуровую керамику и культуру боевых топоров как обязательный индоевропейский культурный набор. Выводы Хойслера немаловажны для решения индоевропейской проблемы: он считает, что его анализ показал отсутствие оснований для выведения неолитических или раннебронзовых культур Центральной и Северной Европы из Восточной Европы (а также из Западной Сибири или Средней Азии); в Европе имело место непрерывное развитие культуры и населения ("eine kontinuierliche Entwicklung der Kultur und Bevölkerung") вплоть до исторически засвидетельствованных индоевропейских культур и языков [36, с. 139] [*].
*. Вновь обращаясь к проблеме в самое последнее время, Хойслер специально акцентирует непрерывное развитие и.-е. групп при малой вероятности как западных, так и восточных вторжений в неолит и эпоху бронзы. Он указывает, что культура шаровых амфор восходит к автохтонной неолитической культуре воронковидных кубков Центральной Европы. Существенно также антропологическое отличие от Востока, на что обращает внимание и И. Швидецки. Не связаны, далее, распространение и.-е. шнуровой керамики, с одной стороны, и воинственных скотоводов - с другой. В самих пресловутых "боевых" топорах автор усматривает невоенный смысл (ср. аналогично Роулетт, см. у нас далее). См. Häusler A. Protoindo-europäer, Baltoslawen, Urslawen. Bemerkungen zu einigen neueren Hypothesen // ZfA Z. Archäol. 22. 1988. S. 1 и сл.
Относительно более мягкую оппозицию встречает концепция Гимбутас у нашего археолога Н.Я. Мерперта, см.: Merpert N.Ja. Ethnocultural change in the Balkans on the border between the Eneolithic and the Early Bronze Age // Proto-Indo-European... Studies in honor of M. Gimbutas. Ed. S. Nacev Skomal and E.C. Polomé. Washington, D.C. 1987. P. 122 и сл. Автор говорит о самобытности Балканско-Дунайского региона, о древнем сосуществовании индоевропейских групп с неиндоевропейскими, о неприемлемости "простых" решений путем допущения однородного вторжения с Востока. Вторжение кочевников-скотоводов не вело к полной смене населения, причем местные элементы оставались главенствующими. Именно Центральная Европа была ареной интеграции и.-е. групп.
70
![]()
К сожалению, среди лингвистов не удалось заметить особого желания детально критически разобраться в теории Гимбутас, отдельные краткие критические реплики [38] фигурируют на фоне преимущественно положительного приема. Но, в конце концов, критика этой теории изнутри археологии, пожалуй, для нас не менее важна, поэтому мы изложили выше аргументы Хойслера и других археологов. Все говорит о том, что в концепции Гимбутас имеет место феноменальная недооценка внутренних стадиальных потенций (см. выше о статичной сущности этой концепции).
НЕПРЕРЫВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЕВРОПЫ
Альтернатива теории вторичной "курганизации" - индоевропеизации Европы существует; она представлена теориями, утверждающими на основе различных данных возможность непрерывной эволюции индоевропейских этносов и их языков в Европе. Из числа сторонников этой концепции может быть назван испанский археолог, каталонец по происхождению, П. Боск-Жимпéра, работавший в Мексике. Он указывал на возможность возводить зачатки индоевропейского этноса, при всех мыслимых оговорках, к мезолитическим группам населения Европы: о начальных группах индоевропейцев можно более уверенно говорить для неолита, конкретно - V тыс. до н.э. Ареалом (одним из ареалов) этого раннеиндоевропейского группообразования Боск-Жимпера считал территорию Чехословакии и примыкающие районы, иными словами - район дунайской культуры [39, passim]. Эти выводы звучат довольно обобщенно, но следует согласиться с их главной идеей. Неслучайно среднедунайские районы привлекли и наше внимание. Вряд ли можно считать, что при этом смешиваются собственно индоевропейские древности и доиндоевропейские культурно-этнические субстраты, как их понимает, например, Гимбутас. Наблюдаемая ниже известная концентричность культурных и лингвистических ареалов разных эпох в Центральной Европе говорит скорее о том, что здесь действовал механизм преемственного развития с устоявшимся центром и собственными перифериями. Всего этого, пожалуй, не было бы при наслоении чужих пришельцев на чуждый субстрат, когда складываются случайные по своему характеру отношения, если принимать хотя бы постулируемую Гимбутас противоположность укладов (мирные оседлые жители - воинственные завоеватели-кочевники), при которой, как мы знаем из аналогий разных времен, должны бы были преобладать ограбление и уничтожение покоренной культуры, а не нормально функционирующая преемственность, к тому же обнаруживающая свой древний ареал с центром и периферией.
Отмеченный выше как недостаток статизм концепции (или концепций), неразработанность представлений о собственной внутренней стадиальности эволюции и ее временной глубине толкают исследователей
71
![]()
на поиски внешних импульсов, примером чего может послужить вопрос о зарождении культурного коневодства. Не рассматривая его здесь подробно, отметим лишь, что некоторые авторы допускают и для него разумную альтернативу своеобразного параллельного полицентризма возникновения, причем не в одних только степных районах (Хойслер), а другие настаивают на однозначном решении и причем обязательно на импорте извне, ср. предположение о заимствовании колесной повозки с Востока на Запад в связи с тем, что одним из очагов распространения колесных повозок была протоиндская культура III тыс. до н.э. [40]. Но в древнеевропейском культурном ареале, на Балканах (Караново), известны неолитические глиняные модели колеса V тыс. до н.э. [33, с. 7], и нет серьезных оснований отрицать здесь наличие своего древнего очага домашнего коневодства и строительства колесных повозок, а также вероятную причастность к этому индоевропейцев, ср. [41]. Для нас знаменательно указание о заселении индоевропейцами, уже имевшими при себе лошадей, Анатолии, не знакомой прежде с этим животным, причем заселение шло с Запада, очевидно, из районов древнего домашнего освоения лошади, каковыми считаются не только причерноморские степи, но и неолитическая езеровская культура в Болгарии с IV тыс. до н.э. [42]. И все же не последний штрих в картину древней культуры и истории вносит также здесь язык, который заставляет задуматься над степенью адекватности того стереотипного образа раннего индоевропейца - всадника и скотовода, кажется, основательно уже поселившегося на страницах многих научных исследований. Конь помогает этому реконструированному индоевропейцу преодолевать значительные расстояния на картах миграций, приложенных к этим исследованиям (некоторые сомнения по поводу реальности всех этих миграций см. отчасти выше). Культ коня, как и солнечного неба, кажется ученым неотделимым от духовного мира индоевропейца. Однако, если в греческих личных собственных именах классической эпохи (Гомер) насчитывают около 230 сложных имен, включающих ἵππος, 'лошадь, конь', при 19 именах с компонентом βοῦς 'бык' и только двух - с αἴξ 'коза', то в более древней - раннегреческой микенской антропонимии перед нами предстает обратная картина: чаще всего (6 раз) встречаются имена с Aigi- 'коза', одно имя - на gu̯ow- (XV в. до н.э.), и нет ни одного имени, которое наверняка включало бы название лошади [43]. Понятно, что микенский (II тыс. до н.э.) ближе к праиндоевропейскому, и это отчасти наводит на подозрение, что упомянутая выше стереотипная культурная реконструкция содержит некоторые преувеличения. По этому случаю я нахожу нужным процитировать слова из своей книги 1960 г.: "Что касается великих миграций III тысячелетия до н.э., то основной тягловой силой в их осуществлении были быки, а не лошади, хотя, может быть, в глазах отдельных ученых это и наносит ущерб блистательности индоевропейской экспансии" [44].
72
![]()
К ВОПРОСУ ОБ ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ КОНСОНАНТИЗМЕ
Касаясь некоторых особых тем с вынужденной краткостью, я не стану специально разбирать теорию переднеазиатской индоевропейской прародины Гамкрелидзе-Иванова, спор о которой развертывается в литературе, полагая вместе с тем, что сообщаемые мной наблюдения и материалы могут быть использованы в дискуссии. Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов предприняли также полную ревизию праиндоевропейского консонантизма, где на месте традиционных чистых звонких согласных фигурируют глоттализованные и в целом отношения и состав согласных напоминают языки с передвижением согласных (германский, армянский). Можно сказать, что именно эта глава праиндоевропейской реконструкции Гамкрелидзе-Иванова приобрела наибольшую популярность, ср. [45]. И этот вопрос как бы остается в стороне от избранного здесь аспекта праславянского и предславянского индоевропейского, что обязывает нас к краткости, хотя вероятность компенсирующего отношения между состояниями консонантизма и вокализма (см. у нас далее о последнем) и потенциальная важность учета очень многого из праиндоевропейского для лучшего понимания собственно славянской эволюции не позволяют полностью обойти также этот вопрос. Авторы ревизии индоевропейского консонантизма в значительной мере основываются на сопоставительной типологии, в том числе неиндоевропейской. Нельзя не отметить при этом, что не кто иной, как П. Хоппер, пришедший к аналогичному пересмотру индоевропейского консонантизма независимо от наших авторов, питает до последнего времени сомнения как раз в типологической стороне этой концепции, поскольку смена глоттальных обычными звонкими смычными на всей индоевропейской территории типологически уникальна; ожидалось бы (Гринберг) glottalized → unvoiced [46]. Правда, американский ученый все-таки отыскивает такой случай в северо-западном кавказском - кабардинском, вернее, отдельных его диалектах, где глоттальные смычные могут переходить в звонкие, но малость этой типологической базы обращает на себя наше внимание. Попытки найти эти повсюду утраченные глоттальные в индоевропейском дали пока небольшие результаты: обнаруженные в индоарийском языке синдхи, эти глоттальные, оказывается, не отличаются индийской графикой от чистых звонких и, возможно, имеют поздний фонематический характер [47, 18]. Поэтому осторожные исследователи по-прежнему избегают включать глоттализованные согласные в число известных индоевропейских фонологических особенностей и, кроме того, принимают во внимание крайнюю лабильность именно германского и армянского консонантизма (-языков, в которых традиционно предполагается передвижение согласных), делающую проблематичным сохранение первоначального состояния именно в этих языках [48, passim]. Симптоматично, например,
73
![]()
мнение специалистов, что "в Скандинавии, и прежде всего - в Дании, и сейчас происходит передвижение согласных" [49]. Такой поныне синхронно наблюдаемый и живой статус передвижения согласных в германских языках серьезно ущемляет концепцию индоевропейской архаичности этого явления. Недавно было также высказано мнение, что праиндоевропейско-пракартвельские контакты уже отражают наличие праиндоевропейского звонкого ряда b, d, gw, ǵ [50].
СЕМИТСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ИНДОИРАНСКИЙ ВОКАЛИЗМ?
Сосредоточившись на консонантизме, Гамкрелидзе и Иванов касаются индоевропейского вокализма только в одном важном случае - слиянии и.-е. е-о-а в одном гласном а индоиранских языков. Здесь их ближневосточной теории импонирует гипотеза Семереньи о перестройке индоиранского вокализма из классического индоевропейского под семитским влиянием после 2000 г. до н.э. на Ближнем Востоке [21, с. 19; 45, passim; 52]. С семитским происхождением унифицированного индоиранского вокализма решительно нельзя согласиться. По версии Семереньи, этому влиянию индоиранцы подвергались порознь - сначала митаннийские индоарийцы, позднее - иранцы, что само по себе делает мысль методологически уязвимой: вместо сложного и сомнительного предположения, что и те, и другие, прибывавшие, очевидно, разными и разновременными потоками в Переднюю Азию с Севера, проходили точно одну и ту же обработку вокализма, уже априори проще и убедительнее считать, что ввиду единообразия этой перестройки индоарийский и иранский уже провели ее прежде, чем появиться в Передней Азии. Ни лингвогеографически, ни хронологически, ни, как увидим далее, типологически, гипотеза Семереньи не выдерживает критики. Особенно важны здесь севернопричерноморские свидетельства; кроме иранских - скифских примеров слияния е-о-а → а, которые легко почерпнуть в "Словаре скифских слов" В.И. Абаева (никто ведь не станет всерьез утверждать, что скифы принесли с собой этот феномен как семитское влияние, вернувшись из своего двадцативосьмилетнего похода в Азию), не менее красноречив индоарийский материал к северу от Черного моря. Допуская, что он все еще не очень широко известен в науке, назову по крайней мере несколько примеров из своей картотеки северопонтийских indoarica, выбирая по возможности такие случаи, где, не прибегая к реконструкции, по одной только античной письменной передаче севернопричерноморских indoarica, а также их звуковому соответствию древнеиндийским именам и апеллативам можно документировать наличие а ← е-о-а без какой бы то ни было связи с семитской Передней Азией: Asandi ~ др.-инд. āsandī; Βουτουνατος - др.-инд. bhūtanātha-; Δανδάκη - др.-инд. Daṇḍaka-; Καδιυίδας - др.-инд. kovida-; Κοροκονδάμη -
74
![]()
др.-инд. dhāman; Μαγαδαυα ~ др.-инд. mahā-deva; Ἀνάχαρσις ~ др.инд. maha-; ṛṣi-; Πάλακος - др.-инд. Pālaka-; Ζάσας - др.-инд. śaśa-; Ζουρνοί - др.-инд. suvárṇa-; Τάξακις - др.-инд. takṣaká-; Τιργαταώ - индоар. (Алалах) Tirgutawiya-. Даже при несовершенстве античной письменной фиксации бросается в глаза значительная частотность гласного а в этих примерах, где есть продолжения и.-е. е (*dhē-, *meg̑h-, *tek̑s-), не говоря об и.-е. о. Есть и индоарийская изоглосса, охватывающая Северное Причерноморье (Τιργαταώ) и митаннийский индоарийский (Tirgutawiya-, из Алалаха), но допускающая только интерпретацию как занесенная с Севера в готовом виде, с отражением отглагольного прилагательного форманта и.-е. -teu̯- как индоар. -tav-. Еще менее правомочна здесь семитская версия генезиса индоир. а ← е-о-а у Гамкрелидзе-Иванова, поскольку иначе пришлось бы принимать это явление южнее Кавказа, в арийских диалектах, предположительно обитавших в искомой там индоевропейской прародине в IV—III тыс. до н.э. [21, с. 21], откуда они затем будто бы мигрировали в Северное Причерноморье с другими индоевропейскими диалектами, вокализм которых почему-то не испытал названного семитского влияния и продолжал сохраняться в виде е-о-а или е-а.
Весьма перспективна в этом отношении проблема влияния индоарийских диалектов на севернокавказские языки. Вероятность индоарийских лексических заимствований в этих языках после моих работ допускает Г.А. Климов [53, с. 172]. Так, например, адыг. шы 'лошадь', абх.-абаз. а-чъы/чъы, убых. чы то же правомерно связывать с др.-инд. aśva- то же, ср. [54, с. 88; иначе ср. 55, т. II, с. 141], при этом существенно не только наличие е > а, как в обеих индоиранских ветвях, но и индоарийский шипящий рефлекс и.-е. k̑ в *ek̑u̯o-, в отличие от иран. asva-, aspa-, assa-. Аналогичную дифференциальную характеристику можно увидеть в адыг. ажэ/ачъэ 'козел-производитель', объяснявшемся и ранее как заимствование из индоевропейского, ср. др.-инд. ajá-, пехл. azak 'коза', см., вслед да Дюмезилем, [49, т. I, с. 58], но мы здесь отметим, кроме индоиран. а, специфически индоарийский (ǰ), а не иранский (z) консонантизм.
Упрощение вокализма е-о-а → a, несомненно, совершилось в Европе и - главное - без затруднений может быть объяснено за счет внутренних средств индоевропейских диалектов. Семереньи заблуждался, полагая, вслед за Хаммерихом, что переход е > а уникален, лишен аналогии в индоевропейском и что внутренние, структурные аргументы исчерпаны [51, с. 151. Наука давно располагает Данными, позволяющими точно локализовать этот переход как эндемичный в Центральной и Восточной Европе. При этом достаточно сослаться на наличие фонологически тождественных случаев открытого
75
![]()
(краткого) е = ä (коррелирующего с закрытым - долгим - ē) в таких разных языках, как литовский и близкий для Семереньи венгерский язык. Далее, сюда имеет самое прямое отношение феномен русского яканья, т.е. е > ᾽a в безударном положении. Поскольку понятна органическая связь последнего явления с феноменом аканья, т.е. о = а в безударной позиции (русский, белорусский), реальность и органичность перехода е > а станут ясными без дальнейших доказательств и без внешнего импульса вроде семитского. Если взвесить, к тому же, серьезное вероятие, что краткое слав. е, как и о, наоборот, возможно, сменило предшествующее а в определенных позициях, например, по концепции Вайяна [56, с. 108 и сл.], ср. опыты записи праслав. е-о как ä-a у Мареша (правильнее, видимо, было бы ᾽a-а), то постепенно начнет вырисовываться подлинная грандиозная картина циклической эволюции вокализма индоевропейских диалектов Восточной и Центральной Европы, эволюции, в которой переходы е > а получают смысл нормальных рецидивов (обратных переходов) всякого развития. Существенно, что славянский и его диалекты играют в этой общей картине не последнюю роль и, кажется, помогают понять не одни лишь славянские факты. Я имею в виду то, что в ряде русских (южновеликорусских) диалектов практически функционирует - в безударных позициях - вокализм "индоиранского" типа а/᾽a на месте е-о, но из этого ровным счетом ничего не следует ни о возможности индоиранского, ни тем более - семитского влияния, ни, разумеется, о проживании предпраносителей наших диалектов на Ближнем Востоке. Я упомянул выше о рецидивах е > а не случайно, но с желанием привлечь внимание к этим всплывающим на поверхность потока эволюции реликтам древних данностей. Точно так же мы, например, наблюдаем вторичную тенденцию передней артикуляции иран. а > осет. œ, ä в осет. Xumœllœg 'хмель' и в его отражении в слав. *xъmelь, иначе было бы * xъmolь из иран., осет. *хumal-, см. [57]. Все это вместе говорит об исконности и эндемичности описываемого феномена для Центральной и Восточной Европы.
При обсуждении проблемы на съезде славистов в Киеве мне возражали (К.В. Горшкова), что мое сближение южновеликорусского аканья и унификации индоиранского вокализма носит панхронический характер, а также, что существуют изоглоссная, типологическая, историческая интерпретации аканья, которое, к тому же, принято считать поздним явлением. В мои задачи не входило обозрение русистской литературы по аканью, кроме того, я намеренно затронул аспекты, обычно оставляемые в русистике без внимания. Верно, что аканье фиксируется в относительно поздние века, но это еще ничего не говорит о его генезисе. Симптоматичны поэтому поиски истоков аканья в балтийском субстрате, имея в виду слияние и.-е. о, а в балт. а. Как бы мы ни относились к этому решению (лично я - скорее отрицательно), одно это уже углубило бы
76
![]()
потенциально хронологию поисков на несколько столетий. Ясно, что нельзя смешивать случаи первой фиксации аканья на письме и возможное зарождение этого явления в языке, во всяком случае называть такую интерпретацию исторической мы не вправе. История и этого явления начинается раньше его письменной истории. Не будут удовлетворительны также изоглоссная и типологическая интерпретации, если они замыкаются в восточнославянском ареале. Недаром новые подходы славистики к проблеме аканья формулируются как "Общеславянское значение проблемы аканья" (именно так названа известная книга В. Георгиева, В.К. Журавлева, С. Стойкова, Ф.П. Филина, вышедшая в Софии в 1968 г.). Слависты указывают параллели русскому аканью на перифериях славянского ареала (родопское аканье болгарского, словенских диалектов), а это подсказывает мысль, что и русское аканье есть периферийное явление (в терминах лингвистической географии), т.е. по-видимому, явление архаическое. Вообще целый ряд восточнославянских языковых (фонетических) явлений целесообразно рассматривать как периферийные для всего славянского ареала и архаические. Нужно допустить, что истоки аканья уходят в древность, причем нет веских причин видеть в нем действие балтийского или других субстратов. Исследование генезиса явления дописьменной эпохи требует типологического подхода, а типология вообще дает нам право на известную панхронию. В этих условиях значительная дистанция по временной вертикали между русским аканьем и индоиранским преобразованием вокализма должна не шокировать, а, напротив, располагать к размышлению (на реплику В.Н. Чекмана - в дискуссии "круглого стола" сентября 1983 г. (см. выше) - о том, что данные об аканье еще не готовы для использования в исследованиях по этногенезу, пришлось ответить, что в принципе вряд ли наступит время, когда анализ той или иной важной проблемы будет полностью завершен, поэтому нельзя откладывать синтез до столь неопределенного будущего).
Вообще не исключено, что частотность краткого а в древнем индоевропейском была гораздо выше, чем обычно думают, к этому подводят некоторые новые продуктивные и смелые разработки генезиса индоевропейского вокализма [58, passim; 59, с. 36-38]. Неапофоническое и фонологически не дифференцированное а нам представляется реальной ипостасью древнего неопределенного гласного призвука Λ, постулируемого A.C. Мельничуком до начала всякой апофонии. Разумеется, регулярная е/о-апофония - продукт вторичного развития, вытеснившего и.-е. а на вторичные (экспрессивные и т.п.) функции. Но эта эволюция никогда не была прямой и полной, она знала и знает возвраты, по которым нужно уметь читать ее прошлое. Мы здесь касаемся только наиболее архаичного - краткостного (а у восточных славян - mutatis mutandis - безударного) вокализма, оставляя в стороне долгие гласные и возможное участие в них ларингальных.
77
![]()
В целом же рассмотрение вокалических процессов в тесной связи с консонантными было бы весьма желательно и притом - в большей степени, чем это делалось в нашей науке до сих пор.
ЛИТЕРАТУРА
1. Lehr-Spławiński Т. О pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946.
2. Moszyński К. Pierwotny zasiag języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957.
3. Трубачев О.И. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // ВЯ. 1982. № 4.
4. Трубачев О.И. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // ВЯ. 1982. № 5.
5. Королюк В Д. К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. С. 25.
6. Jażdżewski К. Etnogeneza Słowian // Słownik starożytności słowiańskich. Wrocław etc., 1961. Т. 1. S. 456.
7. Alexander S.M. Was there an Indo-European art? // The Indo-Europeans in the Fourth and Third millenia. Ed. by Polomć E.C. Ann Arbor, 1982 (со ссылкой на Мэллори).
8. Кухаренко Ю.В. Полесье и его место в процессе этногенеза славян // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 14-18. IX. 1965. Wrocław etc., 1968. S. 245.
9. Kurnatowska Z. [Dyskusja] // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Komisję Slawistyczną przy Oddziale PAN w Poznaniu w dniach 8-9. XII. 1978. W-wa, 1980.
10. Forstinger R. Rec.: Győrfy Gy., Hanák Р., Makkai L. és Móczy A. A Kárpátmedence népei a honfoglalás előtt. Budapest, 1979 //Zpravodaj Mistopisné komise ČSAV. 1981. Ročn. XXII. Č. 1-2. S. 121.
11. Топоров B.H. Новейшие работы в области изучения балто-славянских языковых отношений (библиографический обзор) // ВСЯ. 1958. Вып. 3. С. 145-146.
12. Hensel W. La communauté culturelle archéologique balto-slave // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. P. 81.
13. Chropovský В., Šalkovský Р. Novšie archeologické poznatky k riešeniu etnogenézy Slovanov // Ceskoslovenská slavistika. Pr., 1983. S. 152.
14. Brozović D. О mjestu praslavenskoga jezika u indoevropskom jezičnom svijetu // Radovi [Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet - Zadar]. Razdio filoloških znanosti. Sv. 21 (12), Zadar, 1983. S. 12.
15. Leeming H. Some problems in comparative Slavonic lexicology // The Slavonic and East European review. 1983. V. 61. № 1. P. 38.
16. Ванагас А.П. Проблема древнейших балто-славянских языковых отношений в свете балтийских гидронимических лексем. Препринт. Вильнюс, 1983. С. 23-24.
17. Мартынов В.В. Становление праславянского языка по данным славяно-иноязычных контактов. Минск, 1982, passim.
18. Откупщиков Ю.В. Балтийский и славянский // Сравнительно-типологические исследования славянских языков и литератур: К IX Международному съезду славистов. Л., 1983. С. 53 и сл.
78
![]()
19. Markey T.L. Introduction // On dating phonological change. A miscellany of articles. Ed. by Markey T.L. Ann Arbor, 1978. Р. VIII-IX.
20. Szemerenyi O. Sprachverfall und Sprachtod, besonders im Lichte indogermanischer Sprachen // Essays in historical linguistics in memory of J.A. Kerns. Ed. by Arbeitman Y.L. and A.R. Bomhard (= Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. IV). S. 296 и сл., особ. S. 304.
21. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Миграции племен - носителей индоевропейских диалектов - с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии // ВДИ, 1981. №2.
22. Neustupný J. A propos de la naissance des enceintes fortifiées des Slaves tcheques // Rapports du IIIе Congres international d'archćologie slave. Bratislava, 7-14 septembre 1975. Br., 1980. Т. 2. Р. 313.
23. Meyer Е. Die Indogermanenfrage // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968. S. 260.
24. Labuda G. Udział Wenetów w etnogenezie Słowian // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa; Poznań, 1980.
25. Thomas H.L. Archaeological evidence for the migrations of the Indo-Europeans // The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia. P. 63.
26. Мартынов B.B. Балто-славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез славян // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981. С. 16.
27. Kilian L. Zu Herkunft und Sprache der Prußen. Bonn, 1980.
28. Gimbutas M. An archaeologist's view of PIE in 1975 // The journal of Indo-European studies. 1974. 2.
29. Winn Sh.M.M. Burial evidence and the Kurgan culture in Eastern Anatolia c. 3000 B.C.: an interpretation // The journal of Indo-European studies. 1981. 9. P. 113.
30. Polomé E.C. Indo-European culture, with special attention to religion // The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia. Ann Arbor, 1982. Р. 162 и сл. 169.
31. Coles J.M., Harding A.F. The Bronze Age in Europe. An introduction to the prehistory of Europe c. 2.000 - 700 ВС. L., 1979.
32. Журавлев B.K. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.
33. Gimbutas М. Old Europe in the Fifth milliennium B.C.: the European Situation on the arrival of Indo-Europeans // The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia.
34. Gimbutas M. Die Indoeuropäer: archäologische Probleme // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968.
35. Zanotti D.G. The effect of Kurgan wave two on the Eastern Mediterranean (3200-3000 B.C.) // The journal of Indo-European studies. 1981. 9. P. 275 и сл.
36. Häusler A. Zu den Beziehungen zwischen dem nordpontischen Gebiet, Südostund Mitteluropa im Neolithicum und in der frühen Bronzezeit und ihre Bedeutung für das indogermanische Problem // Przegląd archeologiczny. 1981. 29.
37. Häusler A. Die Indoeuropäisierung Griechenlands nach Aussage der Grabund Bestattungssitten // Slovenská archeológia. 1981. XXIX. S. 61, 65.
38. Schmitt R. Proto-Indo-European culture and archeology: some criticai remarks // The Journal of Indo-European studies. 1974. 2. P. 279 и сл.
79
![]()
39. Bosch-Gimpera Р. Die Indoeuropäer. Schlußfolgerungen // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968 (перевод заключения в книге 1961 г.)
40. Иванов Вяч.Вс. К этимологии некоторых миграционных культурных терминов // Этимология. 1980. М., 1982. С. 166.
41. Maringer J. The horse in art and ideology of Indo-European peoples // The journal of Indo-European studies. 1981. 9. P. 177 и сл.
42. Mellaart J. Anatolia and the Indo-Europeans // The journal of Indo-European studies. 1981. 9. P. 137.
43. Milewski Т. Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław etc., 1969. S. 149-150.
44. Трубачев О.И. Происхождение названий домашних животных в славянских языках (этимологические исследования). М., 1960. С. 15.
45. Bomhard A.R. A new look at Indo-European (1) // The journal of Indo-European studies. 1981. 9. P. 334 и сл.
46. Hopper P.J. Areal typology and the Early Indo-European consonant system // The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia. Р. 130.
47. Kortlandt F. Glottalic consonants in Sindhi and Proto-Indo-European // HJ. 1981. 23. P. 15 и сл.
48. Erhart A. Nochmals zum indoeuropäischen Konsonantismus // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1981. 34.
49. Стеблин-Каменский М.И. Скандинавское передвижение согласных // ВЯ. 1982. № 1.С. 48.
50. Дьяконов И.М. О прародине носителей индоевропейских диалектов. I. // ВДИ, 1982. № 3. С. 20.
51. Szemerényi О. Structuralism and substratum. Indo-Europeans and Aryans in the Ancient Near East // Lingua. 1964. 13.
52. Szemerényi O. Language decay - the result of imperial aggrandisement? // Recherches de linguistique. Hommages а M. Leroy. Bruxelles [б.г., отд. отт.]. Р. 214.
53. Климов Г.А. Несколько картвельских индоевропеизмов // Этимология. 1979. М., 1981.
54. Кварчия В.Е. Животноводческая (пастушеская) лексика в абхазском языке. Сухуми, 1981.
55. Шагиров А.К. Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков: [I] А-Н. М., 1977; [II] П-I. М., 1977.
56. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. Т. I. Phonétique. Lyon; Paris, 1950.
57. Этимологический словарь славянских языков / Под ред. Трубачева О.Н. Вып. 8. М., 1981. С. 144.
58. Мельничук A.C. О генезисе индоевропейского вокализма // ВЯ. 1979. № 5-6.
59. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Современное состояние и проблемы. М., 1981. С. 36-38.
ИЗОГЛОССЫ ВНУТРИ АРЕАЛА САТЭМ. DACO-SLAVICA
Оценив в предыдущем отнюдь не периферийную и не внеиндоевропейскую природу процесса е-о-а → а в индоиранском, мы коснемся в интересующем нас плане консонантной проблемы кентум/сатэм. Собственно говоря, в силу занятий славянскими древностями мы уделим внимание лишь некоторым аспектам сатэмизации и положению группы сатэм в первую очередь. Вполне вероятно, что группа языков сатэм занимала не периферийное, а скорее центральное положение в индоевропейском ареале, тогда как языки кентум с давних пор расположились на дальних и ближних перифериях [60]. Сатэмизация, а точнее - ассибиляция первоначального индоевропейского палатального задненебного k̑ (а также g̑, g̑h), есть по самой своей природе инновация, т.е. наиболее продвинутое состояние, которое обычно имеет смысл ассоциировать с центром соответственного ареала. Естественно, однако, и в очаге инновационного явления ожидать сохранения архаизмов, им не затронутых, тем более, что речь должна идти не о чистой фонетике, но и о лексике (лексикализация). В каждом языке-сатэм есть элементы кентум - либо в виде собственных архаизмов разного рода, либо иноязычных заимствований. Такого рода отклонения еще не дают оснований для того, чтобы говорить о переходных языках или переходных зонах (как иногда делают, говоря о древних индоевропейских языках Балканского п-ова), но отражают лишь вкратце отмеченную выше суть явления. Наоборот, наличие элементов сатэм в языках-кентум или совершенно не отмечается, что представляется вполне естественным, или же проблематично и требует особого объяснения. Таким образом, проблема кентум/сатэм остается по-прежнему проблемой этнолингвистики и лингвистической географии, именно в этих областях она плодотворно комментируется современными исследованиями и обретает определенную актуальность, в которой ей одно время отказывали, а некоторые упорно отказывают и сейчас (например, В. Георгиев, И. Дуриданов в Болгарии). Соображения о связи этой проблемы с разными стилями речи, в частности сатэмизации - с аллегровым, быстрым стилем, а сохранной кентумности - с медленным, тщательным стилем речи [61, passim] в чем-то верны, но не раскрывают сути явления, кроме той, что уже известна (инновация), и вряд ли могут оказаться особенно перспективными. Дальнейший прогресс изучения проблемы кентум/сатэм может обеспечить углубленная разработка изоглоссного метода. Так, если до сих пор довольствуются, как и в лингвистике XIX в., выделением двух основных изоглоссных зон - кентум и сатэм, то теперь это уже не может считаться достаточным, поскольку накопился материал и для более
81
![]()
новых обобщений. Все в общем признают наличие при сатэмизации стадии аффрикаты, но споры насчет характера аффрикаты ведутся, скорее, в бескомпромиссном духе: или это была аффриката ряда č, или c(ts) [44, с. 5]. Однако распространять одну или другую стадию на весь ареал сатэм было бы насилием, которому сопротивляются уже известные языковые факты. Эти последние как раз диктуют необходимость компромиссного решения, а точнее - констатации дальнейшего внутреннего изоглоссного деления в рамках самой изоглоссной зоны сатэм. Так, например, сатэмизация типа k̑ > č > š/ś характеризует древнеиндийский и вообще индоарийский, но уже иранский с его s, z < k̑, g̑ прошел, видимо, стадию другой аффрикаты - ряда с, которая сохранилась в кафирских языках. Стадия аффрикаты č прослеживается еще в армянском и балтийском (литовском), тогда как "кафирская" стадиальная изоглосса c(ts) < k̑ отличала, очевидно, также славянские языки, существенно отграничивая их от балтийских [62]. У инновации k̑ > c(ts) был, по-видимому, кроме стадиального, также ареальный аспект. Во всяком случае инновационная изоглосса k̑ > c(ts), отграничивая, как уже сказано, славянский от балтийского, сближает его с балканско-индоевропейским. Так, указывалось, что алб. th, восходящее к и.-е. k̑, определенно свидетельствует о промежуточной аффрикате tś [63]. Возможно, близкую к раннепраславянской стадию аффрикаты c(ts) < k̑ знал дакский, ср. рассуждения относительно субстратного в таком случае рум. ţarca Сорока' [64]. Неслучайными поэтому могут показаться попытки определить центральное положение славянского в языках сатэм, как, например, в [65, passim], но взгляд автора на славянский как на некий "сатэмный остров со звуком о, целиком окруженный a-сатэмными языками" представляется не вполне соответствующим действительному положению вещей, в котором мы попытались разобраться выше в связи с индоиранским переходом е-о-а → а.
Однако из общего вероятия периферийного расположения кентумных языков еще не следует делать вывод о наличии языка-кентум в древней Восточной Европе [66]. Это была преимущественно сатэмная зона с кентумными элементами разного статуса (см. выше). Один такой эпизод, достаточно интересный в лексическом, ареальном и культурноисторическом плане, представляет название конопли и его этимология (подробнее см. в [67]).
НАЗВАНИЕ КОНОПЛИ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ САТЭМ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Название конопли охватило многие языки Европы с раннего времени, но в большинстве из них оно обнаружило чужеродные характеристики, например, попав в германский еще до I германского передвижения согласных, оно все же сохраняло негерманский вид (hanapis), точно так же греч. κάνναβις имело негреческий вид, что
82
![]()
все вместе способствовало "неиндоевропейской" репутации этого слова [68]. Однако традиционное мнение сейчас можно считать предубеждением, мешавшим видеть истоки слова. Греческое, латинское, славянское, германское названия конопли заимствованы, но не из Передней и не из Малой Азии. В Грецию конопля пришла вместе с названием непосредственно с севера. Возможно, промежуточным посредником явился фракийский язык с его неустойчивостью консонантизма, поскольку первоисточником греческого и фракийского слов была, видимо, форма *kan(n)apus-, как это подсказывает инверсионный вариант *puskana-, известный в Восточной Европе (ср. русск. посконь и другие формы). При этом отмечается возрастающее богатство форм и значений по мере продвижения на Восток, а не на Запад, что объективно противоречит этимологии Мейе из латинского. Далеко не все ясно относительно словообразовательно-этимологического гнезда *konopja в славянском. Так, сюда же еще, возможно, относится слав. *kǫpati (sę) 'купать(ся)', если из первоначального *kan(a)p- в связи со скифской (восточноевропейской) культурной традицией парной бани с применением испаряющегося конопляного семени (Herod. IV, 75).
Главным отправным пунктом в истории конопли как слова и вещи должно служить точное указание Геродота, что конопля характерна для Скифии, где она "и растет сама, и сеется". Положения не меняет и то, что соседствующие со Скифией с запада более культурные фракийцы даже делают из конопли одежду (Herod. IV, 74). Финно-угорская праформа *kanapis и вообще версия о происхождении из нее славянского и других (выше) названий конопли [69, т. 1, с. 559] нереальны, соответствующие формы отдельных финно-угорских слов - полностью или частично - сами заимствованы из северопонтийских районов. Есть основания считать название конопли местным, восточноевропейским словом индоевропейского происхождения, в конечном счете - из индоиран. *kana- 'конопля', ср. сюда же, с одной стороны, др.-инд. śaṇá- 'сорт конопли Cannabis sativa или Crotolaria juncea' [70], с другой стороны - осет. gœn/gœnœ 'конопля', продолжающее скиф. *kana- то же [71, т. 1, с. 512-513]. Здесь - в вариантах одного слова - представлены сатэмные (сатэмизированные) формы и исконно велярные формы. Сюда относятся, далее, осет. sœn/sœnœ 'вино', др.-инд. śaṇa- также в значении 'опьяняющий напиток', ср. топонимическое сложение Κινσάνους в средневековом Крыму, название Алуштинской долины, что-то вроде 'страна вина', 'винная', толкуемое нами из индоар. (тавр.) *kim-śana- 'винное'. Аналогию можно наблюдать в частично сатэмизированном др.-инд. śarkara-, безусловная редупликация более простой основы *kar- 'камень', пережиточно сохранявшейся в Европе. Последующая лексикализация закрепила в индоиранском оба варианта - сатэмный *śana- и кентумный *kana-, хотя архаичная велярность просматривается, причем - в сочетании с архаичной семантикой: др.-инд. káṇa-
83
![]()
'зерно, семя, крошка', которое Майрхофер [72, т. 1, с. 146] считает неясным. Женская конопля - семенное растение, откуда название дано по семени в местных индоиранских языках Северного Причерноморья. При этом любопытно, что для обозначения дикой конопли было использовано в сущности доземледельческое название семени. Индоиран. *kana-, возможно, родственно греч. κόνις 'пыль', лат. cinis 'зола', далее - экспрессивному греч. κόκκος 'зернышко, семечко плода'. Экспрессивная геминация в последнем, как и в греч. κάνναβις, позволяет понять церебральность др.-инд. kaṇa -, śaṇa- тоже как экспрессивную. Несколько труднее обстоит дело с интерпретацией другого компонента исходного сложения *kana-pus-, давшего все прочие европейские названия конопли: может быть, в связи с др.-инд. púmān 'мужчина, самец', т.е. как 'конопля мужская'? Последующие смешения названий мужской - бессемянной - и женской конопли возможны. Или мужская конопля названа как 'пыльниковая, опыляющая' - от и.-е. *pu-s- 'дуть, веять'? (От этой основы произведена древнеиндийская лексика цветов и цветения: púṣkaram 'лотос', púṣpam 'цветок', púṣyam то же, púṣyati 'цвести, процветать'; в иранском словарном составе эта основа представлена очень слабо).
ОБ ОТРАЖЕНИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО КОНСОНАНТИЗМА В СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ-САТЭМ
Споры вокруг проблемы кентум/сатэм продолжаются; они захватывают порой всю проблематику консонантизма, особенно в сатэмных языках (а подчас также и вокализма), и это не случайно, потому что инновационная природа ряда процессов в языках-сатэм представляется как бы эманацией их - по ряду признаков (выше) - срединного положения в индоевропейском языковом пространстве. Опасность прямолинейных умозаключений подстерегает, впрочем, лингвистов и здесь. Рассматривая славянский консонантизм под углом зрения сатэмной инновации, они нередко склонны недооценивать присутствующие рядом архаизмы, трактуют, например, упрощенно проблему отражения индоевропейских лабиовелярных задненебных gu̯, ku̯, приходят к выводу о полном их исчезновении, делабиализации при сатэмизации. При этом обычно оставляются без внимания факты выделения (не исчезновения) губного тембра u̯ в особую артикуляцию в ряде примеров славянского: *gъrdlo - и.-е. *gu̯ṛ-; *gъnati -и.-е. *gu̯hen-, *ghun-; *gъrnъ - и.-е. *gu̯hṛno-. Вайян, который видел здесь продолжение в славянском названных индоевропейских форм [50, с. 171], вероятно, был прав, в отличие от своих оппонентов, ср. [73, 74]. Очевидно, внимательная ревизия соответствующих фактов славянского могла бы укрепить и развить концепцию преемственного развития, или, иначе говоря, более комплектного отражения индоевропейского консонантизма в славянском языке-сатэм.
84
![]()
ЦЕНТР ПРАСЛАВЯНСКИХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ - В ПАННОНИИ
В послевоенной славистике, кажется, не привлекла особого внимания одна небольшая публикация Т. Милевского [75], которая такого внимания в полной мере заслуживала и представляется нам теперь симптоматичной в плане наших нынешних интересов. Польский лингвист указал на выделение в позднепраславянский период (начиная с VII-VIII вв.) центра ряда важных фонетических инноваций, а заодно и центра славянской территории, каким оказался район к югу от Карпат, в частности Паннония. Милевский считает, что именно отсюда исходили семь новых фонетических процессов позднепраславянского языка:
1) метатеза плавных (интересно отметить, что восточнославянское состояние to/rot характеризуется им как дометатезное, с передвижением границы слога из первоначального tar/t, т.е. по сути дела как периферийный архаизм);
2) переход носовых гласных в губные ("за вычетом трех периферий", куда он относит лехитский, а также словенский и болгаро-македонский);
3) победа узкой артикуляции ě = e/ė/i (кроме лехитского и восточноболгарского ареалов);
4) переход праслав. у > i;
5) падение праславянской интонации;
6) диспалатализация мягких согласных перед передними гласными (с убыванием по мере продвижения со славянского Юга на славянский Север; при этом автор указывает на наилучшую сохранность палатальности на славянском Севере - в поморских, мазовецких и далее - белорусских диалектах, т.е. на перифериях славянского языкового пространства, в терминологии Милевского; не можем не обратить внимания на то, что Мартынов [76] называет именно лехитскую территорию, "на север и на запад от Подляшья", эпицентром аккомодации в праславянском духе);
7) переход g > h в XI-XII вв. в центре Славии, т.е. в.-луж., чеш., словац., укр., белорусок., ю.-в.-р. (здесь интересна тенденция внутриславянского объяснения g > h, которое В.И. Абаев несколько ранее попытался, как известно, тоже опираясь на ареальные данные, отнести на счет иранского - скифского субстрата).
Можно сказать лишь, что нам не кажутся убедительными заключительные собственные выводы самого Милевского о том, что в конце праславянского периода состоялся перенос центра славянских инноваций на юг из более северных районов. Подобное умозаключение как бы логически превращает земли к югу от Карпат (Паннонию и соседние с ней) в периферию предшествующего славянского ареала, а от периферии мы, как и сам Милевский, были бы склонны ожидать устойчивых архаизмов, но отнюдь не инноваций, да, к тому же, столь комплектных. Вообще Центр ареала - величина весьма стабильная, в его мобильность и нормальное функционирование при этом именно как центра ареала, resp. инноваций, плохо верится. Инновации и миграции на периферию ареала все-таки плохо совместимы. Единственно правильный
85
![]()
вывод из наблюдений Милевского - это тот, что центр праславянской территории и ранее традиционно находился к югу от Карпат.
Между прочим, и археологи называют центром доподлинно славянской пражской керамики моравско-словацкую территорию в бассейнах Вага и Моравы [77, с. 26]. На всем ареале керамики пражского типа, за характерным исключением висло-одерского региона, отмечается в качестве типичного раннеславянского жилища прямоугольная полуземлянка с печью или очагом в углу. Такая форма жилища встречается на территории Словакии и Моравии, т.е. на непосредственно придунайских землях, с достаточно раннего времени [78]; присутствие полуземлянок славянского типа в карпато-дунайских землях констатируется в III-IV вв. н.э., т.е. в эпоху Черняховской культуры [79]. В отличие от господствовавшего прежде убеждения о хронологическом разрыве между культурами римского времени и раннеславянской культурой, исследователи начинают говорить о контакте и сосуществовании этих культур [80]. Правда, цитируемые археологи мыслят себе среднедунайское пространство как славянизированное вторично со стороны Правобережнрй Украины и Южной Польши, но для нас здесь важнее выделить практическую современность придунайских раннеславянских культурных остатков черняховской эпохе и позднеримскому времени.
В наших глазах и в свете отстаиваемой нами концепции придунайского ареала древних славян большое значение приобретают результаты археологического обследования, которые привели к выводу, что не только славянская керамика великоморавских поселений VIII—IX вв., но и раннеславянская пражская керамика IV и последующих веков приблизительно этих же районов изготовлялась в точном соответствии с римскими мерами жидких и сыпучих тел [81, с. 121 и сл., 136, 137, 138]. Любопытно, что метрологическое единство великоморавской славянской керамики и раннеславянской придунайской керамики пражского типа и римскую основу этого единства авторам приходится объяснять как знакомство славян с римскими мерами "еще до ухода с прародины" [81, с. 140], хотя наиболее очевидным здесь был бы аргумент непрерывности не только техники производства, но и придунайского ареала обитания, а концепция прихода славян на Дунай с прародины к северу от Карпат лишь затруднила бы понимание вещей. Экскурс в раннеславянскую гончарскую метрологию по римскому образцу предпринят нами ввиду интердисциплинарного интереса, который представляют эти данные. Для общей картины важно иметь в виду существование отличного фона; например, те же исследователи отмечают, что керамика тисского типа, видимо, принадлежавшая кочевникам, изготовлялась в соответствии с другой системой мер; на Западе распространенную римскую систему мер реформировал Карл Великий.
Таким образом, то, что теории славянской прародины на север от Карпат до последнего времени объясняют как "относительно
86
![]()
раннюю славянизацию" Моравии и Словакии [82], допускает в связи с притоком новых фактов квалификацию как центров языкового и культурного развития древних славян. Неудивительно также, что и в отношении Паннонии наука возвращается и еще будет возвращаться к пересмотру вопроса о присутствии там славянского элемента в древности, в частности, на материале ономастики, ср. весьма прозрачное название племени озериаты близ озера Пельсо (Балатон) и название реки Bustricius (географ Равеннский), которое неотделимо от многочисленных славянских гидронимов Быстрица [83]. Территориальная привязка озериатов к Паннонии, как и связь этого названия со славянским названием озера, достаточно конкретно свидетельствуют против попытки вывести последнее из балтийского, ср. [84].
О ЦЕНТРЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО АРЕАЛА
Лингвистические судьбы праславян неразрывно связаны с лингвистическими судьбами праиндоевропейцев, и эта точка зрения все-таки постепенно прокладывает себе путь - не как предвзятая идея, а как вывод, вытекающий из растущих численно фактов, которые сопротивляются и теории балто-славянского языкового единства и относительно новой концепции, рассматривающей славян как индоевропейцев как бы в третьем поколении. Все более тесное слияние задач и материалов праславистики и индоевропеистики побуждает одних и тех же исследователей почти с равной интенсивностью решать вопросы славянского и индоевропейского глотто- и этногенеза, что нашло, естественно, отражение и в настоящей работе. Западногерманский славист Ю. Удольф после своей большой книги о славянской гидронимии и прародине славян 1979 г. (см. о ней нашу рецензию [85]), где он, как известно, пришел к спорной локализации праславян на ограниченной территории в Прикарпатье, обратился также к проблеме раннего членения индоевропейского на материале гидронимии [86, passim]. Заранее замечу, что меня не удовлетворили и на этот раз выводы автора и основное направление его мыслей, но собранный им материал, а главное - его картографическая проекция представляют немалый интерес и дают новую пищу для праязыковых штудий и локализаций, правда, совсем не в том смысле, в каком представлял Удольф. Эти данные удобно отражены на карте в его статье [86, с. 60], которую мы используем и далее, на своей карте. Суть наблюдений Удольфа сводится к тому, что на древней карте Европы отмечаются три крупных скопления индоевропейских гидронимов: так называемый "северо-западный блок" (в низовьях Рейна и междуречье Везера и Эльбы), затем - в Италии и, наконец, в Прибалтике, не говоря о редких гидронимах, рассеянных без видимых скоплений в промежуточном пространстве описанного треугольника (у нас далее опускаются). В этих трех гидронимических
87
![]()
скоплениях древней Европы Удольф видит непосредственное отражение ранних индоевропейских диалектных групп. Балтийскую гидронимическую группу он считает основной, центральной (в чем он следует балтоцентристской модели своего учителя В.П. Шмида), мысленно протягивая от нее линии к соответствиям в обеих других группах. Не буду повторяться о кучности гидронимов как явлении, характерном для зоны экспансии (периферия), а не для исходного центра, скажу только, что балтийская зона не может быть центром, поскольку это классическая периферия. То, что итальянская группа гидронимов - это другая такая же периферия индоевропейского ареала на юге, в Средиземноморье, а нижнерейнско-везерская группа - это тоже периферийная зона на северо-западе, надеюсь, не станет оспаривать и сам Удольф. Уже это одно сопоставление должно бы навести на мысль об аналогичном статусе балтийской группы. Важность сопоставления всех трех групп у Удольфа - в том, что они помогают четко очертить внутреннее пространство между ними, которое нас интересует, надо сказать, больше всего. Если соединить балтийскую и итальянскую группы гидронимов условной линией, ее средняя часть ляжет примерно на Подунавье. Из этого полученного нами центра другая условная прямая линия может быть проложена в сторону "северозападного блока". Это и был старый языковой и этнический центр индоевропейской Европы, выведенный нами в Подунавье как бы с помощью векторного определения. Разумеется, и наша попытка схематична, но схематизм этот другой, он построен на учете динамики этнического и лингвистического (гидронимического) освоения новых пространств. Интересно попутно отметить, что из трех крупных ранних индоевропейских гидронимических периферийных групп две обращены к северу. Это согласуется с тем вероятием, что индоевропейское освоение шло с юга на север, что Север был освоен вторично и притом - не до конца, ср. все еще зияющую, несмотря на усилия заполнить ее, "лакуну Краэ" на запад от Вислы и Одера.
СЛАВЯНСКИЙ АРЕАЛ - В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
Кажется, что вряд ли будет правильно - в свете современных изложенных выше данных, дописав тезис о праиндоевропейском ареале, отложить его и приняться определять праславянский ареал в каком-то совершенно другом месте. Так следовало бы сделать, если бы для того имелись серьезные данные, но их нет. Конечно, все зависит от интерпретации нередко одних и тех же данных, которые разным исследователям говорят разное. И все же уточнение и совершенствование методов должно увеличивать число однозначных решений. Так, традиционно продолжают сомневаться в славянстве варварского племени первой половины V в. н.э., упоминаемого Приском примерно на территории современной Воеводины и говорящего
88
![]()
на отличном от германского языке, а также пьющего напиток medos [77, с. 25]. Автор названного исследования думает при этом о сарматах, засвидетельствованных в V в. на этих же территориях, но мы раз и навсегда отклоним такую приблизительную атрибуцию, потому что у сарматов-иранцев название напитка звучало бы как madu-, а не medos. Равным образом, несмотря на упорное стремление аргументировать неславянское происхождение глоссы strava в описании погребения Аттилы V в. на среднем Дунае у Иордана, как раз славянская версия с чертами западнославянской фонетической эволюции - strava < *jьztrava - является наиболее правдоподобной, как мы показываем в другом месте [87].
Но история славянских древностей, в том числе языковых, связанных со Средним Подунавьем, уходит в глубь времен. На это было обращено внимание в связи с терминами обработки металлов, металлургии, которые объединяли славян с иными древними индоевропейскими племенами, соседствовавшими с запада, - германцами, кельтами и италиками. За прошедшие тысячелетия изменилось очень многое - ареалы контактировавших этносов и даже их состав (кельты, давшие так много европейской металлургии и культуре вообще, давно исчезли в Центральной Европе). Изменились и ареалы некоторых слов из этой области; так, слав. *gъrnъ и *moltъ распространились вместе с носителями славянских языков по Балканскому полуострову и Восточной Европе. Но и они сохранили навсегда связь с Центральной Европой, как о том говорят их исключительные терминологические соответствия в латинском языке. Что же касается других важных и не менее древних и самобытных металлургических терминов - праслав. диалектн. *ěstěja 'отверстие печи', *vygnь 'горн, кузница', *kladivo 'молот, молоток', то они до сих пор так и остались, так сказать, в "придунайских" славянских языках [1], не распространившись даже в польских землях, не говоря уж о восточнославянских. Эти важные архаичные кузнечные термины наиболее полно символизируют принадлежность к центральноевропейскому культурному району, если иметь в виду, в первую очередь, близость этих славянских слов и соответствующих германских, латинских и кельтских слов. Связи этих слов столь древни и своеобразны, с чертами собственного давнего развития, что необходимо отметить незаимствованный характер славянских форм [89]. В дальнейших исследованиях было уделено внимание этому тезису нашей книги о ранней ориентации славян на Центральную Европу, при незначительности древних терминологических связей славян с балтами [90; 26, с. 27]. Сторонники тесных балто-славянских языковых отношений иногда, правда, находили эти наши положения "странными", но я не думаю, что это серьезно повлияло на убедительность самих
1. Существенные дополнения о распространении *vygnь в болгарском и македонском, включая ср.-болг. выгнии 'кузница' в Скитском патерике XIII в., см. [88].
89
![]()
положений. Следует иметь в виду мощное культурное основание, на котором зиждется кратко охарактеризованная выше славянская терминология обработки металлов и связанная с ней лексика других индоевропейских языков Центральной Европы. Археологи-исследователи европейского бронзового века специально указывают: "Не следует забывать значение европейской металлургии при сравнении с данными с Ближнего и Среднего Востока; на Ближнем Востоке есть все: медь, олово и золото..., но их обработка не была ни в коем случае более ранней, чем на европейском континенте" [31, с. 8]. М. Гимбутас подошла, естественно, к этим культурно-историческим данным с позиции своей теории о цивилизованной доиндоевропейской Древней Европе, "курганизированной" позднее индоевропейскими кочевниками. Оставив в стороне эту атрибуцию древнеевропейской цивилизации, возьмем у Гимбутас лишь карту "древнеевропейской металлургической провинции" [33, с. 34, рис. 9], представляющую интерес в любом случае. Мне показалось полезным завершить эту часть рассуждений совмещенной картой, на которую последовательно положены контуры "древнеевропейской металлургической провинции" (Гимбутас, 1982), зоны концентрации древних индоевропейских гидронимов (Удольф, 1981) и мой центральноевропейский культурный район (Трубачев, 1966). Чтобы не усугублять схематизм, не проведены лишь линии векторов, но их каждый может провести мысленно, как предложено выше. Здесь также совмещен (и тоже сознательно) наш вариант ответа на вопрос о центрах индоевропейского и праславянского ареалов [2].
Локализация центральной или значительной части древнего индоевропейского ареала в придунайских районах не нова, имеет свою значительную традицию, на которой нет возможности останавливаться. Можно сказать, что она выдержала испытание временем. К ней постоянно обращаются, споря с более новыми теориями, см. [44, с. 12; 91, 92].
Традиция обитания славян на Среднем Дунае, видимо, не прерывалась никогда. Об этом может косвенно свидетельствовать немаловажное указание, что "продвижение славян к берегам Дуная и освоение ими огромной цветущей долины дунайского левобережья" прошло "незаметно для глаза историка" [93].
В исследованиях В.Т. Коломиец о славянских названиях рыб [94, 95] постоянно звучит тема раннего проживания славян и других индоевропейцев в южной части Центральной Европы, ср. хотя бы факт знакомства с форелью и обозначение ее производными от праслав. *pьstrъ 'пестрый' практически во всех славянских языках.
2. Пользуюсь случаем, чтобы отметить выступление A.B. Десницкой в поддержку моей идеи концентричности расположения праиндоевропейского и праславянского ареалов в Подунавье (при обсуждении моего доклада на IX Международном съезде славистов в Киеве).
![]()

Карта 5. I - "древнеевропейская металлургическая провинция" (Gimbutas 1982); II - концентрация в Прибалтике (1), "северо-западном блоке" (2) и Италии (3) (Udolph 1981); III - центральноевропейский культурный район (Трубачев 1966)
Поиски паннонскославянских и дакославянских остатков языка, хотя и затрудняются в высокой степени спецификой венгерского языка и другими трудностями, очевидно, не должны прерываться и могут принести определенный результат, ср. личное имя собственное Bichor (Паннония, 1086 г.), сюда же название гор Бихар (венг. Bihar, рум. Bihor) в Трансильвании, а также некоторые соответствия в южнославянской ономастике [*], при полном отсутствии продолжений апеллативного праслав. *byxorъ, реконструируемого на основании этих данных суффиксального производного от *byti 'быть', ср. польск. znachor 'знахарь', белорусск. жыхар 'житель'; ср. [96]; дославянский субстрат предполагает [97].
Еще двадцать лет тому назад Георгиев указывал на соседство праславянского языка с дакским (у Георгиева - дакийский, дакомизийский), распространенным в Восточной Венгрии и Румынии [98]. Археологи констатируют около начала нашей эры даже дакскую экспансию в Среднем Подунавье [99]. Древнее соседство не могло обойтись без языковых, изоглоссных и других связей. Выше мы коснулись
*. Ср., впрочем, также среди ономастических реликтов древнего славянского Запада: Bichore, Bichure (XIII в.) < *Bychori, ср. еще чеш. Býchoři, польск. Bychorz. См.: Trautmann R. Die Elb- und Ostseeslavischen Ortsnamen. Т. 1 (= Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Philos.-historische Klasse. Jg. 1947, Nr. 4). B. 1948. S. 106.
91
![]()
одной из языковых daco-slavica - общей стадиальной изоглоссы с (tš) < k̑. К концепции центральноиндоевропейского, дунайского положения праславянского возможны, таким образом, подходы и с этой стороны. Вообще существует вероятие весьма большой близости славянского и древних индоевропейских языков Балкан, проявившейся, как полагают, в полной славянизации автохтонного балканского населения [100]. Поиски на этом пути надо продолжать, и нас ждут, возможно, новые находки. Например, довольно убедительно показано, что старое название лесистого острова Лесбос - Ἴσσα - происходит из *id-sa < и.-е. *u̯idhu̯ 'дерево', 'лес', 'лесистая гора', ср. в соседней (фракийской) Троаде гора по имени Ἴδη, см. [101], с дальнейшими ссылками на работы Л.А. Гиндина. Однако случайно ли при этом остров Исса носит еще и "новое" название Λέσβος, Лесбос? Или мы вправе предположить здесь особое, тоже негреческое, индоевропейское название *lē̆su̯os, *lēsou̯os с той же внутренней формой 'лесной', что и Ἴσσα (выше), идущее с индоевропейских Балкан и удивительно напоминающее праслав. *lěsovъ. Ср. равнооформленный топоним Berzovia с территории античной Дакии и праслав. *berzovъ 'березовый'.
В этой связи стоит упомянуть о прослеженной В. А. Городцовым народной орнаментальной композиции (женщина между двумя всадниками), общей для дакских свинцовых табличек и для русских вышивок [102]. Естественно, что, этимологизируя в пограничье, иногда приходишь к выводу о необходимости пересмотреть свои предыдущие толкования в пользу другого языка и этноса. Я имею в виду свое предположение [4, с. 8-9] [**] о происхождении плиниевской глоссы Morimarusa 'mortuum таге' в конечном счете из ранне-праславянского выражения с тем же значением 'мертвое, умершее море', о разливах в Потисье. Теперь я думаю, что это, скорее, был остаток дакского языка, ареал которого входил и в Восточную Венгрию, бассейн Тисы. Дакский язык, видимо, располагал также причастиями прошедшего времени на -u̯es, -u̯os, -us (-marusa 'умершее, -ая') подобно индоиранским, греческому, балтийским и славянским. В атрибуции плиниевского Morimarusa дакскому языку нас укрепляет довольно вероятная морфологическая параллель дакского топонима Sarmizegetusa (Птолемей), столица Дакии, древний город в Южных Карпатах. Название Sarmizegetusa не получило удовлетворительного объяснения (ср. попытку прочесть его как 'город с частоколом' [103]). Можно попытаться истолковать Sarmizegetusa как выражение, значившее что-то вроде 'горячий источник', с постпозицией определения (как и в Morimarusa!), причем первый компонент - к апеллативно-гидронимическому serm-/sarm- 'поток', известному в балканскоиндоевропейских языках, а второй - причастие действ. прош. на -us- от глагола с корнем zeg- < *di̯eg- < *deg- 'жечь'. В Сармизегетусе,
**. См. также выше, с. 44.
92
![]()
которая была не только царской столицей, но и религиозным центром со святилищами, обнаружены остатки канала, который подводил из близкого источника воду, использовавшуюся при священнодействиях [104]. В деталях близко этимологизирует Sarmizegetusa Шаль [105] - через сравнение с эпиграфическим именем Salmo-deg-ikos (Истрия) 'солевар' (?), откуда якобы Sarmizegetusa 'солеварный канал', но сомнительность формальных деталей довершает культурноисторическая и социолингвистическая сомнительность целого: у нас нет данных о солеварении в Сармизегетусе, но достоверно известны там культовый центр, храмы, вероятно и культовое назначение источника.
СОЦИОЛИНГВИСТИКА И ЭТНОЛИНГВИСТИКА ЭТНОГЕНЕЗА
И в малых этюдах и в больших работах по лингвоэтногенезу должна совершенствоваться социолингвистическая и этнолингвистическая мысль, которая нередко в действительности сильно отстает от формального анализа, отчего последний может получать неверное направление и осмысление. Так, все еще недостаточно учитываются особенности и потребности древнего этнического самосознания, для которого главное - идентификация по принципу "мы" - "они" [106, passim], тогда как развитое самообозначение отнюдь не принадлежит к числу наиболее ранних потребностей [3]. В последнее время в целом возобладала этимологическая концепция самоназвания *slověne 'славяне' как первоначально означавшего 'ясно говорящие' [108, 109]. Думается, что она более адекватно отражает древнее этническое самоназвание с его первостепенной актуальностью самоидентификации по принципу "мы" - "они", поэтому другая попытка, исходящая от историка Восточной Европы Г. Шрамма, с осмыслением *slověne как *Sloven(t)-n- от *Slovǫta 'Днепр', т.е. 'днепряне' [110], не может встретить нашего сочувствия ни с формальной стороны, ни со стороны этнолингвистической, чем, видимо, и вызвано то, что Шрамм до сего времени, к его огорчению, не получил положительного отклика (Widerhall). Все исследователи интуитивно понимают, что название *slověne не было изначальным [4]; значит, был период времени, когда этого названия у славян не было. Что же было тогда? Эта пустота вместо этнического самоназвания у славян
3. Поэтому выглядит поспешным утверждение теоретика-этнографа: "Нет и не было ни племени, ни народности, ни нации, ни национальности, у которых бы оно (самоназвание. - О.Т.) отсутствовало" (см. [107]).
4. Хотя, очевидно, не все понимают правильно природу этого явления и его распространения, ср. объяснение искусственным насаждением и распространением названия одного племенного союза - склавен, славян - как общего наименования всех родственных этносов "не в последнюю очередь благодаря византийской историографии", см. [111].
93
![]()
действует на исследователей угнетающе, и они - в убеждении, что в этой функции должно было быть что-то еще более древнее - продолжают свои поиски и приходят, например, к тому, что древнейшим именем славян было Veneti/Venedi [112]. Примерно такой же точки зрения придерживаются В. Георгиев и И. Дуриданов (выступление на IX Международном съезде славистов). В такой форме это утверждение, конечно, неверно, а верно лишь то, что, как известно, имя венетов-венедов было вторично перенесено на славян главным образом их западными соседями после того, как славяне заполнили "этническую пустоту", оставшуюся после ухода венетов, бывших прежде к востоку от германцев (содержащееся, далее, в статье Голомба отождествление имени венетов и вятичей, наконец, попытка подвести под и.-е. *u̯enét- понятие "воин" в духе трехчастной социальной структуры индоевропейцев по Бенвенисту-Дюмезилю - все это, скорее, сомнительно).
Один из центральноевропейских этносов, лишь значительно позже усвоивший самоназвание *slověne, говорил на языке (или группе диалектов), архаичность которого (правда, весьма специфическая, поскольку она представляет собой сочетание продвинутости, т.е. центральности, славянской языковой эволюции со специфически славянским - преобразованным архаизмом) и в наше время вызывает удивление, в том числе и у неславистов: "Так, можно с полным правом удивляться по поводу того, как, несмотря на раннюю письменную фиксацию ст.-слав. лѣвъ "левый", русск. левый до наших дней не обнаруживает ни малейших признаков забвения, тогда как его латинский родственник, а именно laeuus, полностью угас в старой романской речи" [113] [5].
И последнее - и главное, что упорно забывают, когда говорят в новейших исследованиях о едином и неразделенном праиндоевропейском или даже общеиндоевропейском языке: праиндоевропейский с самого начала был группой диалектов, точно так же с самого начала был группой диалектов и праславянский язык. Это имеет методологическое значение для правильных представлений о праязыковом словаре, лексике, ибо "весь праиндоевропейский лексический фонд не мог возникнуть в одном и том же месте в одно и то же время" (В. Пизани) [цит. по 114]. Важный, как кажется, вывод отсюда - это то, что, скажем, праславянский словарный состав в силу своей естественной полидиалектности не мог и не должен был быть достоянием одного (индивидуального) праславянского языкового сознания. Надо исходить из собирательного характера носителя праиндоевропейского, праславянского, как, впрочем, и любого другого лексического фонда.
5. Архаичность слав. *lěvъ едва ли удачно объясняется в духе новой концепции италийского проникновения, см. [84, с. 73].
94
![]()
ЛИТЕРАТУРА
60. Барроу Т. Санскрит. М., 1976. С. 18.
61. Shields К. Jr. A new look at the centum/satem isogloss // KZ. 1981. 95.
62. Трубачев O.H. Лексикография и этимология // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1973. С. 305 и сл.
63. Solta G.R. Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateins. Darmstadt, 1980. S. 41.
64. Rădulescu M.-M. Daco-Romanian-Baltic common lexical elements. Ponto-Baltica. 1981. 1. P. 71.
65. Mayer H.E. Zur frühen Sonderstellung des Slavischen // ZfslPh. 1981. 42. S. 300 и сл.
66. Schmid W.P. Die Ausbildung der Sprachgemeinschaften in Osteuropa // Handbuch der Geschichte Russlands. Hrsg. von Hellmann M. [et al.]. Bd. 1. Lf. 2. Stuttgart, 1978. S. 106.
67. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. Трубачева О.Н. М., 1983. Вып. 10. С. 188 и сл., s.v. *konopja.
68. Kluge F. Aufgabe und Methode der etymologischen Forschung // Etymologie / Hrsg. von Schmitt R. Darmstadt, 1977. S. 110.
69. Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908 - .
70. Böhtlingk O. Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung. Lf. 6. S. 197.
71. Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1958.
72. Mayrhofer М. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1956.
73. Курилович E. О балто-славянском языковом единстве // Вопросы славянского языкознания. М., 1958. Вып. 3. С. 33.
74. Горнунг Б.В. Из предыстории образования общеславянского языкового единства // V Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1963. С. 74.
75. Milewski Т. Archaizmy peryferyczne obszaru prasłowiańskiego // Sprawozdania z posiedzeń komisji PAN, Oddział w Krakowie, styczeń - czerwiec 1965. Kraków, 1966. S. 134-137.
76. Мартынов B.B. Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1968, с. 27, 37, 62.
77. Kurnatowska Z. Słowiańszczyzna południowa. Wrocław etc., 1977.
78. Баран В Д. Сложение славянской раннесредневековой культуры и проблема расселения славян // Славяне на Днестре и Дунае: Сб. научн. трудов. Киев, 1983. С. 45.
79. Приходнюк О.М. К вопросу о присутствии антов в карпато-дунайских землях // Там же. С. 187.
80. Вакуленко Л.В. Поселение позднеримского времени у с. Сокол и некоторые вопросы славянского этногенеза // Там же. С. 179.
81. Bialeková D., Tirpáková A. Preukázatel'nost používania rímskych mier pri zhotovovaní slovanskej keramiky // Slovenská archeológia. 1983. XXXI - 1.
82. Udolph J. Gewässernamen der Ukraine und ihre Bedeutung für die Urheimat der Slaven // Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983 / Hrsg. von Olesch R. Köln; Wien, 1983. S. 594.
95
![]()
83. Колосовская Ю.К. Паннония в I-III веках. М., 1973. С. 23.
84. Мартынов В.В. Язык в пространстве и времени: К проблеме глоттогенеза славян. М., 1983. С. 70.
85. Трубачев О.Н. Рец. на кн.: Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Heidelberg, 1979 // Этимология. 1980, M. 1982. C. 170 и сл.
86. Udolph J. Zur frühen Gliederung des Indogermanischen // 1F. 1981. 86.
87. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. Трубачева О.Н. М., 1983. Вып. 9. С. 81.
88. Rusek J. Średnbg. vygnii "kuźnia" // Македонски јазик. 1979. XXX. S. 225 и сл.
89. Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках. Этимология и опыт групповой реконструкции. М., 1966. С. 331 и сл., рис. 10 на с. 342.
90. Birnbaum Н. The original homeland of the Slavs and the problem of early Slavic linguistic contacts // The journal of Indo-European studies. 1973. 1. P. 415.
91. Янюнайте M. Некоторые замечания об индоевропейской прародине // Baltistica. 1981, XVII (1). С. 66 и сл.
92. Горнунг Б.В. К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964. С. 19.
93. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 50.
94. Коломиец В.Т. Ихтиологическая номенклатура славянских языков как источник для исследования межславянских этнических взаимоотношений. Киев, 1978. С. 8.
95. Коломиец В.Т. Происхождение общеславянских названий рыб. Киев, 1983. С. 138.
96. Šmilauer V. Původ místního jména Býchory // Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. 1981. XXII, s. 359-360.
97. Schramm G. Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart. 1981. S. 207-208.
98. Георгиев В.И. Праславянский и индоевропейский языки // Славянская филология. София, 1963. Т. III. С. 7.
99. Kuzmová К. Nížinné sídliská z neskorej doby laténskej v strednom Podunajsku // Slovenská archeológia. 1980. XXVIII - 2. S. 334.
100. Илиевски П.Х. Лексички реликти од стариот балкански јазичен сло ј во ј ужнословенските ј азици // Реферати на македонските слависти за IX Мегународен славистички конгрес во Киев. Скопје, 1983. С. 12.
101. Яйленко В.П. Ἴσσα "лесистый" остров: к этимологии названия // Славянское и балканское языкознание. Проблемы языковых контактов. М., 1983. С. 66 и сл.
102. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. С. 472.
103. Homorodean М. Vechea vatră a Sarmizegetusei în lumina toponimiei. Cluj-Napoca, 1980, p. 51.
104. Daicoviciu H. Dacii. Buc., 1972, p. 228, 230.
105. Schall H. Die Kelmis-Sprache. Eine antike Grund-Sprache im Bereich Dakothrakisch: Baltoslawisch // Onoma. 1978. XXII (1-2). S. 306.
96
![]()
106. Mahapatra В.Р. Ethnicity, identity and language // Indian linguistics. Journal of the Linguistic society of India. 1980. 41. Р. 61 и сл.
107. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 45.
108. Maher J.Р. The ethnonym of the Slavs. Common Slavic * Slověne // The journal of Indo-European studies. 1974. 2. P. 143 и сл.
109. Трубачев О.И. Из исследований по праславянскому словообразованию: генезис модели на -ěninъ, *-janinъ // Этимология. 1980. М., 1982. С. 13.
110. Schramm G. - Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 30. Wiesbaden, 1982, s. 264. - Rec.: Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980.
111. Havlík L.E. Přeměna společenských formací a etnogeneze Slovanů // Československá slavistika. Pr., 1983, s. 158.
112. Gołąb Z. Veneti/Venedi - the oldest name of the Slavs // The journal of Indo-European studies. 1975. 3. P. 321 и сл.
113. Malkiel Y. Semantic universals, lexical polarization, taboo. The Romance domain of "left" and "right" revisited // Festschrift for O. Szemerényi. Ed. by Brogyanyi В. Pt. II. Amsterdam, 1979. Р. 514.
114. Лелеков Л.А. К новейшему решению индоевропейской проблемы // ВДИ. 1982. № 3. С. 36.
При всем множестве вопросов, встающих перед языкознанием, когда оно поднимает проблему этногенеза славян, главнейшие из них, бесспорно, - те, которые интересуют не одних только языковедов, но и самую широкую общественность, имея в виду прежде всего сами славянские народы, для которых, для их нынешнего национального самосознания небезразлично, откуда - в глубокой древности - появились и кто такие первоначально были славяне.
И хотя все согласны в том, что эти вопросы из области истории явления требуют ответов в историческом духе, все же случается, что при этом картину исторической эволюции подменяют исторической тавтологией, а реконструкцию отношений - неоправданной транспозицией, переносом нынешних отношений в исследуемое прошлое. Тогда искомое - история явления - остается нераскрытым, поэтому, как и прежде, важно различать между историзмом фактическим и декларированным. Последовательный историзм помогает понять, что многие самоочевидные современные явления не изначальны, но занимают лишь свое место в исторической эволюции.
Так, привычное деление славян (и их языков) на восточных, западных и южных - лишь продукт длительной и непрямолинейной перегруппировки более древних племен и их диалектов. Иордан (VI в.) знает славян под тремя именами - венедов, склавен и антов, и
97
![]()
некоторые современные ученые соблазнились совпадением этой древней тройственности названий и современного тройственного членения славянства [1]. Но на самом деле было иначе. Ни венеды, ни анты не были никогда самоназваниями славян и первоначально обозначали другие народы на славянских перифериях (венеды/венеты - на северо-западе, анты - на юго-востоке) и лишь вторично были перенесены на славян в языках третьих народов (венеды - в языках германцев, анты - в языках индоиранских этносов Юго-Востока) [*]. Другое дело - склавены Иордана (в византийской традиции - склавины, современное русское славяне и т.д.), общее самоназвание славянских племен и народов. Таким образом, большое значение имеет проблематика древнего самоназвания (а через него и самосознания), проблематика в своей сущности лингвистическая.
О том, что в этой области остается преодолеть еще немало устоявшихся прямолинейных воззрений, мешающих правильному видению проблемы, уже говорилось в предшествующих главах. Сюда относится и пресловутое молчание о славянах античных источников. На таких фактах и неправильном их истолковании возникали своеобразные научные мифы, - сначала миф о том, что, следовательно, славян не было вообще в тогдашней Европе (против чего одним из первых выступил П.И. Шафарик) или, по крайней мере, в поле зрения античной, греко-римской ойкумены. Дальнейшим научным мифом оказывается принимаемое отдельными этнологами и этнографами и по сей день обязательное одновременное появление этноса и этнонима. Здесь мы вступаем в область общих этноисторических категорий, которые затрагивают не одних только славян. Приходится настойчиво напоминать, что этноним - категория историческая, как и сам этнос, что появляется он не сразу, чему предшествует длительный период относительно узкого этнического кругозора, когда народ, племя в сущности себя никак не называют, прибегая к нарицательной самоидентификации 'мы', 'свои', 'наши', 'люди (вообще)'. Кстати, такая идентификация очень удобна и применима как оппозитивная в случаях типа 'свои' - 'чужие' [**]. Что касается 'своих', то можно, как известно, привести ряд примеров, когда этнонимы обнаруживают именно эту этимологическую внутреннюю форму: шведы (свеи), швабы (свебы). Чужих, иноплеменных оказалось удобным и естественным обозначать как "невнятно бормочущих", а также - с некоторым
*. Соображения относительно того, что для готов-германцев описываемого Иорданом времени (VI в.) связь между славянами-венедами и славянами-антами не составляла тайны, ср. имя готского короля Винитария, этимологизируемое на германской языковой почве как "*потрошитель венедов' (при том, что король этот вошел в историю прежде всего как победитель антов), см. также: Трубачев О.Н. Germanica и Pseudo-Germanica в Северном Причерноморье // Этимология. 1986-1987. М., 1989. С. 51.
**. О глубокой древности и мировоззренческом статусе дихотомии 'свое'-'не свое' см. довольно подробно у нас дальше, в части II и III.
98
![]()
преувеличением - как "немых". Ясно в таком случае, что 'своих' объединяла в первую очередь взаимопонятность речи, откуда правильная и едва ли не самая старая этимология имени славяне - от слыть, слову/слыву в значении 'слышаться, быть понятным'. Только неучетом излагаемых исторических и социолингвистических аспектов можно извинить появление до недавнего времени этимологий имени всех славян из первоначального 'жители влажных долин' [см. 2].
Такая этимология столь же неудачна, как и формально корректная и весьма популярная этимологизация Розвадовского - Будимира: *slověne < 'жители по реке Slova'. Никакими балтийскими аналогиями, поисками гидронимов и апелляциями к поэтическому эпитету Днепра - Словутич - не удается сейчас оградить эти остроумные версии от критики.
Знакомя однажды со своими соображениями на этот счет своих коллег, я вдруг отчетливо уяснил, что с определенного момента эти сюжеты воспринимаются как бы на веру - как результаты чересчур глубинной реконструкции, этимологизации. Аудитория, состоящая из лиц русской языковой и национальной принадлежности, воспринимает эту ситуацию слишком абстрактно, т.е. как бы не до конца, поскольку на практике мы у себя не сталкиваемся со случаями существования народов без названий и с вынужденной идентификацией 'мы', 'свои', 'наши'. Когда меня попросили разъяснить на экзотических примерах, то, наверное, полагали, что подобная архаическая стадия, если и сохранилась, то скорее где-нибудь у туземных племен Центральной или Южной Америки. А между тем ("Не по што ходить в Перъсиду, а то дома Вавилонъ", как сказал протопоп Аввакум) достаточно внимательного взгляда на языковое и этническое положение в нынешней Югославии, и перед нами, mutatis mutandis, всплывает аналогичная ситуация с потенциальным отсутствием этнонима. Разумеется, там есть весьма древние этнонимы сербы и хорваты, но один и тот же - в принципе - язык у хорватов до сих пор называется хорватский или сербский, у сербов - сербский или хорватский, до сих пор решающий дифференциальный признак между обеими нациями - культурный (католик - синоним хорвата, православный - синоним серба), далее, на том же языке говорят магометане Боснии и Герцеговины, т.е. в духе культурных противопоставлений - ни сербы и ни хорваты, наконец, там же есть известный процент лиц (носителей сербохорватского языка), которые - ни то, ни другое и ни третье ("neodređeni" - "неопределенные"). К чему приводит такое исключительно сложное положение? Оно приводит к стихийному возрождению практики архаической доэтнонимической стадии, и в Югославии, стране развитых современных наций, приходится встречать обозначения типа "naš jezik" как в бытовой речи ("Kako lijepo govorite na našem jeziku!"), так и в научной (ср. журнал под названием "Наш језик"), чем как бы снимаются упомянутые противоречия.
99
![]()
ТИПОЛОГИЯ ЭТНОГЕНЕЗА: БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Конечно, на историзм и свой вклад в Историю заявляет права ряд общественных дисциплин, которые изучают соматического праславянина, праславянина - носителя культуры (культур), (пра)славянина - субъекта исторических анналов. Не повторяя здесь общих мест об известном примате языкознания в вопросах происхождения славян и вообще - в вопросах этногенеза, все же отметим, что этногенетическая метрика славянства восстановима прежде всего лингвистически. Лингвистически удается доказать, что славяне, образно говоря, не "внуки" скифов и не "дети" (западных) балтов, поскольку скифы были иранцами по языку, как это доказано достижениями сравнительного языкознания еще в прошлом веке, а славяне представляют свою собственную эволюцию индоевропейского лингвистического типа, отличную от балтийской, как это показывают современные фронтальные исследования славянского и балтийского словарного состава и словообразования, хотя бы по опыту подготовки нашего Этимологического словаря славянских языков (ср. об этом в предыдущих главах [1]). Важен учет не только балто-славянских лексических схождений (иногда называют внушительную цифру - 1600 таких соответствий), но и многих десятков и сотен коренных различий такого рода между балтийским и славянским. Разный инвентарь лексем для выражения одинаковых понятий, а подчас и различие самих принципов номинации в балтийском и славянском подтверждает правильность современного подхода, согласно которому словарные (и ономастические) данные весьма показательны для исследования лингво- и этногенеза (противоположное мнение сейчас можно встретить все реже и реже, так, на IX Международном съезде славистов с выражением недооценки лексических изоглосс для этногенетических исследований выступил, пожалуй, только П. Ивич). Правда, в этой массе нелегко ориентироваться, тогда как необходимо не только ориентироваться, но и найти объяснение фактам того и другого рода во времени и пространстве. Балто-славянские языковые и лексические отношения необходимо исследовать в
1. Еще одно изложение ингредиентной теории см. в [4]. Автор - В.В. Мартынов - утверждает, что в период до установления отношений между западнобалтийским субстратом и "италийским" (венетским?) суперстратом "трудно говорить о существовании славянского языка". Однако этому отрицанию более глубокой собственной праславянской самобытности противоречит хотя бы выявление самим автором ряда таких древних элементов славянской лексики (проникших и в словарь древнегерманских диалектов), которые (правда, автор не высказывает сам этого наблюдения) не находят параллелей ни в балтийской, ни в италийской лексике. Ср. праслав. *xvatъ, *plugъ, *sedъlo, *skopъ 'баран, овца', *skotъ, если держаться в основном списка Мартынова. Стоит обратить внимание и на культурную значимость ряда перечисленных слов.
100
![]()
ареальном плане, хотя для отдаленных эпох это очень трудно. Однако важно реальное допущение, что феномен родства и исконно родственного соответствия может оказаться потенциальным ранним заимствованием из одного близкого контактирующего диалекта в другой диалект. Большая близость балтийского и славянского не случайна, ее причина (одна из причин) коренится в давнем ареальном соседстве обоих, по крайней мере - с железного века, ср. прежде всего название железа, общее у славян и балтов, чем мы еще займемся в дальнейшем. Но, во-первых, при столь длительном соседстве (можно сказать, рекордном по длительности на фоне других эпизодов славянско-индоевропейских отношений), благоприятствовавшем сближению, эта близость могла бы быть даже большей, если бы тому не препятствовала исходная самобытность контактирующих языков. Во-вторых, именно большая ареальная и контактная близость тех и других языков как раз оборачивается помехой для суждений о генезисе явлений в смысле затруднительности разграничения исконного родства от вторичного (заимствованного) происхождения.
Поэтому, при всем богатстве темы балто-славянских отношений, балто-славянский случай явно проигрывает в смысле чистоты по причине означенных помех, если нас заинтересует типология этногенеза как путь к раскрытию неуникальности славянской языковой и этнической эволюции и динамики ввиду неконтролируемости и сомнительности всякой уникальности как таковой.
ТИПОЛОГИЯ ЭТНОГЕНЕЗА: ГЕРМАНО-СЛАВЯНСКИЕ АНАЛОГИИ
Более доказательными (и более чистыми) являются относительно более свободные аналогии, например, германо-славянские параллели, к которым мы намерены обратиться тем более, что предмет исследован в этом плане еще совершенно недостаточно. Этнокультурный и языковой планы при этом переплетаются. Следы древних германцев в северной части Германии, а также в Дании (территории, обычно принимаемые за их прародину) обнаруживаются четко не сразу, о них считают возможным говорить лишь с появлением ясторфской культуры середины I тыс. до н.э. Однако при этом разумно считается, что появление четких культурных признаков само по себе еще не означает никакого terminus post quem, поэтому археологи отказываются от попыток датировать появление германского этноса в пользу признания идеи непрерывности развития местной культуры начиная с бронзового века.
Славянские археологи, ретроспективно изучающие эволюцию славянской культуры, сходятся как будто на том, что четкие славянские этнические признаки прослеживаются только с пражской
101
![]()
культуры середины I тыс. н.э. Истоки этой культуры пока неясны, и в целом в славяноведении еще не получили должного развития представления о культурной непрерывности. Однако типологические соображения (приведенная выше германская аналогия) подсказывают нам элементарную неприемлемость стремлений датировать также появление славянского этноса. В предыдущих главах мы уже высказывали сомнения в возможности определять абсолютные хронологические даты в этом вопросе; и ранние, и тем более - поздние даты такого рода не заслуживают доверия, поскольку, помимо общего неправдоподобия, опираются на случайные показания. В принципе случайный факт последнего упоминания племенного имени антов в первых годах VII в. н.э. еще не дает никакого основания для того, чтобы датировать точно этим временем, как это делал покойный историк В.Д. Королюк, не только распространение имени склавен (славян) на всех славян, но и "консолидацию" славянского этноса [5]. Для славян тоже все более очевидным становится вырастание из культур римского времени (как о том говорят, в частности, археологические работы последних лет [6]), железного века и более ранних, с локализацией этого процесса вблизи от центральной Европы. Методика абсолютных датировок, с точностью до года, вообще выглядит грубовато, будучи не более как имитацией точного знания. Важно исходить из положения, что языковое и этническое развитие славян - это непрерывный процесс. Концепция непрерывности эволюции побуждает славистов пытливее изучать индоевропейскую проблему; она имеет непосредственное отношение и к такому феномену, как глубина этнической памяти, привлекающему сейчас внимание ученых [ср. 7, passim].
ЭТНИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ВОПРОС О ДРЕВНЕМ ДВУЯЗЫЧИИ
Дистанцию во времени и пространстве, которую дают нам типологические свободные германо-славянские аналогии, представляется иногда полезным - в духе сказанного выше - дополнить аспектом их общего прошлого, отступив, так сказать, в глубь праиндоевропейской древности. Мы достаточно подробно для наших целей реферировали ранее одну из крайних индоевропейских теорий - теорию вторичной индоевропеизации Европы с Востока в V—III тыс. до н.э., принадлежащую М. Гимбутас. Здесь остановимся только на одном аспекте - на том, что, согласно этой теории, носители индоевропейских диалектов пришли в "Древнюю Европу", имевшую иноязычное население. Проверяя эту теорию индоевропеизации якобы неиндоевропейской Европы, мы вправе ожидать от языка (языков) сохранения следов давней памяти естественного при этом двуязычия
102
![]()
(индоевропейско-доиндоевропейский билингвизм) [2]. Но оказывается, что таких следов нет, например, в германских языках. Пример с германским тут не случаен, потому что к неиндоевропейскому субстрату уже пытались отнести и германское передвижение согласных, и ряд германских слов, не имеющих индоевропейской этимологии (З. Файст), но это не подтвердилось и объясняется, по-видимому, прежде всего еще недостаточной исследованностью самой этимологии. Во всяком случае неиндоевропейская структура этимологически темных германских слов не доказана [9].
Некоторые пытаются, далее, представить древнеисландский миф о войне между асами (Asir) и ванами (Vanir) как "реминисцепцию поглощения туземного населения в новом обществе, установленном в германском мире индоевропейскими завоевателями" [10, с. 21]. Но и эта "первая война на свете" между асами и ванами слишком органически связана с собственно скандинавскими, германскими перестройками в мифологии, а, возможно, и в обществе, следовательно, видеть в асах древних внешних завоевателей у нас не больше оснований, чем у Снорри Стурлусона - выводить асов буквально из созвучной Азии [11]. Вряд ли удачно поступают авторы, которые склонны разгадывать следы упомянутого древнейшего двуязычия в тех частях Эдды, где речь идет о разнящихся названиях предметов в языке людей и языке богов [10, там же]. Ни о чем подобном эта богатая метафорами поэзия, по-видимому, не свидетельствует, сильно напоминая похожую мифологизацию синонимов - тоже в языке богов и в языке людей - у Гомера. В конце концов, и автор используемой нами здесь специальной статьи с характерным названием "Двуязычие и смена языков в отражении некоторых из древнейших текстов на индоевропейских диалектах" тоже заключает: "...я сказал бы, что в германском нет надежного свидетельства в пользу доисторического двуязычия!" [10, с. 22]. Еще менее вероятны следы упомянутого древнего индоевропейско-доиндоевропейского двуязычия в славянских языках. Имеющие сюда отношение попытки В. Махека вскрыть "праевропейский" слой дославянской лексики оказались безуспешными, тем более, что в ряде случаев речь шла о словах,
2. Надо сказать, что теории первоначальной двуязычности (а также двуэтничности) занимают определенное место в проблематике и литературе этногенеза, ср. [8]. Справедливо считая предрассудком представление об этнической однородности древнейших народов, автор этой - скорее архивной - публикации, изданной через тридцать с лишним лет после написания, постулирует (в целом голословно) наличие монгольского и тюркского суперстрата, племенной и военной верхушки, над покоренными славянами: к этому восточному суперстату он возводит и скандинавское племя русов "из бассейна реки Рось" (?), Л. Новак полагает даже, что более или менее значительные переселения славян были возможны только под командованием монгольской и тюркской правящей верхушки. В целом мы констатируем здесь возврат (в общетеоретическом плане) к теории Я. Пайскера, также постулировавшего эпоху тюркского ига у древнейших славян, несмотря на то, что Л. Новак отмежевывается от этой старой теории и ее "сомнительных аргументов лексического характера".
103
![]()
вполне удовлетворительно объясненных или объясняемых традиционным путем. Думается, что "праевропейские" этимологические сближения явно не связанных друг с другом слов *věža и нем. Schweige, *glogъ и греч. κράταιγος вряд ли пережили своего автора. Вывод отсюда может быть один: никаких следов древнего двуязычия нет и у славян.
Возможные ссылки при этом на забвение таких следов в языковой и этнической памяти не могут быть приняты. Не следует недооценивать ни глубину памяти языка и народной традиции, ни - соответственно - важности события (в данном случае - события, постулируемого теорией М. Гимбутас: покорения чужой страны, переселения в чужие земли). До нас дошла память этноса и языка об арийском разделе на иранцев и индоарийцев (не позднее II тыс. до н.э.). Следы индоевропейско-неиндоевропейского общения возможны, например на такой периферии, как Эгейское Средиземноморье, судя по неиндоевропейским догреческим элементам греческого словаря. Значительные события (крупнейшие войны, природные катаклизмы) помнятся чрезвычайно долго. Например, античные источники еще хранят память о прорыве морскими водами пролива Босфора (Боспора Фракийского), случившемся за 4-5 тыс. лет до н.э. [см. 12]. Упомянутое гипотетическое древнейшее двуязычие было бы не старше образования Босфора, и то обстоятельство, что оно не оставило следов ни в языке, ни в древней традиции, делает приход индоевропейцев в Европу откуда-то извне маловероятным.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИСКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
Мы все больше обращаемся к концепции центральноевропейского, среднедунайского ареала индоевропейцев и славян - как продолжения части древнеиндоевропейских племен. В свете того, что известно о сложности именно индоевропейского этнического состава древней Центральной Европы, трудно согласиться с мнением, что "Западная и Центральная Европа еще долго после гибели древнебалканских культур в IV тыс. до н.э. остается неиндоевропейской, возможно, вплоть до II тыс. до н.э., когда начинается постепенное распространение по Европе "древнеевропейских" диалектов - процесс "индоевропеизации" Европы" [13, с. 118]. Определенно индоевропейские носители фатьяновской культуры проникли не позднее II тыс. до н.э. с территории Польши и других центральноевропейских районов в междуречье Оки и Волги [см. 14, 15] (через две с лишним тысячи лет этим же, по-видимому, традиционным путем прошли с Запада на Восток восточнославянские вятичи). Точно так же, видимо, еще в бронзовый век переселились с Балканского п-ова на Апеннинский индоевропейские племена иллирийцев-мессапов, тоже как бы оставляя у себя в тылу среднедунайский центр Европы (и их, очевидно, традиционный путь в точности повторили затем в
104
![]()
новое время их иллирийские соплеменники - албанские переселенцы в Южной Италии). Эти центробежные отселения из внутриевропейских регионов, правдоподобно датируемые II тыс. до н.э. и характеризуемые, к тому же, надежной индоевропейской атрибуцией (а примеры такого рода и близкие по эпохе можно было бы умножить), наглядно опровергают мысль об "индоевропеизации" Европы лишь со II тыс. до н.э.
Неслучайно поколения индоевропеистов продолжают искать начальную область формирования индоевропейских диалектов в Центральной Европе. В предыдущих главах говорилось о теории Боск-Жимперы о первоначальном индоевропейском группообразовании в районе нынешней Чехословакии. Из современных советских (преимущественно археологических) работ можно указать сводки В.А. Сафронова о первоначальном ареале индоевропейской прародины в зоне распространения культуры Лендьел от Карпат и Судет на севере до Дуная на юге [16, с. 83; 17].
Из совершенно других - статистических посылок изучения лексической близости родственных языков исходит в. Маньчак, который помещает в междуречьях Одера, Вислы и Немана не только прародины славян и балтов (в общем - в соответствии с положениями польской школы автохтонистов), но и прародину всех индоевропейцев, вместе взятых [18, с. 29], с чем, конечно, нам трудно согласиться, ср. аргументы, приводимые также далее и свидетельствующие о вторичном освоении как славянами, так и - до них - другими индоевропейцами пространств к северу от Судето-карпатской гряды.
Для нас одинаково важно и отсутствие памяти и ее наличие в других случаях. В древнерусской "Повести временных лет" Нестора написаны слова, которым навсегда суждено остаться краеугольным камнем теории славянского этногенеза: "По мнозѣхъ же времянѣхъ сѣли суть Словѣни по Дунаеви гдѣ есть нынѣ Угорьска земля и Болгарьска". Эти слова, к которым мы обращаемся неоднократно, слишком долго подвергались критике в новое и новейшее время со стороны школы Нидерле и других направлений. Всячески оспаривали древность пребывания славян на Дунае и толковали на все лады хотя бы этот знаменитый зачин по мнозѣхъ же времянѣхь ("а по прошествии многих времен)", усматривая здесь указание то на предшествующую средневековую миграцию славян, то на целиком книжные, библейские ассоциации. Суть же дела довольно проста. Нестор был добрым христианином, и его слова, внесшие такую смуту в ученые умы, - это всего лишь верность традиционному библейскому рассказу (книга Бытия, гл. II) о Вавилонском столпотворении: бог рассеял языки, после чего, действительно, разумно оказалось
105
![]()
предположить немалое время для того, чтобы славянам оказаться на Дунае. Для нас важен не этот библейский фон, а действительная история, отраженная у Нестора. То, что эта история была реальной, поддается, несмотря на трудности, доказательству разными дисциплинами. Интересно привести здесь некоторые новые доводы современных историков, причем материалом для аргументации послужили те же исторические документы, которые Нидерле в свое время привлекал для опровержения Нестора. Одно из первых мест принадлежит при этом анонимному автору "Космографии" предположительно VII в. - Равеннскому Анониму, который повествует о том, что племя склавинов вышло из Скифии, которая помещается "в шестом часу ночи (т.е. севера)" (Sexta ut hora noctis Scytharum est patria, unde Sclavinorum exorta est prosapia. Ravennatis Anonymi Cosmographia, I, 11-12). Слишком прямолинейная идентификация наукой нового времени оригинального деления Земли на часовые пояса у этого анонимного автора и отнесение Скифии к северо-востоку Европы, предложенные Нидерле, получили теперь вескую критическую оценку в работе современного историка Я. Бачича [19], который вскрыл зависимость этого Анонима от Иордана вообще ("Iordanus sapientissimus cosmographus", Rav. An., там же) и в частности - в его представлениях о Скифии. Иордан представлял северную часть ойкумены из двух частей - Германии и Скифии, которые встречались у Мурсианского озера (в нынешней Хорватии); при этом по Иордану, самым западным народом Скифии были германцы-гепиды, жившие в долине Тисы, притока Дуная. Кроме того, Бачич обращает внимание на дальнейший контекст самого Анонима, который помещает, далее, к востоку, "в седьмом часу ночи" сарматов и карпов, причем о последних известно, что они были обитателями горных карпатских склонов, обращенных к дунайскому бассейну. Все отмеченное делает вероятной не только по Нестору, но и по Равеннскому Анониму локализацию древних славян на Среднем Дунае. Бачич привлекает также свидетельство такого раннего автора, как Псевдо-Цезарий (между IV и VII вв.), о славянах, живущих рядом с фисонитами на Дунае (Danubiani); фисониты - это балканские и дунайские христиане, прозвавшиеся по мифической райской реке Фисон, метафорически отождествленной с Дунаем, и их соседство со славянами (именно соседство, а не подверженность набегам со стороны отдаленных славян) было бы невозможно, если бы славяне обитали к северу от Карпат [19, с. 153-154] [ср. и 20, с. 85].
Для реабилитации несторовского предания делается и уже сделано, таким образом, много, но, конечно, многое также предстоит сделать, чтобы преодолеть этот бесплодный скептицизм. Порой аргументы приходится собирать по крохам, как, например, по вопросу о племенных названиях среднедунайских славян. Оспаривая дунайскую прародину славян, указывают, в частности, на то, что Нестор не назвал ни одного славянского племени на Дунае. Конечно,
106
![]()
жизнь славян на Дунае знала свои потрясения, они, подвергшись давлению со стороны волохов-кельтов, частично ушли на Вислу. Вероятно, эти славяне или их часть (возможно, уже в своем перемещенном состоянии, а быть может, и до перемещения) звались какое-то время дунайскими славянами - название, имеющееся у Нестора именно в эпизоде о нашествии волохов. Это название по большой реке могло поддерживаться окрестными народами, ср. и Δανούβιοι у Псевдо-Цезария, относящееся к фисонитам [*], но, вполне вероятно, применимое и к склавенам. Из того, что еще дошло до нас по этнонимии славян на Дунае, кроме дунайцев, дунайских славян, можно назвать нарци: "Нарци еже суть словѣне". Повесть временных лет (Лавр, лет., л. 2 об.). Вполне вероятно, что так одно время обозначалась часть славян Паннонии, возможно, в непосредственной близости к римской провинции Noricum, Норик (часть современной Австрии). Ясно, что это был первоначально кельтский этноним Norici, зафиксированный у Полибия и Страбона [21]. Но вряд ли справедливо, вместе с тем, было бы подозревать нашего Нестора, назвавшего нарцев славянами, в каких-то политических амбициях; можно поверить, что Нестор отразил традицию того времени, когда этот первоначально кельтский этноним действительно был перенесен на славян. Вырисовывается вполне правдоподобная картина некоего этнонимического (и лежащего в его основе этнического) расслоения и противопоставления: нарци "славяне западной Паннонии и Норика", вероятно, к западу от оз. Балатон и с Дунаем непосредственно не связанные, и славяне дунайские. Поскольку эти племенные названия впоследствии были забыты, свидетельства Повести временных лет и в этом вопросе трудно переоценить [**].
Исследователи древней истории области Норик, территориально
*. Caesarii sapientissimi viri Dialogi quatuor // Patrologiae cursus completus. Series grae- ca. Accurante J.-P.Migne. T. XXXVIII. Lutetia Parisiorum, 1858. Col. 985: πῶ δ᾽ἐν ἑτέρῳ τμήματι ὄντες οι Σκλαυηνοί και Φυσονῖται, οἱ καὶ Δανούβιοι προσαγορευόμενοι...
**. Вообще, при всей своей мимолетности, дунайцы, дунайские славяне летописи Нестора продолжают традицию региональной этнической номинации, которой трудно отказать в устойчивости, даже несмотря на скудные свидетельства, ср. выше Δανούβιοι 'Danubiani, дунайцы', в "Диалогах" Псевдо-Цезария, предположительно относимые к IV в. Сюда же мы отнесем, далее, Danaorum, род. мн. в памятнике IX в. - так называемом Баварском географе, вопреки преобладающей эмендации в Danorum 'датчан'. В соответствии с этим начало этого небольшого памятника нами читается как: Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii. Isti sunt, qui propinquiores resident fmibus Danaorum... 'Описание городов и областей по северному берегу Дуная. (Вот) те, которые сидят ближе к пределам дунайцев'. - Обращает на себя внимание соседство и сопряженность Danubii и Danaorum, то есть 'Дуная' и 'дунайцев', что труднее утверждать о "датчанах". Изложение идет в Descriptio с севера на юг, при этом ориентация всякий раз - на Дунай, о чем говорит и характер контекстного употребления слова fines 'пределы' (3 раза). Нами использовано издание: Horák В., Travníček D. Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Daubii // Rozpravy ČSAV. Ročn. 66. Rada SV. Seš 2. 1956.
107
![]()
но в значительной части совпадавшей с нынешней землей Нижняя Австрия и некоторыми другими районами к югу, отмечают, что название Norici вначале принадлежало одному местному кельтскому племени и явилось производным от местного названия Noreia или вместе с последним - от имени богини Noreia. Вассальное в отношении Рима Норикское царство обладало в местных масштабах значительной силой и весом, следствием чего явилось распространение племенного названия Norici на все население провинции Норик (было вытеснено, например, имя племени Taurisci). К началу новой эры Норикское царство распространилось до оз. Балатон, захватив, таким образом, северо-западную Паннонию. Расширительное употребление этнонима Norici в такой, судя по свидетельствам специалистов, этнически смешанной зоне, какой был Норик, вмещавший венетов, иллирийцев, позднее - кельтов [22], испытало тем самым еще большую инфляцию, потому что оказалось с какого-то момента перенесено и на часть славянских племен (в западной Паннонии?).
Сигнал связи славянских нарцев с кельтскими нориками не случаен, но целиком созвучен эпизоду о волохах, занимавшему нас уже ранее в настоящей работе. Если говорить о традиции этнической памяти (см. выше), то эпизод о волохах у Нестора внушает почтение своей относительной давностью, потому что речь должна вестись при этом о событиях еще I тыс. до н.э., причем в правильной лингвистической (этимологической) интерпретации несторовские волохи - это не римляне, не итальянцы и не соплеменники румын (молдаван), как чаще всего приходится читать в исторической литературе, опирающейся на поздние восточноевропейские значения слов волохи, влахи, а кельты-вольки [23]. Между кельтами и славянами было много различий - языковых, этнических, культурных. Еще одно существенное различие заключалось в том, что для кельтов Подунавье было ареной экспансии, а для славян это была своя земля. Если античные авторы еще знают здесь (скорее в Норике, чем в Паннонии) ряд кельтских названий племен и населенных мест, весьма богата античная латинская эпиграфика (с частыми вкраплениями преимущественно кельтских собственных имен) прежде всего Норика, затем Паннонии, то потом эти традиции адекватного продолжения не имеют; слишком тонок и недолговечен был этот языковой и этнический слой, стертый последующими наслоениями. Славянский слой в ономастике Подунавья существенно отличался тем, что непрерывно наличествовал здесь с древних времен, несмотря на иноязычные наслоения разных эпох, а также несмотря на предубеждения интерпретаторов (достаточно сослаться при этом на разноречивые суждения вокруг названия паннонской реки Bustricius, известного начиная с Равеннского Анонима, которое то приписывают иллирийцам, то робко догадываются о его полной славянской принадлежности ввиду изобилия рек и речек с названием Быстрица во
108
![]()
всем славянском мире [24] [3]), и в общем никогда полностью не прерывался, вопреки самым неблагоприятным условиям. Освоенная венграми вот уже более тысячи лет назад страна до сих пор имеет все же в значительной степени славянскую реликтовую гидро- и топонимию, хотя по установившейся антишафариковской традиции слависты нашего времени редко дерзают датировать славянские названия в Подунавье временем до "славянских миграций", ср. характерный в этом отношении тезис Яна Станислава: "Словаки сидят в дунайской котловине самое позднее с начала VI в." [26].
Нам уже приходилось ранее [см. 27] приводить мнение югославского археолога Трбуховича о славянской принадлежности паннонцев I в н.э., описываемых Дионом Кассием. В литературе отмечается отличие явно кельтской ономастики надписей римского времени в Норике от антропонимии эпиграфики, распространенной в большей части Паннонии [28]. Четкие прямые свидетельства о языке и этносе паннонцев в источниках отсутствуют. Только у Тацита (Germania) содержится упоминание о lingua Pannonica 'паннонском языке', на котором якобы говорило племя Osi [29, с. 59-60]. Исследователь древней истории Паннонии А. Мочи представил распространение языков и племен в Паннонии на карте, где западнее, а отчасти и восточнее оз. Балатон нанесен ареал кельтского языка и этнонимы Arabiates и Hercuniates, с юга - ареал иллирийского языка (племена Varciani, Colapiani, Oseriates, Cornacates); опуская здесь менее существенный для нас юго-запад (Истрия, венетский язык) и юго-восток с фракийским языком, обратим внимание на то, что исследователь оставил на карте непосредственные окрестности оз. Балатон как бы этнически незаполненными [29, с. 64, рис. 11].
Паннонцы характеризуются догосударственными особенностями социальной организации, чем, как думают, вызвано слабое и позднее упоминание их на политической арене. Может показаться не лишенным интереса, что черты их быта, которыми история обязана в основном Аппиану, напоминают нам то, что другие древние авторы (Иордан, Псевдо-Маврикий) рассказывают о славянах - отсутствие городов, племенное разновластие [29, с. 21, 27].
В связи с этим, а также с крайней скудостью языкового материала той эпохи (эпиграфика, надо думать, была здесь, как, впрочем, и всюду, в руках культурно и политически преобладающих этносов, т.е. в данном случае - римлян и кельтов) полезно вновь обратиться к одной надписи II-III вв. нашей эры с территории Паннонии (точнее - из города Intercisa в Нижней Паннонии), которую в нашей литературе исследовал монографически О.В. Кудрявцев [30, с. 103 и сл.]: DEo DoBRATI. EUTICES. SER(vus).DE(dit). Надпись латинская, читается и переводится (уточнения - ниже) как: 'богу Добрату Евтихий
3. "Bustricius, река в Паннонии, по древнеримским картам и дорожникам, из коих Гвидо Равеннский выписал это имя (Anonym. Rav. od. Gronov. Р. 779)" [25].
109
![]()
раб воздал (посвятил)'. Надпись на барельефе, изображающем бога на лошади [30, с. 57]. Кельтская этимология имени данного бога (из *dobrato-, *dubr-ato-? 'водяной, водный?', ср. кельт. *dubro- 'вода') маловероятна (автор ее и не рассматривает), поэтому можно согласиться в общем с мнением Кудрявцева, что здесь представлено образование от слав. dobrъ 'добрый, хороший' в связи с наличием (по Кудрявцеву - проникновением) в Паннонии II-III вв. славян. В отличие от автора, мы полагаем, что Dobrat- отражает не славянскую форму с постпозитивным артиклем болгарского типа *добротъ (Кудрявцев приводит для сравнения ст.-слав. рабо-тъ, домо-тъ), а праслав. *dobrotь, вариант на -i-основу к *dobrota, ср. западнославянские формы: чеш. диалектн. dobrot' 'добро, благо', слвц. диалектн. dobrot' 'доброта, добро, благо', н.-луж. dobroś 'доброта, добродушие, честность, годность', польск. dobroć 'доброта; хорошее качество, состояние' (ЭССЯ, вып. 5, с. 44). Сказанное согласуется и с морфологическим наблюдением самого автора, что латинизированную форму им. пад. надо восстанавливать (по дат. пад. Dobrati) скорее как Dobrates или Dobratis. Последнее же вполне могло передавать праслав. *dobrotь или раннепраслав. *dăbrătĭ-. Наконец, надпись в целом, кажется, дает нам в руки то, что можно счесть глоссирующим контекстом. Имя раба - Eutices, т.е. греч. Εὐτυχής, достаточно распространенное в Римской империи и, видимо, понятное в своем буквальном значении - 'счастливый', 'благополучный', образует неслучайно смысловую пару с именем божества Dobrates/Dobratis, т.е. по-видимому, персонифицированное 'Благо, Добро'. Кем был этот раб по происхождению, неизвестно, но оставленная им надпись говорит о той степени осведомленности и понимания им местного языка, которая позволила ему обратиться к туземному божеству как к своему эпониму ('Благо' - 'благополучный').
Разумеется, следует продолжать изучение структуры и динамики славянской ономастики Венгрии и прилегающего чешско-словацкого Подунавья. Но уже по богатым собраниям материалов в монографии Станислава "Словацкий юг в средневековье" бросается в глаза ее разнообразие, включающее различные славянские (не только словацкие) словообразовательные типы и апеллативные связи. Нам уже приходилось обращать внимание на то, что критика древнего дунайского ареала славян ("донаучные воззрения" и т.п.) все больше обнаруживает свои инерционные качества. Сейчас наука способна противопоставить оппонентам в данном вопросе вполне зрелую и реалистическую концепцию, согласно которой от древнего ареала (топонимического, гидронимического) явления, вообще - от центра распространения не следует ожидать ни яркого изобилия, ни кучности чисто славянской ономастики, ни четкой продуктивности разных ее типов: и то, и другое характерно для зон экспансии. Локализация древнего ареала славян в Венгрии, Словакии, Моравии и некоторых прилегающих районах вовсе не влечет за собой утверждения,
110
![]()
что там должна иметь место кучность однородных славянских географических названий; насколько нам известно, ее там нет, а, взамен нее представлена та неяркая, как бы смазанная картина пестроты исходного славянского апеллативного и словообразовательного инвентаря, которой как раз и следовало ожидать в центре распространения языка и этноса. На фоне этой характеристики дунайскославянской ономастики и Северное Прикарпатье, и Великопольша, и - само собой разумеется - сгустки славянской гидронимии на главных путях балканской миграции славян - все это периферийные вспышки колонизационного происхождения. Сосуществование славян в Среднем Подунавье также с другими индоевропейскими этносами отнюдь не исключается предыдущими рассуждениями и нашим положением о древности славянского ареала на Дунае. Ряд гидронимов, например в восточной части этого ареала, в бассейне Тисы, аллоэтничен (а, возможно, и в других местах, ср., например, определенно неславянское индоевропейское происхождение названия реки Nitra в Западной Словакии). Само название реки Тиса, далее - название реки Темеш обладают не славянскими, но явно индоевропейскими признаками происхождения, без четкой языковой характеристики, возможно даже, что они принадлежат к тому потенциально наддиалектному гидронимическому слою, который носит название "древнеевропейской" гидронимии: *tīsā или *tīsi̯ā 'спокойная' или 'просторная', 'прямая', *təmisi̯ā 'темная' (тот факт, что эти названия характеризовали природные особенности объекта, позволяет отнести их к наиболее ранним из числа древнеевропейских гидронимов).
По-прежнему также оправданы поиски прямых следов и продолжений дакского языкового адстрата вроде уже идентифицированных нами ранее местных названий Morimarusa, Sarmizegetusa. В этом же ряду может быть поставлено название города и ручья Abrud в Трансильвании, к юго-западу от Клужа: вероятно, из дак. *ара ruda "aqua rubra". Цветообозначение связано, возможно, с золотоносностью, которую пытался осмыслить иначе - в связи с греч. ὄβρυζον - Г. Шрамм [31, с. 187], что неубедительно. Этому же автору принадлежит мысль о сохранении в Трансильвании еще в XI в. дакского населения [31, с. 160].
Примерную карту древнего славянского среднедунайского ареала очертить трудно, потому что у нас недостаточно данных относительно его границ, да их, видимо, и не было в современном понимании. Ср. весьма показательное мнение специалиста по аналогичному вопросу: «Границы остроготской "империи" не могут быть определены по той причине, что она таковых не имела» [32]. Можно лишь очень схематично попытаться изобразить этот ареал с древним ядром в Среднем Подунавье и наиболее ранними иррадиациями на Север и Северо-Восток. Ясно, что наша карта древнейшего славянства принципиально отличается от большинства современных карт славянской прародины, помещающих эту прародину (начиная с Нидерле)
111
![]()
к северу от Карпат, с ее крайними вариантами - верхнеокским, средне-днепровским, припятско-полесским, висло-одерским, включая компромиссный вариант Т. Лер-Сплавинского - от Одера до Днепра. Думается, что только центральноевропейская, среднедунайская концепция праславянского ареала полнее соответствует этимологически вскрываемым древним общениям с древними италиками, германцами, кельтами, иллирийцами.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ О СРЕДНЕДУНАЙСКОМ ЦЕНТРЕ ПРАСЛАВЯНСКИХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
В предыдущей главе [см. также 33] было обращено внимание на ценные наблюдения Т. Милевского о центре позднепраславянских фонетических инноваций в Паннонии. В том же направлении ориентируют нас и разыскания других ученых по самостоятельным, хотя и смежным (фонетическим) вопросам. Здесь уместно назвать работы И. Марвана над генезисом стяжения (контракции) в славянском, в которых говорится о праславянской древности явления. И если мнение автора о стяжении как одном из главных факторов разделения праславянского языка кажется преувеличенным и в принципе едва ли удачным, то его главный вывод о том, что фокусом (географическим центром) явления была территория исторической Великой Моравии, т.е. чешские и примыкающие к ним говоры, интересен в плане наших поисков [см. 34, 35]. Современная научная критика с вниманием отнеслась к лингвогеографическому решению проблемы Марваном, а также к его хронологии явления, согласно которой "зарождение праславянского стяжения приходится на вторую половину IX века" [36].
Не оставляя фонетического аспекта, мы вправе обратить внимание, далее, на то обстоятельство, что наша более южная локализация праславянского ареала позволяет лучше осмыслить природу некоторых схождений славянского и латинского, которые иначе пришлось бы в лучшем случае трактовать как чисто типологические. Однако теперь имеются основания для более реального объяснения этих схождений как ареальных. Я имею в виду близкое переходное смягчение (палатализацию) задненебных, на что уже указывалось и раньше, ср. [37, с. 112-113]: "На большей части народнолатинского ареала велярные смычные k и g подверглись аффрикации перед передними гласными е и i, аналогичной так называемым палатализациям в славянском". Балканская латынь адриатического побережья и позднейший далматинский не знали этого переходного смягчения, как и архаичный в этом отношении сардинский [4], в остальном ареальное распространение этого явления весьма очевидно, причем в
4. Ср. [38], впрочем, автор, похоже, недооценивает эти различия внутри романского ареала.
112
![]()
ряде случаев - под влиянием славянского, например в румынском [37, с. 121]. Можно здесь напомнить, что подобные палатализации "славянского типа" в принципе несвойственны для таких близкородственных языков, как балтийские, и их появление там (ср. палатализации задненебных в латышском) есть результат вторичного славянского (русского) влияния [*].
Вообще, надо сказать, латынь, в том числе латынь народная, в глазах одних (все реже) - конкретная и реальная благодаря наличию письменности, а в глазах других (все чаще и чаще) - неосязаемая, зыбкая, непознаваемая (В. Маньчак: «миф о "народной" латыни»), спорная, как оказывается, по причине вскрываемого отсутствия единства и однородности [см. 39, passim], - всемогущая латынь и ее история, как подсказывает опыт последних десятилетий, не только учит нас, славистов, но и сама могла бы обогатиться уроками праславянской диалектной сложности, чтобы с их помощью преодолеть собственный кризис концепции стабильного древнего "языка-мумии".
ТИПОЛОГИЯ ЭТНОГЕНЕЗА. ГЕРМАНО-СЛАВЯНСКИЕ АНАЛОГИИ: ПОДВИЖКА ЮГ ↔ СЕВЕР
Но вернемся к германо-славянским аналогиям. Эти аналогии позволяют понять динамику славянского ареала, иначе во многом неясную. Речь идет прежде всего о древней своеобразной подвижке ареала Юг <-> Север, которая коснулась не одних только славян (о ней отчасти помнит и повествует Нестор в своей летописи: "Когда волохи совершили нашествие на дунайских славян и расселились среди них и притесняли их, славяне те пошли и поселились на Висле"), но и германцев. Например, Скандинавия, юг которой часто включают в прародину германцев, была освоена ими вторично, с Ютландского п-ова и материка, недаром герм. *skadin-aujō (откуда латинизированное Sca(n)dinavia со времен Плиния) этимологически значит 'пагубный остров', или 'пагубный берег', 'Schaden-au'. Так свою исконную родину не называют, а называют вновь освоенные, чужие, неприветливые места. Раньше германцы сидели южнее, общаясь
*. К разительным схождениям романского (позднелатинского) и славянского наука обращалась неоднократно, как это делал, например, Н. Ван-Вейк, один из замечательных славистов XX в., в частности, тогда, когда он затруднялся объяснить "тенденцию к повышению звучности, которая столь мощно действовала и в славянском, и в романском. Надо надеяться, - писал Ван-Вейк, - что сравнительное исследование таких поразительных сходств, какие мы констатируем между романским и славянским, поможет прояснить наши мысли относительно причинности в жизни языков. Сходные явления должны иметь сходные причины; следовательно, можно ожидать, что разительное сходство между двумя языками не должно ограничиваться единичным явлением" (Van Wijk N. Les langues slaves. De l'unité a la pluralité. 2ième éd, corrigée. 'S-Gravenhage, 1956. P. 23).
113
![]()
с кельтами, древняя прародина которых, вероятно, помещалась на юге современной Западной Германии. Но потом и германцы, и сами кельты, и иллирийцы (иллиро-венеты), следы которых в географических названиях находят вплоть до южных берегов Балтийского моря, двинулись на Север. Почему? Возможно, для освоения новых пригодных для жизни пространств после отступления последнего оледенения. Возможно, что были и другие причины. Не на все вопросы пока можно ответить сейчас. Ясно одно: подвижка Юг ↔ Север (символ ↔ передает у нас как поступательный, так и возвратный характер этой подвижки, о чем - ниже) была крупнейшим историческим эпизодом в жизни древних индоевропейских племен Центральной Европы. Ясно также другое. Пока предельный возраст образования индоевропейских диалектов измерялся округленными датами не древнее 2000 г. до н.э., индоевропеистов сравнительно мало интересовала история древнего климата, и некоторые гипотезы включали Север Германии в искомую индоевропейскую прародину. Но в наше время вся индоевропейская датировка пересматривается в сторону удревнения, причем III и IV тыс. до н.э. не кажутся предельно древними в жизни индоевропейских диалектов. Поэтому сейчас уже трудно не считаться с указаниями, что на север от Судет и Карпат простиралась первоначально зона оледенения, заселение которой, как предполагают, началось лишь с 4000 г. до н.э. [40]. В западную (эльбско-везерскую) часть этого ареала достаточно рано проникают древнегерманские племена. Кельты, по всей вероятности, никогда не заходили так высоко на север, поэтому тезис Шахматова (в цитируемой нами статье) о кельтах на берегах Балтийского моря звучит сейчас неправдоподобно. То же можно утверждать о древнеиталийских и прагреческих племенах, а также о некоторых других индоевропейских группах. С другой стороны, достаточно рано распространились на европейский Север (его одерскую часть) древние иллирийцы (иллиро-венеты), называвшие море особым диалектным словом *daksā (< *dapsā < *daub-s-ā), следы которого отыскиваются в германской Прибалтике и в Чехии, и в исторической Иллирии (на юг - вплоть до Эпира), о чем я уже писал ранее. Разумеется, на означенном европейском Севере выявляются и другие географические названия иллиро-венетского происхождения, и само имя этого этноса - венеты - свидетельствуют об исторической достоверности этого древнего народа, по которому позднее германцы с запада прозвали новых насельников этих мест - славян. Важно иметь в виду, что славяне были не первыми колонизаторами висло-одерского региона, так как они пришли сюда (помимо конкретного политического давления, как в случае с волохами, могли сказаться и общие тенденции в духе европейской подвижки Север ↔ Юг), когда эти земли уже имели индоевропейское население. Любопытно, что это признают и представители польской автохтонистской школы славянского этногенеза. В качестве примера можно сослаться на
114
![]()
С. Роспонда, который в специальном обобщении на тему "Праславяне в свете ономастики" [41], неизменно отстаивая висло-одерскую теорию, допускает неславянское, точнее - дославянское, венетское, "загадочное" происхождение многих гидронимов на этих территориях: Drawa, Drama, Nisa, Kwisa, Wisa, Osa, Wierzyca, Noteć, Nieca, Gwda, Kwa, Wkra, Bzura, Jana, Nida, Ina, Mroga, Śrem. В число дославянских названий этих мест, безусловно, попадают и названия "древнеевропейского" вида, без четкой языковой характеристики, как, например, Drwęca, приток Вислы, которую еще Шахматов сближал с кельт. Druentia. Только признав наличие дославянского индоевропейского слоя в междуречье Вислы и Одера, можно правильно объяснить отмеченные на этих землях Птолемеем (II в. н.э.) совершенно не славянские, но явно индоевропейские названия народов, как, например, Κάρβωνες и др. При этом вовсе не обязательно связывать приблизительно "похожие" племенные названия - птолемеевских буланов и польских полян и как-то пытаться объяснить одно из другого; они принадлежат разновременным и независимым индоевропейским потокам.
То, что вислинские славяне шли от истоков к устью главной польской реки,
постепенно осваивая висло-одерское междуречье на север и северо-запад,
подтверждает, как нам представляется, территориальное распределение названий Małopolska (юг) и
Wielkopolska (вторично освоенный Северо-Запад).
Таково обычно типологическое свидетельство географических названий с атрибутом
"Велико, Великая": это, как правило, зоны экспансии. Интересно, что
Wielkopolska 'Великопольша', в какой-то мере покрывается с такой
вторично освоенной германской периферией, как Magna Germania,
название земель к востоку от Одера, ср. сюда же, видимо, приуроченное название
страны ![]() 'великая страна?' (ср. др.-в.нем. maht, гот.
mahts 'сила, мощь, величина') в описании Германии англосаксонского короля
Альфреда (IX в.), - все вместе применительно к стране, которая в разное время
была зоной экспансии как для германцев, так и для славян.
'великая страна?' (ср. др.-в.нем. maht, гот.
mahts 'сила, мощь, величина') в описании Германии англосаксонского короля
Альфреда (IX в.), - все вместе применительно к стране, которая в разное время
была зоной экспансии как для германцев, так и для славян.
Таким образом, продвижение славян из Подунавья на Вислу, а также в сторону Правобережной Украины укладывается в широкие рамки северной подвижки многих индоевропейских племен, из которых часть предшествовала славянам, часть шла следом. Весь этот древний индоевропейский этап наиболее закономерно смотрится из Центральной Европы и со Среднего Дуная.
Изложенные выше соображения оказываются весьма созвучными археологическим данным о проникновении культуры воронковидных кубков с территории Чехии и Моравии вторично в Малопольшу (откуда позднее - на Украину). В общей перспективе для нас важно, что для ассоциируемых с индоевропейцами воронковидных кубков как в Чехии, так и в Средней Германии "имеет место расширение культуры на север", что археология при поддержке радиоуглеродной
115
![]()
датировки свидетельствует "о продвижении носителей культуры воронковидных кубков на север и восток", что "ранний период культуры воронковидных кубков в Дании и Южной Швеции датируется в пределах 3000-2300 гг. до н.э.", а также то, что в этих северных германских странах у этой пришлой культуры нет корней, и главное - что наиболее древним ядром этой культурной экспансии является соответствующая культура на территории Чехии IV тыс. до н.э., где она коренится в еще более древней местной культуре Лендьел в Венгрии, Словакии, Моравии, Верхней Силезии V-IV тыс. до н.э., соотносимой с индоевропейской пракультурой [см. специально 16, с. 60-66] [*].
Как и следовало ожидать, и германцы, и иллирийцы, и сами славяне, храня память о своих древних местах обитания, а также, возможно, под воздействием более сложного комплекса причин, пытались вернуться потом назад, на Юг. Некоторые индоевропейские племена (италики, иллирийцы, греки) углубились при этом в прежде чуждое для индоевропейцев Средиземноморье. Возвратная южная миграция славян развернулась уже на глазах письменной истории около середины I тыс. н.э. и тоже сопроводилась занятием прежде чужих земель на юг от Дуная. Важно то, что эта южная миграция славян была в своей первоначальной сущности возвратной. Рассматриваемое в общей перспективе неоднократное движение славян к северу и к югу делается понятнее и утрачивает загадочность и произвольность в свете кратко приведенных выше германских и других индоевропейских аналогий.
ЛИТЕРАТУРА
1. Georgiev Vl. Illyrier, Veneter und Urslawen // Балканско езикознание. 1968. XIII. 1. С. 12.
2. Rospond S. Etnogeneza Słowian w świetle stratygrafii leksykalnej i strukturalno-onomastycznej // Z polskich studiów slawistycznych. W-wa, 1983. S. 314.
3. Трубачев O.H. Языкознание и этногенез славян II ВЯ. 1984. № 2. С. 19.
4. Martynov V.V. Vprašanje glotogeneze Slovanov // Slavistična revija. 1984. Letnik 32. St. 2. S. 69 и сл.
5. Королюк В Д. Пастушество у славян в I тысячелетии н.э. и перемещение славян в Подунавье и на Балканы // Симпозиум по структуре балканского текста. М., 1976. С. 24.
6. Седов В.В. Конгресс по славянской археологии // Вестник АН СССР. 1981. №5. С. 99.
7. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.
8. Novak V. Vznik Slovanov a ich jazyka (Základy etnogenézy Slovanov) // Slavica Slovaca. 1984. Ročn. 19.3.
*. Подробное изложение см. теперь: Сафронов В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989. - Там же, в приложении, см. рецензии на эту работу, в том числе, с. 394-397 - рецензия О.Н. Трубачева.
116
![]()
9. Polomé E.C. The etymological dictionary of Dutch: an analysis of the work of Jan de Vries // Eichstätter Beiträge, 8 (= Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung. Hrsg. Bammesberger A.). Regensburg, 1983. P. 218-219.
10. Polomé E.C. Bilingualism and language change as reflected by some of the oldest texts in Indo-European dialects // Northwestern European language evolution. V. 1. Odense, 1983.
11. Piekarczyk S. Mitologia germańska. W-wa, 1979. S. 110.
12. Топоров В.Н. Фрак. Βυζάντιον в индоевропейской перспективе // Этимология, 1976. М., 1978. С. 145.
13. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. К проблеме прародины носителей родственных диалектов и методам ее установления (По поводу статей И.М. Дьяконова) // ВДИ. 1984. № 2.
14. Крайнов Д.Л. Древнейшая история Волго-Окского междуречья. Фатьяновская культура. II тысячелетие до н.э. М., 1972, passim.
15. Häusler A. Zu den Beziehungen zwischen dem nordpontischen Gebiet, Südostund Mitteleuropa im Neolithikum und in der frühen Bronzezeit und ihre Bedeutung für das indo-germanische Problem // Przegląd Archeologiczny. 1981. 29. С. 119.
16. Сафронов В.А. Проблемы индоевропейской прародины. Орджоникидзе, 1983.
17. Сафронов В.А. Кавказ в раннебронзовую эпоху и проблема локализации индоевропейской прародины: Тезисы и доклады конференции "Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока". М., 1984. Ч. 1. С. 85.
18. Mańczak W. Sur l'habitat primitif des Indo-Européens //Baltistica. 1984. XX. 1.
19. Bačić J. The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their arrival on the Balkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective: Columbia university Ph. D. 1983 // Ann Arbor (Michigan), 1984. P. 167 и сл.
20. Новаковић Р. Одакле су Срби дошли на Балканско полуострво (Историјско-географско разматрање). Београд, 1978.
21. Holder А. Alt-celtischer Sprachschatz. Bd. II. Graz, 1962. Стлб. 762.
22. Alföldy G. Noricum. London; Boston, 1974. P. 15, 17, 27, 41.
23. Schachmatov A. Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen // AfsIPh. 191 LXXXIII. S. 54.
24. Колосовская Ю.К. Паннония в I-III веках. M., 1973. С. 23.
25. Шафарик П.И. Славянские древности. Пер. с чеш. И. Бодянского. М., 1837. Т. 1. Кн. II. С. 120-121.
26. Stanislav J. Slovensky juh v stredoveku. I. diel. Turčiansky sv. Martin, 1984. S. 7.
27. Трубачев O.H. Языкознание и этногенез славян // ВЯ. 1984. № 5. С. 9, примеч. 22.
28. Polomé Е. The linguistic Situation in the Western provinces of the Roman Empire // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Hrsg. von Temporini H. und Haase W. II. Berlin; New York, 1983. P. 536.
29. Mócsy A. Pannonia and Upper Moesia. A history of the Middle Danube provinces of the Roman Empire. London and Boston, 1974.
30. Кудрявцев O.B. Исследования по истории балкано-дунайских областей
117
![]()
в период Римской империи и статьи по общим проблемам древней истории. М., 1957 (см. специально раздел "Deus Dobrates").
31. Schramm G. Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart, 1981.
32. Maenchen-Helfen O.J. The world of the Huns. Studies in their history and culture. Los Angeles; London, 1973. P. 25.
33. Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян // ВЯ. 1984. № 3. С. 21.
34. Marvan J. Prehistoric Slavic contraction. The Pennsylvania State University Press, University Park and London, 1979. Р. 166.
35. Марван И. Русское стяжение и славянская доисторическая контракция // Melbourne Slavonic studies. 1973. № 8. Р. 5 и сл.
36. Moszyński L. - Rocznik Slawistyczny, t. XLIII, cz, I, s. 38. - Rec.: Marvan J. Prehistoric Slavic contraction, 1979.
37. Bidwell Ch.E. The chronology of certain sound changes in Common Slavic as evidenced by loans from Vulgar Latin // Word. 1961. V. 17. N 2.
38. Mańczak W. Les langues centum et satem // Langues et cultures. Mélanges offerts a Willy Bal. 3. Linguistique comparative et romane (= Cahiers de rinstitut de linguistique de Louvain 10, 1984). P. 179.
39. Väänänen V. Préroman - protoroman - latin vulgaire // Neuphilologische Mitteilungen. 1984. LXXXV. 1.
40. Nalepa J. Miejsce uformowania się Prasłowianszczyzny // Slavica Lundensia. 1973. 1. S. 60.
41. Rospond S. Prasłowianie w świetle onomastyki // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965. Wrocław etc., 1968. S. 134—135.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ГЕРМАНО-СЛАВЯНСКИЕ АНАЛОГИИ И НАЗВАНИЕ ЖЕЛЕЗА
В последнее время много пишут о культуре металлов и о названиях металлов. Наше внимание привлекают названия железа в силу важности самого железа как металла и железного века, который, раз воцарившись в I тыс. до н.э., в сущности продолжается до сих пор и определяет культурную жизнь наших народов (о том, какой важной - датирующей - балто-славянской контактной инновацией является именно название железа, уже было упомянуто выше, о самом материале названий нам еще предстоит говорить).
Оказывается, что германцы сначала знали только бурый болотный железняк, откуда объясняется раннее германское название железа, хорошо засвидетельствованное в фин. rauta 'железо' (древнее заимствование из германского), далее - в др.-исл. rauði 'железо', 'болотный железняк, руда, Raseneisenerz, Erz' [42], буквально 'красное', ср. др.-исл. rauða 'красный', нем. rot, англ. red.
В принципе так же шли дела у славян. Еще в молодости, при чтении книги Б.А. Рыбакова "Ремесло Древней Руси", мне запомнилось
118
![]()
указание, что славяне, Древняя Русь, не зная еще открытых позднее горнорудных месторождений и не завися даже от привозных источников сырья, начиная со скифской эпохи добывали железо в том виде, в котором оно встречалось буквально под ногами в лесной, лесостепной, болотной местности - в виде болотного железняка [43, с. 38, 123-124]. Этот источник добычи сохранял промышленное значение до XVIII в., но потом забылся, уступив место разработке горнорудных месторождений. Однако следует помнить, что наша древнейшая терминология железа, включая название самого металла, порождена эпохой болотного железняка, потому что, забыв об этом, мы повторим ошибку историков, которые настаивают на привозных источниках сырья ввиду удаленности месторождений ископаемых железных руд (впрочем, как удостоверяют археологи, криворожские железорудные залежи разрабатывались уже в скифское время). Но, как верно сказал Б.А. Рыбаков по этому поводу, "подход к древнему производству с мерками современной нам крупной промышленности не может дать точных результатов" [43, с. 38].
Дальше требуется этимологический комментарий. Наше слово руда, слав. *ruda формально и семантически было первоначально прилагательным женского рода со значением 'красная, бурая, рыжая'; принадлежность к женскому роду была обусловлена употреблением в составе устойчивого словосочетания - праслав. *ruda zemja 'красная, бурая земля' - о буром железняке. Эта исходная адъективность формы и функции *ruda поддается проверке на примере близкого, но самостоятельного субстантивированного употребления русск. диалектн. руда 'кровь', на табуистический характер которого обратил внимание Фасмер. Последнее (название крови) тоже, видимо, восходит к особому двучлену *ruda voda 'красная вода' (иносказательно о крови). Таким образом, применительно к древней металлургии наших предков праслав. *ruda обозначало бурую земляную породу, иначе - болотный железняк, из которого добывалось железо. До сих пор, например, в.-луж. ruda значит не только 'руда', но и 'железняк, бурая земля', н.-луж. ruda - 'болотный (или луговой) железняк; руда из болотного железняка; сырая, бурая железистая земля', a Ruda в качестве местного названия обозначает луг с болотным железняком [44]. Вообще у славян, в частности, восточных славян, немало местных и водных названий Ruda, Руда того же происхождения. Ясно, что слово *ruda, руда изначально относилось только к железистой, железоносной земле и к другим металлам, особенно к меди, не имело первоначально никакого отношения. "Интересно отметить, что главная масса болотных железных руд залегает именно там, где отсутствует медная руда" [43, с. 38].
В данном случае проявился независимый, но очень яркий и близкий германо-славянский параллелизм, причем - как в культурном плане (древние славяне, как и древние германцы, имели дело первоначально с железом из болотного железняка), так и в плане сходной
119
![]()
языковой инновации, лексико-семантического новообразования: и.-е. *roudh- 'красный' именно в языках древних германцев и древних славян было употреблено как обозначение болотной железной руды, болотного железняка.
Неприемлемо поэтому толкование русск. руда, праслав. *ruda как заимствования из шумер. urudu 'медь'. Это старое и случайное сближение вызывало сомнения в общем всегда, что со стороны фонетической формы убедительно показал еще Брюкнер: "Ошибочно выводят название rudy 'рыжий' из шумерского urudu 'медь'; гласные этого корня rŭd-, reud-, roud-) доказывают его принадлежность к арийской (индоевропейской. - О.Т.) общности, a urudu случайно звучит похоже" [45]. Несмотря на давний интерес к шумер. urudu, фигурировавшему в перечнях ближневосточно-индоевропейских лексических схождений, следует признать, что здесь все-таки преобладали слишком беглые взгляды и кривотолки (заимствовано как культурное слово из шумерского в индоевропейские языки или наоборот - из индоевропейского в шумерский [см. 46, 47]). Кроме совершенно недвусмысленных лингвистических показаний в пользу исконности происхождения русск. руда, праслав. *ruda, которое можно считать вполне удовлетворительно объясненным словом, против сближения *ruda-urudu говорит семантическая эволюция праславянского слова, весь культурный фон. Очевидно, что праслав. *ruda 'болотный железняк, бурая железистая земляная порода' и шумер. urudu 'медь' не имеют ничего общего между собой. Номенклатура железа, железной руды, с одной стороны, и меди - с другой стороны, явно гетерогенны, как гетерогенны и разноместны месторождения болотного железа и медной руды (о чем - выше). Нельзя считать удачными поэтому новые попытки возродить толкование русск. руда, слав. *ruda из шумер. urudu [см. 13, с. 111; 48, с. 22], тем более, что авторы этой новой попытки не добавили никаких новых конкретных лингвистических аргументов в пользу старого формального сближения и - что вызывает особенное сожаление - не уделили внимания резервам внутриславянского и индоевропейского объяснения слав. *ruda и родственных слов, о которых мы рассказали несколько подробнее выше.
Очерченный кратко эпизод германо-славянского культурно-языкового параллелизма в использовании болотного железняка и применения к этому виду железной руды местного продолжения индоевропейского обозначения красного цвета не затушевывает, однако, самобытных, различных путей дальнейшего формирования лексики железа у германцев и у славян. Здесь мы, действительно, имеем возможность говорить о свободной германо-славянской аналогии. Положение усложнилось тем, что в игру вступил третий мощный этнос, повлиявший как на германцев, так и на славян именно в области культуры железа. Как раз на эту эпоху приходится расцвет культуры, которая, будучи этнически кельтской, получила название
120
![]()
гальштатской по месту находки Hallstatt в альпийской части Австрии, неподалеку от Зальцбурга. Эти районы были ареной восточной экспансии кельтов, охватившей затем территориально близкие Норик [1], Паннонию, Среднее Подунавье, т.е. древний праславянский ареал, о чем с разных сторон мы уже говорили. Похоже, что праславяне, придя в движение под воздействием этой кельтской экспансии, увлекли кельтов за собой в Южную Польшу, на Вислу, и даже дальше на северо-восток, в Среднее Поднепровье, ср. отмечавшееся археологами наличие предположительно кельтских предметов гальштатской культуры в Поднестровье (ср. в общем там же, кстати, и кельтский топоним Καρροδοῦνον - Каменец-Подольский), а также предметов латенской культуры в составе зарубинецкой археологической культуры Среднего Поднепровья.
Для германцев кельты также были в течение длительного времени мощным культурным соседом с юга. Это привело к ряду важных культурно-языковых заимствований, которые практически всегда шли в одном направлении: с кельтского Юга на германский Север. И германская терминология железа подпала под кельтское влияние: название металла железо германцы заимствовали у кельтов - нем. Eisen, англ. iron. Славяне также многим обязаны культуре кельтов; опуская здесь прочие свидетельства разностороннего влияния кельтской культуры на славян (см. о них отчасти в предыдущих главах книги), упомянем о деятельности кельтов как прекрасных металлургов своего времени. Существует даже мнение, что распространение знакомства с железом, добытым из болотного, лугового железняка, - дело рук кельтов [49]. Следы железоделательного промысла кельтов находят и в Южной Польше, в непосредственной близости от современного металлургического комбината Новая Гута. Однако, в отличие от германцев, славяне не переняли у кельтов название этого металла, а образовали свое собственное, из исконнославянских элементов: праслав. *želězo, русск. железо и т.д. (близкие формы во всех славянских языках).
Этимология славянского названия железа, которой посвящено наше дальнейшее изложение, прекрасно укладывается в эпизод культуры болотного железняка и стоит того, чтобы на ней остановиться особо. До самого недавнего времени выходят публикации со все новыми гипотезами о происхождении слав. *zelězo, тогда как давно уже имеется возможность в этом вопросе резко сократить число вероятных решений и остановиться на одном из них как единственно отвечающем требованиям языкознания и истории культуры.
Славянское название железа входит в число старых, праславянских названий семи основных металлов (золото, серебро, железо,
1. Здесь было сосредоточено производство особого сорта железа - "норикского железа" (Ferrum Noricum античных авторов), о чем специально - в цитированной нами ранее книге Альфёльди о Норике, см. [22, с. 113, 284].
121
![]()
медь, свинец, олово, ртуть), которые были известны праславянам [50]. Все индоевропейские названия металлов исключительно ареальны, и, если, например, посмотреть на них из славянской перспективы, то родственные соответствия охватывают в лучшем случае три-четыре древних диалектных группы. Наиболее распространенными при этом оказываются соответствия славянскому названию золота - в германском, диалектно - в восточнобалтийском (латышском) и, по-видимому, во фракийском, что, возможно, позволяет усмотреть территориальную близость к древнему центру добычи золота в Трансильвании. Близкие формы названия серебра объединяют славянский, балтийский и германский (несколько напоминая отношения названий золота), но это отношения не родства, а древнего заимствования.
Так, восточнобалтийские названия серебра восходят к архетипу *sudrab-/*sidabr-, германские - к *silubr-/*silabr- и славянские - к *sirabr-, представляя собой разные (самостоятельные) преобразования некоего исходного, вероятно, индоарийского, *śub(h)riapa 'светлая вода', с проведенной уже сатэмизацией и предположительной локализацией в Предкавказье, на Кубани, важном перевалочном центре при импортировании серебра с Востока на Запад, в Северное Причерноморье и Центрально-Восточную Европу. Результаты исследования на эту тему были опубликованы мной более десяти лет тому назад, см. [51, с. 95 и сл.]. Эта работа осталась неизвестной авторам новейшего опыта о "протоиндоевропейском серебре" [52, с. 1 и сл.], хотя их вывод ("...ясно, что серебро распространилось либо из Прикубанья, либо через Прикубанье в Северное Причерноморье...") в сущности дублирует мою мысль "о кубанском происхождении восточноевропейских названий серебра" [51, с. 99]. Говорить о "протоиндоевропейском" названии серебра можно также лишь с оговоркой, что все эти названия региональны, имея, при этом в виду и названия с корнем *arg̑- 'светлый, блестящий', ср. диалектный характер суффиксальных производных от него: *arg̑-ent-o-/*arg̑-n̥t-o- (индоиран., арм., лат., кельт.), *arg̑-ur-o- (греч., иллир.), есть и переходные между ними типы (тохар.). Таким образом, в отличие от золота, серебро импортировалось в Древнюю Европу извне, причем в Северной Европе вплоть до эпохи железа оно вообще отсутствовало (см. [52, с. 9] и карту там же, на с. 1, где районы распространения древнейшего серебра в Европе III—IV тыс. до н.э. находятся в основном на юг от Карпат). Известные диалектные индоевропейские прототипы названий серебра распределяются в остальном на южные (*arg̑n̥to-, *arg̑uro-) и восточные (*sibrap-/*subrap- < индоар., см. выше). Оба древних диалектных прототипа обнаруживают исходное для термина "серебро" значение 'светлый, белый'.
В заключение экскурса о серебре представляется полезным в методологическом отношении напомнить произведенное в моей работе [51, с. 97-98] сопоставление исторической и лингвистической
122
![]()
моделей решения проблемы "серебро у славян". Из них первая (историческая) более близка к горизонту собственно письменной истории; излишне опирается на фактор римской торговли, европейского ювелирного и монетного дела и в итоге не может решить загадку происхождения славянского названия и реалии серебра, ключ к которой лежит не на европейском Западе, а на Востоке (и в гораздо большей древности), что давно предполагала вторая (лингвистическая) модель проблемы "серебро у славян", хотя до недавнего времени не удавалось конкретизировать этот восточный источник, о котором - у нас, выше.
Встречающиеся иногда высказывания о картвельском (грузинском) происхождении славянского, балтийского и германского названия серебра совершенно невразумительны.
Вообще, разумеется, названия металлов - это культурные слова, которые вполне могут служить предметом заимствования, как и сама реалия - металл. Однако подобную возможность нет оснований чрезмерно обобщать, так как это может увести на неверный путь. Ясно, что терминология металлов обладает первостепенным значением при решении не только лингвистических, но и этнолингвистических вопросов. Не случайно, возможно, славянское название железа оказывается общим или близким с соответствующим балтийским названием металла (ср. у нас ранее о потенциальной датирующей способности этого названия в вопросе балто-славянских отношений [*]), а название меди (слав. *mědь) совершенно различно у балтов и славян, как бы сигнализируя большие различия в языковых переживаниях между теми и другими в соответствующую более древнюю эпоху - эпоху бронзы, при всей, впрочем, недостаточной ясности этимологии славянского названия меди (к диалектн. праслав.
*. К сожалению, та модель древних германо-балто-славянских языковых отношений, которую предложил польско-американский лингвист З. Голомб, локализующий эти и.-е. диалекты "в бассейне Верхнего Днепра и Верхнего Дона до реки Оки на севере" около 3000 г. до н.э., кроме других возможных возражений, не выдерживает как раз тестирования "аргументом железа", поскольку согласно Голомбу предки германцев, балтов и славян ("предгерманцы", "предбалты" и "предславяне"), взаимно контактировавшие около этого времени, вскоре начинают мигрировать на Запад: сначала - германцы, за ними - балты и затем славяне, причем не позднее II тыс. до н.э. близкие контакты "предбалтов" и "предславян" окончательно прекращаются (Gołąb Z. Etnogeneza Słowian w świetle językoznawstwa // Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośrednio-wiecznej / Pod red. G. Labudy i S. Tabaczyńskiego. Wrocław etc., 1987. Т. 1. S. 73).
А между тем очевидно, что у балтов и славян общим оказывается именно название такого "позднего" металла, как железо, что реально означает лишь эпоху после 1000 г. до н.э. как terminus post quem соответствующего культурно-языкового переживания и, наверное, для множества других балто-славянских ареальных схождений. Если бы в истории балто-славянских контактов все обстояло так, как себе это представлял Голомб, то мы имели бы скорее всего общее балто-славянское название такого металла, как медь (III-II тыс. до н.э.!). Но в действительности, как известно, все как раз наоборот.
123
![]()
*smědъ-/*snědъ 'желтоватый'? Известная этимология В.И. Абаева, выводящая слав. *mědь из иранского названия страны māda- 'Мидия' через греческое посредство, все-таки сомнительна).
В книге Вяч.Вс. Иванова "История славянских и балканских названий металлов" читаем: «Балт. *ghelg̑h- (лит. geležis 'железо', диал. жем. gelžis, латыш. dzelzs 'железо', прус. gelso), как и слав. ghelg̑h-, русск. железо и т.п., закономерно соответствует греч. khl̥k- > χαλκ-, что позволяет возвести данное общее заимствование к исключительно раннему времени, когда соответствующие "восточные" индоевропейские диалекты представляли единое целое. В свете приведенных данных возможной датой заимствования представляется III тыс. до н.э.» [48, с. 99]. Итак, предлагается гипотеза о заимствовании славянского названия железа из слова хаттского (малоазийского неиндоевропейского) языка ḫapalki или ḫawalki (с вероятным чтением xaflki) 'железо', откуда таким путем объясняется название меди - греч. χαλκός, микен. греч. ka-ko [48, с. 95, 98]. Автор подробно говорит о структуре хатт. ḫawalki, а также о структурно близких древних словах этого языка, но практически не останавливается на лингвистической характеристике интересующих нас славянских и балтийских слов. Впрочем, хаттская словообразовательная характеристика для нас тоже по-своему поучительна. Так, оказывается, что слово ḫawalki 'железо' - это образование с префиксом ḫa-. Далее, интересно узнать, что груз. rḳina 'железо' и арм. erkat то же, которые, по-видимому, действительно заимствованы на Южном Кавказе из малоазийского хаттского языка, не имеют отражений этого префикса вообще. Напомню, что и в слове барс, которое Вяч.Вс. Иванов правдоподобно объясняет как восходящее к хаттскому ḫapraššun, начальное ḫa- тоже не передается при заимствовании. После этого мы можем усомниться в том, что χαλκός является "греческой передачей хатти xaflk" [48, с. 98].
Если верно, что индоевропейцы были носителями металлургии бронзы и бронза была единственным металлом древних индоевропейцев [48, с. 32], то маловероятно постулировать неиндоевропейское заимствованное происхождение названия железа для времени, по сути предшествующего даже бронзовому веку, каким было III тысячелетие до н.э. В эпоху, когда не было еще хозяйственного использования металлов вообще, не было необходимости в заимствовании названия железа, с добычей и применением которого познакомились едва только в I тыс. до н.э. Этот контраргумент действителен и против Мейе и его последователей, которые видели в слове *źe№zo неиндоевропейское либо восточное заимствование.
Таким образом, толкование слав. *želězo из хатт. ḫapalki можно оправдать лишь верой в примат древней ближневосточной культуры (в частности, металлургии), но эти мотивы не могут нам заменить лингвистической аргументации. Названная этимология не выдерживает проверки известными лингвистическими фактами, как впрочем,
124
![]()
и данными местной (европейской) культурной ситуации. Слав. *želězo и балт. *gel(e)ž- элементарно не соответствуют фонетически хатт. ḫapalki/ḫawalki и не могут быть получены из него путем заимствования, ср. звонкое согласное начало в и.-е. диал. *ghel(e)g̑h-, лежащем в основе славянского и балтийского слов, при начальном [ха] в упомянутом малоазийском термине, не говоря уже о том, что, как выяснилось по вероятным параллелям заимствований из хеттского, префиксальное ḫa- при достоверных заимствованиях в другие языки не сохраняется.
Но имеются и другие веские возражения. Самым слабым местом этимологий, объясняющих слав. *želězo, русск. железо как культурное заимствование из другого языка, является то, что авторы таких этимологий всякий раз забывают нам сказать, как же они в таком случае объясняют слово железá. А это упущение, характерное, кстати, для всех старых и новых сторонников заимствования названий железа [2], можно сказать, все решает: от правильной оценки слова железá зависит (как говорят немцы: steht und fallt damit) правильный вывод о происхождении названия металла. Именно так, а не наоборот: этимологию слова железо надо начинать с этимологии слова железá. Лишь на этом пути возможен выход из тупиковой ситуации, в которую зашла этимологизация названия железа. Поскольку при этом убедительно демонстрируется случай, когда культурное слово (название хозяйственно важного металла) получается не через межъязыковое заимствование, а как бы "рекрутируется" из местной обиходной лексики, пример этот может, кажется, представить и общеметодологический, а не только узкоспециальный этимологический интерес.
Наша этимология строится, как видно, на постулате родственной связи (исторического тождества) слов железо и железá, против которой не имеет смысла спорить. Древний, очевидный характер
2. Так, например, железóй (в животном организме) совершенно не интересуется и Генри Лиминг, когда он предлагает нам свою особую этимологию слав. *želězo из первоначального сложения *žel-ěz-, где первый компонент *žel- - цветообозначение, родственное *žьltъ, желтый, а второй компонент *ěz-, "если ě (ять) - дифтонгического происхождения" (мы пытаемся показать далее, что здесь имела место долгота-продление, не совместимая с дифтонгом), связан, по мнению Лиминга, с гот. aiz 'бронза, медь' в том смысле, что слав. *ěz- заимствовано из гот. aiz [53]. В целом все очень сомнительно, поскольку семантическая реконструкция *želězo как 'желтая медь' или 'желтая руда' (Лиминг) противоречит всему, что известно о металле железо и способах его номинации. Железо - это не цветной, а "черный" металл, и металлургия железа - "черная" металлургия, и это нельзя игнорировать при этимологизации названия. Сам Г. Лиминг приводит примеры именно такой номинации железа - др.-инд. śyāmam áyas, kālāyasa, ḳṛṣnāyas 'черный, темный, темно-синий металл', в отличие от ясного, блестящего красного металла - меди, lohitam áyas, lohitāyas, в соответствии с толкованиями М. Моньер-Уильямса и О. Шрадера, но, к сожалению, Лиминг не заметил, что этот материал противоречит его собственной этимологии и реконструкции *želězo как 'желтая руда'.
125
![]()
связи слав. *želězo: *žel(e)za виден из самобытного полного параллелизма этим отношениям в литов. geležîs 'железо': geležuonys, geležuones мн. 'железа (в теле)'. Слово железá (в животном теле) среди русских словарей нашло, кажется, самое лучшее и выпуклое толкование у Даля, бывшего, кстати, не только лексикографом, но и медиком: "клубочек, зернистый снаряд, через который проходят сосуды для выработки каких-либо соков" (ясно, что этимолог предпочтет недостаточно характеризующему и вместе с тем неэкономному толкованию современного четырехтомного словаря русского языка: железá - "орган у человека и животных"... (следуют лингвистически менее релевантные научные сведения о секреции) - именно далевское толкование как более характерное). О заимствовании названия железы (животной) с Ближнего Востока не может быть и речи, в то же время родство слов железо и железá (животная) совершенно очевидно. Оно имеет свои лингвистические и культурно-исторические основания, к рассмотрению которых мы переходим.
Название металла железо производно на исконнославянской языковой почве от названия животной железы, а не наоборот. Об этом говорят все лингвистические данные, составляющие семасиологию, акцентологию и этимологию (образование) слова железо. Продуктом первичной номинации явилось значение 'железá животного организма'; от этого термина и значения вторично мотивировано искомое нами значение 'железо-металл'. Чтобы понять, почему состоялась эта семантическая деривация, надо учитывать неоднократно упоминаемую нами выше архаическую культурную стадию добычи и обработки болотной железной руды, болотного железняка. Прийти к такому пониманию не всегда легко, даже историков культуры и археологов озадачивала ситуация, когда они сталкивались с наличием раннего железоделательного промысла при отсутствии следов горнорудного промысла, например, в раннесредневековой Польше.
Между значениями 'металл железо' и 'железá животная' не было непреодолимой пропасти, во всяком случае - в начальной стадии: образ клубочка, комочка (кстати, сюда же, но с другим суффиксом принадлежит слово желвак, что знал уже Даль) был использован для фигурального обозначения железа именно в том виде, в котором им впервые заинтересовались славяне (и не только они одни - на ранней стадии), - в виде болотного железняка. "По внешнему виду болотная руда представляет собой плотные тяжелые землистые комья красно-рыжего оттенка" [43, с. 125]. Кстати, в упоминавшейся нами книге [48], где собрана масса информации о добывании и металлургии метеоритного и земного ископаемого железа, ни словом не упоминается как раз культура болотного железняка, без чего просто невозможно понять древнюю европейскую (славянскую, балтийскую, германскую) лексику железа и ее истории, а без соблюдения этого условия, в свою очередь, несколько иной оказывается картина
126
![]()
славянской языковой и этнической древности; она невольно подвергается искажению.
Принимая членение слова *žel-ězo, где ē̆z- - суффикс, а корень восходит к и.-е. *ghel-, выступающему в разных названиях шишек, желваков, камешков, ср. сюда *žely 'черепаха', русск. желвак - с расширением -ū̆-, мы тем самым во всем существенном остаемся при своей давней этимологии, см. [54]. Разумеется, сейчас многое стало яснее (культурный аспект болотного железа), есть еще что добавить; так родился нынешний новый этюд по номенклатуре железа. Тогда, давно (год первой публикации - 1957), не была еще продумана связь с названием животной железы. Попутно заметим, что нет принципиальной разницы в обозначении желваков органических (животных) и неорганических. Прочая старая литература отражена у Фасмера (см. [55, с. 42-43]), где имеется и (сомнительное) сближение с именем железоделателей тельхинов.
В плане наших изучений исключительно интересно темное до сих пор латинское название железа - ferrum. И здесь поиски, вероятно, следует продолжать не в направлении установления крайне сомнительного древнего заимствования (см. [56], с древнееврейскими, сирийскими и ассирийскими параллелями), а в плане реконструкции культурно-языковой ситуации, пережитой также другими индоевропейскими племенами Европы, - культуры болотного железа и его комковатой, сыпучей, земляной породы, в связи с чем наиболее вероятная реконструкция из возможных - ferrum < *fersom < *dhersom. Эта последняя праформа отнюдь не изолирована среди индоевропейского словарного состава и для нее могут быть указаны родственные формы и значения, весьма перспективные как для древней индоевропейской диалектологии, так и для культурно-исторической реконструкции, занимающей нас здесь. Так, лат. ferrum (*dhersom), по-видимому, этимологически родственно нем. Druse 'verwittertes Erz' (откуда заимствован наш минералогический термин друза 'группа кристаллов, сросшихся в основании') < герм. *drös< и.-е. *dhrös-/*dhräs-. Очень поучительно для нас здесь тесное родство этого минерального Druse и немецкого названия животной железы - Drüse, др.-в.-нем., ср.-в.-нем. druos, ср.-н.-нем. drōse, drāse (см. [57], где дается несколько отличная реконструкция герм. *prōs, а лат. ferrum не привлечено совсем). Между тем родство и.-е. *dher-s-om и *dhr-ōs- (с допустимыми вариациями огласовки корня и суффикса) довольно правдоподобно, и оно, к тому же, позволяет углубить дометаллическую семантику лат. ferrum 'железо' в направлении, обследуемом нами на примере слав. *želězo: 'конгломерат кристаллов; комочек', откуда тоже лексикализовалось побочно 'железа' (Druse: Drüse), что определяется комочкообразным видом как соответствующей минеральной породы, так и соответствующего животного органа. Далее, сюда же, видимо, следует все-таки отнести такое название крупного песка, гравия, т.е. осадочных пород, как русск. дресвá,
127
![]()
словен. dŕstev, польск. drzą-stwo, чеш. drst 'мусор' - из праслав. *dresva/*drьsva (это слово, обескураживающее неустойчивостью своих вариантов, например, русск. диал. гверстá, хверстъ, грествá, жерствá, жерста, сербохорв. зврст, было признано неясным у Фасмера, ср. и вторичные созвучия с явно звукоподражательными, в свою очередь, литов. gar̃gždas 'крупный песок, гравий', žvir̃gždas то же; по этим соображениям оно не было в свое время включено в Этимологический словарь славянских языков, что, впрочем можно сейчас пересмотреть в пользу вывода о древности особого праслав. *dresva - не из и.-е. *der- 'драть', а из и.-е. *dhre-s- в названиях осадка, осадочных пород ср. [58: dher-, dherə-]). В итоге мы получаем немаловажную культурно-историческую изоглоссу (изолексу), связывающую германский, славянский и латинский на уровне индоевропейских диалектов: *dhrōs- (Druse/Drüse) 'комочкообразная порода; животная железа' - *dhres- (дресва) 'осадочная, крупнозернистая порода' - *dhersom (ferrum 'железо' <) 'комочкообразная порода'. Это сближение приоткрывает средствами языкознания завесу над предысторией европейской черной металлургии, каковой для ряда индоевропейских племен древней Европы была эпоха болотного железняка в районах, где, видимо, были привычны и болота, и луговые пространства (можно при этом вспомнить нашу латинско-славянскую параллель pal-ud ~ *pola voda).
Во всяком случае, не более предпочтительно (особенно в свете констатаций, выше, что железо, судя и по его разным старым обозначениям, - не "цветной" металл) спорное толкование Георгиева, который в свое время предполагал в лат. ferrum первоначальное цветообозначение *ghwel-ro-m- 'желтоватое' [59].
Собственно говоря, для наших целей (этимология слова железо) не так важен дальнейший словообразовательный анализ *žel-ěz-o, сколько отношение слов железо и железá и способы выражения мотивации одного из этих слов другим. Средствами выражения мотивации железá → железо послужили (кроме семантической деривации, см. о ней выше) вокализм и акцентология. Оба слова скорее имитируют восточнославянское полногласие, причем железá и его соответствия - в большей степени (церк.-слав. жлѣза 'glandula', русск. диал. залозá, золозá, укр. залóза, белорусск. залоза, чеш. žláza, слвц. žlaza, болг. жлезá, сербохорв. žlijèzda, словен. žleza; в стороне остаются редукционные варианты - польск. zołza, в.-луж., н.-луж. žalza, укладывающиеся в характеристику исходной краткости, см. ниже), чем продолжения праслав. *zelězo, где "полногласие" представлено повсюду. Но важно другое: слово железа последовательно обнаруживает более архаичный - краткий вокализм корня, т.е. праслав. *zĕ-l(ĕ)zā, с закономерным старым наконечным ударением в русск. железá, ср. сербохорв. žlijèzda [60], с правильным переносом ударения с краткого или циркумфлектированного (вин. пад. жéлезу), слога на акутовый (исконно долгий слог окончания). В слове желéзо мы
128
![]()
видим постоянное ударение на корне, совпадающее с долготой гласного (*želězo), что можно трактовать как акутовую долготу - продление в производном слове. Отношения *želězo < *žel(e)za напоминают при этом известный пример ворóна (акутовая долгота в производном *vṓrnā) ← вóрон (циркумфлекс *vor̃nъ), при имеющихся отличиях в деталях (в ворона: ворон представлена чистая формула tort). Важно главное: долгота ě в *želězo инновационна (об этом догадывались и раньше, это видно и по вокализму балтийских соответствий), эта долгота носит характер деривационного продления е → ě (на этот счет ясность отсутствовала, как и насчет родства железо: железá). Дифтонгическое происхождение ě в *želězo исключается. Балтийские формы представляют последовательно краткий вокализм корня - в вариантах *gelž- и *gelež-. Весьма любопытно, что отношения между "железой" и "железом" выражены в балтийском совсем не так, как в славянском, а весьма своеобразно: на производную суффиксальную форму *gelezōn- (литов. gẽlezuonys, geležūnės) перенесено непроизводное (исходное) значение 'железá, желвак', а за непроизводной, исходной формой *gel(e)ž- (литов. geležîs, диалекта. gelžìs) закреплено производное, инновационное значение 'железо', т.е. в духе нередко встречаемой нами в старых производных автономии (разнонаправленности, анизоморфизма) деривации словообразовательной и деривации семантической.
КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ КУЛЬТУРНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ АРЕАЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
Не вдаваясь здесь в обсуждение большого круга вопросов, связанных с известной новой гипотезой о ближневосточной прародине индоевропейцев, все же считаем очевидным, что в основе ее лежит серия преувеличений вроде только что разобранного нами критически в случае с железом, который при более детальном лингвистическом анализе, напротив, заставляет нас вернуться в древнюю индоевропейскую Европу, жившую и развивавшуюся в своих самобытных условиях.
Таким образом, ни Восток (вопреки Гимбутас), ни Средиземноморье (с этим как будто согласны все), ни Север Европы (древний климат!) не подходили для обитания древних индоевропейских племен. Так называемая Западная Европа была освоена индоевропейцами тоже вторично, причем отчасти - уже на глазах письменной истории (Британские острова - сначала кельтами, потом германцами, не считая других завоевателей). Остается - Центральная Европа. Напомним, что на ней же мы остановились и в поисках ареала древнейших славян. Мы возвращаемся, таким образом, к идее концентричности древнейшего славянского и индоевропейского ареалов - идее, которая не раз уже возникала в ходе нашей работы и которая, кажется, наиболее адекватно соотносится с лингвистической аргументацией
129
![]()
(например, с проблемой кентум - сатэм, которую, вероятно, имеет смысл решать в понимании центрального положения наиболее продвинутого - сатэмного состояния, а не периферийного - юго-восточноевропейского генезиса языков-сатэм, как до сих пор еще представляют дело некоторые авторы, например, [61, с. 411], и, разумеется не игнорируя эту проблему вообще, как считают иногда возможным делать другие).
Однако при этом важно видеть не одно лишь обострение споров и умножение проблем, но и перспективы сближений и общих решений, разумные выходы из трудных ситуаций, созданных более слабыми или проблематичными сторонами концепций. Так, Т. Лер-Сплавинскому, М. Рудницкому (и всей польской автохтонистской школе), а также между прочим, нашим A.A. Шахматову и А.И. Соболевскому славяне виделись с древнейших (догерманских) времен на Балтийском море. Сейчас языкознание способно противопоставить этим воззрениям ряд аргументов. О вторичном освоении Висло-Одерского бассейна с юга на север говорит наличие здесь ряда индоевропейских гидронимов без четкой славянской языковой характеристики, с чем, в сущности, согласны и польские автохтонисты, во всяком случае - некоторые из них (например, Роспонд). Выдвигается тем самым тезис о том, что славяне здесь не первые индоевропейцы (см. об этом также выше). В связи с этим может представить интерес один культурно-языковой ареал, полученный на основе синтеза согласных свидетельств археологии, письменной истории и языкознания. Ареал этот также простирается на более древнем Юге, в основном не захватывая Висло-Одерский бассейн. Он касается типов жилищ и их номенклатуры. Вопрос заслуживает внимания, поскольку типы жилищ обычно стойко сохраняют свою традиционность и могут служить весьма характерными отличиями этноса.
Например, традиционное праславянское жилище - прямоугольная (полу)землянка с печью в углу наглядным образом отличает также восточных славян на Верхнем Днепре от соседних балтов с их столбовыми наземными жилищами (ср. [62]). Соответствующий пример почерпнут из 12-го выпуска Этимологического словаря славянских языков, где под реконструированной праславянской формой *kǫtja объединено характерное название дома или помещения с печью, прослеживаемое в языках южных и отчасти восточных славян, ср. прежде всего болг. къща, сербохорв. кућа и др. Этимологически и словообразовательно праслав. *kǫtja интерпретируется как первоначальное прилагательное женского рода, производное с суф. -j- от *kǫtъ '(внутренний) угол'; допустимо думать, что это прилагательное было устойчиво согласовано со словом *pekt'ь 'печь', т.е. * kǫtja pekt'ь значило 'угловая печь, печь в углу'. В связи с широко представленным значением отдельных славянских продолжений *kǫtja - 'дом' и 'помещение с печью' можно реконструировать более раннее (промежуточное) значение: 'прямоугольное помещение с печью
130
![]()
в углу' (известные нам особенности происхождения, состава и семантики слова *kǫtja не могли относиться, например, к жилищу овальной или круглой формы). Древний ареал слова *kǫtja, практически неизвестного западным славянам, близко соответствует археологически устанавливаемому ареалу прямоугольных землянок с очагом или печью в углу, типичному жилью древних славян, который, в свою очередь, накладывается на область примерного распространения склавен = славян по Иордану (VI в.): от Среднего Подунавья до Днестра и на север до Вислы. Ни типичное жилище древних славян, ни соответствующее ему название практически не представлены на позднейшей западнославянской (по Иордану - венедской) территории на Одере и Висле. Славяне, к этому времени, по-видимому, освоившие также и этот регион, приспосабливались к новым видам жилищ, как приспособились они вторично и к бывшей здесь до них индоевропейской гидронимии и прочим новым условиям. Это еще один довод в пользу вторичной славянизации данного пространства на Севере, которое польским ученым-автохтонистам видится, наоборот, как извечная праславянская родина на Одере и Висле.
К сожалению, в основном повторение на удивление старых истин мы находим в новой, адресованной широкому читателю и, надо сказать, роскошно изданной книге компетентного чешского археолога Зденека Вани - "Мир древних славян" [63], где встречаем на каждом шагу утверждения, с которыми неизменно полемизируем, а именно - что "до этногенеза славян дело дошло гораздо позднее, чем у кельтов и германцев", что их этногенез протекал "на отдаленных окраинах Восточной Европы", что славяне выделились из первоначального индоевропейского единства (?) последними и поэтому они - "самая молодая" индоевропейская ветвь. З. Ваня примыкает также к висло-одерской теории прародины славян в общем - без новых аргументов, потому что утверждение о "чисто славянских названиях" между Одером и Вислой не является ни новым, ни верным (полным) аргументом. Говоря о пражском типе славянской керамики, "находки которого покрывают южную часть нынешней Польши и ГДР и всю чехословацкую территорию с ответвлениями в австрийское Подунавье", автор делает вывод:
"Из этого только южную часть Польши и, может быть, восточную оконечность Словакии можно относить к первоначальному исходному ареалу славян; заселение остальной территории - это уже следствие славянской экспансии" [63, с. 22].
Однако "пражская" керамика в Подунавье - не изолированный феномен, она территориально согласуется с распространением типично славянских прямоугольных земляных жилищ с печью в углу и с распространением склавен по Иордану (на север - до Вислы!). Совокупность этих явлений не получила объяснения в книге З. Вани. Факт позднего появления единообразной пражской (пражско-корчакской) керамики у славян - в VI в. н.э. - автор толкует очень упрощенно, видя в этом доказательство поздней датировки
131
![]()
славянского этногенеза - IV-V вв., гуннское время! Он забывает при этом, что наука давно располагает фактами славяно-иранских и славяно-кельтских языковых отношений, которые нельзя датировать позднее середины - второй половины I тыс. до н.э. Славянский этнос и язык тогда уже достоверно существовали. В широком распространении славянской керамики единообразного пражского типа в VI в. н.э. надо видеть только то, что есть, - распространение популярной моды в подходящих условиях, но уж, конечно, не символ завершения этногенеза славян. Некоторые высказывают мнение, что пражская культура VI в. н.э. - это свидетельство вторичного возрождения славянского единства [64], но и здесь содержится сильное преувеличение и, в конечном счете, неточность.
Во всяком случае именно в Подунавье и чешских землях древние славяне смешивались не только с более поздними германцами, но и с более древним неславянским темноволосым населением, видимо, кельтского происхождения, как это выявляют чехословацкие археологи в Средней Чехии (Podřípsko). И, хотя интерпретации все еще расходятся, лингвистическое исследование уже считается с фактом наличия относительно более развитой ранней металлургической терминологии именно в славянских языках дунайского ареала, например, в чешском, с соответствиями в кельтском и латинском (см. [65]).
Однако мне не хотелось бы быть понятым только в том смысле, что единственное, что меня заботит, - это одолеть во что бы то ни стало висло-одерскую концепцию прародины славян. Продолжая считать ее крайней концепцией, я все же думаю, что отметать начисто точку зрения оппонентов было бы и в данном вопросе едва ли плодотворно и полезно для науки. Поэтому целесообразно внимательнее присмотреться к тому, что не только не вызывает противоречий, но и может быть плодотворно развито: это южный фланг висло-одерского ареала, который приблизительно совпадает с северной периферией среднедунайского славянского ареала по нашей концепции. Уже на киевском съезде славистов в 1983 г. в дискуссии было высказано мнение, что наиболее проблематичен - в понимании сторонников висло-одерской теории - как раз южный фланг этого ареала, т.е. он как бы открыт и допускает ту или иную коррекцию. Надеюсь, я не очень удивлю читателя, если предложу одну такую кардинальную коррекцию в духе всего того, что уже высказано мной по этногенезу, а также в итоге длительного изучения трудов польской автохтонистской школы: примирение висло-одерской и дунайской теорий древнейшего славянского ареала возможно, если гипотетический висло-одерский праславянский ареал как бы "осадить" по широтной шкале к Югу, не меняя его меридиональных параметров, которые у него фактически оказываются близкими к аналогичным параметрам дунайского ареала славян, разрабатываемого в настоящей работе. Современная висло-одерская концепция, как
132
![]()
она есть, фиксирует, скорее всего, не извечную прародину славян, а их раннюю северную миграцию в духе уже рассмотренной нами традиции общеевропейской подвижки Север Юг. Не следует особенно настаивать (как это делают отдельные сторонники висло-одерской теории) на том, что висло-одерская локализация праславян якобы продиктована ранними германо-славянскими связями. И эти, и другие контакты логично мыслить также на более южных широтах. Особенно же это относится к кельтам, которые далеко на север вообще не проникали. Кельтско-славянские контакты предполагала и висло-одерская теория (Лер-Сплавинский), но это оставалось слабым местом данной теории, по которой эти контакты в географическом отношении как бы повисали в воздухе, а довольствоваться их локализацией лишь в Южной Польше, периферийной для кельтской экспансии (ср. и "Повесть временных лет" о волохах), недостаточно.
Продолжается, разумеется, диалог и с другими концепциями древнего славянского ареала, например, с предкарпатской теорией Удольфа, который в новых своих выступлениях (см. [66]) выдвигает попытки исторического объяснения единообразия исходного ономастического ландшафта и славянской преемственности в нем. Однако археологи, например, на основании данных о влиянии позднезарубинецких, Черняховских и собственно славянских древностей VI-VII вв., говорят "о заселении Северо-Восточных Карпат на протяжении I тыс. н.э. выходцами из восточнославянских земель" [67], что тоже скорее свидетельствует против теории Удольфа.
Трудный путь к воссозданию этнолингвистической картины древнего славянства складывается, как это легко понять, далеко не из одних твердых находок и обобщений достигнутого, но из вереницы догадок, которыми обрастают любые поиски во времени и пространстве; они тревожат и смущают исследователя, а порой даже кажутся незрелыми и зыбкими. Но пройти мимо не задумываясь, быть может, равносильно добровольному отказу от разгадки новой тайны, новой информации не только и не столько о прародине, но и о масштабах мысленной ойкумены древних и древнейших славян, о которой прежде и не подозревали, как о том проблеске возможной синонимичности древнеиндийского названия Молочного моря 'Северного Ледовитого океана' (Ḳsīra-samudra-, Ḳsīradhi-, Ḳsīr(amah)ārnava-, Ḳsīravāri, Ḳsīrasāgara-, Ḳsīrasindhu-, Ḳsīrābdhi, Ḳsīrāmbudhi [см. 68-70]) и названия Amalchius Oceanus 'mare congelatum, замерзшее море' в "Естественной истории" Плиния (Plin. NHIV, 95). Плиний, опираясь в своих сведениях на греческую традицию и записи, не дает ясного представления о локализации и идентификации, и отождествление Amalchius Oceanus = Morimarusa (см. [71]; относительно второго названия и его принадлежности мы
133
![]()
неоднократно писали выше) может вызвать сомнения в свете других данных. Не отражено ли в форме Amalchius искаженное в греческой передаче праслав. *melčь, * melčьnъ или даже предпраславянское *mălkjă = 'молочный'? (близкое название молока известно еще в германском и тохарском, но словообразовательная модель прилагательного с суф. -j- все-таки, скорее всего славянская [3]. Значит ли это, что славяне древности знали самый северный океан планеты или до них по крайней мере доходили глухие предания о нем? Кому они обязаны этим знанием и какую роль играла при этом древнеиндийская традиция (в которой удивительно много сведений о Крайнем Севере и Молочном море "Северном Ледовитом океане" [72]).
ЛИТЕРАТУРА
42. Birkhan Н. Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit. Der Aussagewert von Wörtern und Sachen für die frühesten keltisch-germanischen Kulturbeziehungen. Wien, 1970. S. 141, примеч. 141.
43. Рыбаков Б А. Ремесло Древней Руси. М., 1948.
44. Schuster-Šewc Н. Historisch-etymologisches Wörterbuch der oberund niedersorbischen Sprache. Bautzen, 1985. Hf. 16.
45. Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1957. S. 272-273.
46. Kilian L. Zum Ursprung der Indogermanen, Forschungen aus Linguistik, Prähistorie und Anthropologie. Bonn, 1983. S. 34.
47. Scherer А. - Die Urheimat der Indogermanen / Hrsg. von A. Scherer. Darmstadt, 1968. S. 296.
48. Иванов Вяч.Вс. История славянских и балканских названий металлов. М., 1983.
49. Bukowski Z. Celtowie // Mały słownik kultury dawnych Słowian / Pod red. L. Leciejewicza. W-wa, 1972. S. 62.
50. Mareš F.V. Die Metalle bei den alten Slaven im Lichte des Wortschatzes // RS. 1977. T. XXXVIII. Cz. 1. S. 31 и сл.
51. Трубачев О.Н. Серебро // Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978.
52. Mallory J.P., Huld М.Е. Proto-Indo-European "Silver" II KZ. 1984. 97.
53. Leeming H. A Slavonic metal-name // RS. 1978. Т. XXXIX. Cz. 1. S. 7 и сл.
54. Трубачев О.Н. Славянские этимологии 1-7 // Вопросы славянского языкознания. М., 1957. II. С. 29 и сл.
55. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1967. Т. II.
56. Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch / Hrsg. von Hofmann J. B. 4. Aufl. Heidelberg, 1965. Bd. 1. S. 485-486.
57. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Spache. 20. Aufl. Berlin, 1967. S. 145.
58. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959. Bd. 1. S. 251.
3. Ср. и ту сложную семантическую связь, которая установима при этом, с одной стороны, с названием молока - праслав. *melko и, с другой стороны, с названием замерзающего водоема, ср. сербохорв. млâква 'лужа, которая замерзает зимой' (см. [55, с. 645-646]).
134
![]()
59. Georgiev V. Lat. ferrum, griech. χαλκός, abg. želězo und Verwandtes // KZ. 1936. LXIII. S. 250 и сл.
60. Kiparsky V. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962. S. 205.
61. Schmid W.P. Griechenland und Alteuropa im Blickfeld des Sprachhistorikers. Θεσσαλονίκη, 1983 (отд. отт.). С. 411.
62. Третьяков П.И. По следам древних славянских племен. Д., 1982. С. 89.
63. Váňa Z. Svět dávných Slovanů. Artia. Praha, 1983.
64. Півторак Т.П. Праслов'янська епоха у світі сучасних наукових даних // Мовознавство. 1982. № 2. С. 41.
65. Němec I. Nejstarší české kovářské termíny // Listy filologické. 1984. 107. S. 167 и сл.
66. Udolph J. Kritisches und Antikritisches zur Bedeutung slavischer Gewässernamen für die Ethnogenese der Slaven // XV Internationaler Kongreß für Namenforschung. Resümees der Vorträge und Mitteilungen. Leipzig, 1984. S. 197.
67. Балагури Э.А. Этно-культурная карта Северо-Восточных Карпат на рубеже нашей эры // Rapports du IIIe Congrès International d'archéologie slave". T. 2. Bratislava, 1980. S. 39.
68. Böhtlingk O. Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung. St. Petersburg, 1881. Т. II. S. 127.
69. Monier-Williams MA. Sanskrit-English Dictionary. New ed. Oxford, 1964. P. 329, 330.
70. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. М., С. 182.
71. Kowalewicz Н. Amalchijskie Morze // Słownik starożytności słowiańskich . I. Wrocław etc., 1961. S. 21.
72. Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. М., 1983, passim.
Итак, как это явствует из предыдущего, суть нашей концепции в том, что славяне уже в очень раннюю эпоху должны были быть знакомы со среднедунайским регионом и что, следовательно, необходимо предполагать их раннее пребывание в непосредственной близости к Дунаю в Центральной Европе. При этом выдвигаются принципиальные вопросы теории, важные отнюдь не только для языкознания, но, возможно, в еще большей степени - для теории этноса и этнической истории, поэтому едва ли будет лишним напомнить их здесь еще раз: это подвижность праславян относительно исходных мест обитания, чересполосица мест обитания различных неславянских этнических групп и самих славян, в том числе - в самом центре праславянской территории и т.д.
Сознание неразрывной связи задач языкознания и истории, а также археологии при решении общих проблем позволяет нам, исходя из средств и возможностей нашей науки, говорить об этногенезе,
135
![]()
а, скажем, не о глоттогенезе, так как последнее означало бы искусственное отграничение судеб языка от судеб его носителей.
Что побудило нас говорить о древнейших местах обитания праславян в Среднем Подунавье? Это в первую очередь многолетние исследования по славянско-индоевропейским лексическим (этимологическим) изоглоссам, определяемым в целом как двусторонние языковые отношения, а также выявление древних заимствований. Мы пришли к такому убеждению лишь постепенно, в процессе подготовки Этимологического словаря славянских языков (Праславянский лексический фонд), двадцать восемь выпусков которого вышли в свет с 1974 г. На базе этих исследований составилось представление, с одной стороны, о сложности (неоднозначности) балто-славянских отношений, а с другой стороны - о важных взаимосвязях изоглосс праславянского и западных индоевропейских языков. Отношения древнейших славян к древнеиталийским племенам до миграции (ухода) последних на Апеннинский полуостров, отношения древней славянской металлургической терминологии к соответственной лексике не только латинского, но и германского, и кельтского в рамках предположенного нами центральноевропейского культурного района - таковы были общие культурные и языковые предпосылки, предшествовавшие по времени известным заимствованиям из германского и кельтского в праславянский. Впрочем, что касается мест, где происходили эти последние заимствования, то имеются основания также предположить, что они осуществлялись славянами значительно южнее и западнее, чем это обычно представляли себе до сих пор, то есть (по нашему мнению) в Паннонии и в придунайских землях.
Сюда же примыкает такое существенное в плане нашей концепции положение, как самобытный генезис праславянского в качестве индоевропейского диалекта (или группы диалектов) и в принципе - вероятность более ранней датировки его собственного существования (хотя, разумеется, при этом говорить о какой-то "датировке" можно только cum grano salis и следовательно - без претензий на абсолютную хронологизацию). Что же касается оригинальности и самобытности славянского языкового типа, то это положение приходится защищать - не по причине слабости самой концепции, но, как увидим далее, из-за непрекращающихся тенденций всячески оспорить и подвергнуть сомнению эту самостоятельность славянского. Например, А. Эрхарт отдает предпочтение концепции, которая производит праславянский "из протобалтийского диалектного континуума", а праславянские языковые отличия объясняет контактами с иранским [1].
Акцентируя западные контакты праславянского, мы не упускаем из виду также его восточные контакты, подразумевая под последними ранние, и возможно, неоднократные миграции центральноевропейских этнических группировок, населявших Среднее Подунавье,
136
![]()
на Север и Северо-Восток, на Украину. Это подтверждают как археологические материалы, так и результаты лингвистических (этимологических) исследований применительно к славянско-иранским и славянско-индоарийским отношениям скифского времени. На основании этих фактов мы говорим о достаточно раннем расселении славян в Поднепровье, хотя споры на этот счет продолжаются. В связи с этим существуют, например, разные мнения о том, является ли название города Киева славянским по происхождению. Но об этом специально - ниже.
"Возврат Трубачева к теории Шафарика" о дунайской прародине славян (примерно так формулируют это чешские и словацкие коллеги) имеет свои истоки в успехах лингвистической теории, индоевропеистики и этимологии. Здесь уместно упомянуть о сатэмном характере славянского, который в этой своей фонетической характеристике продвинулся дальше по сравнению с кентумными языками и их более архаическим состоянием. В соответствии с этим сам процесс сатэмизации рационально мыслить где-то вблизи инновационного центра [2], а не на периферии предполагаемого индоевропейского языкового ареала, как это практикуется, вопреки успехам лингвистической географии, в самых новых работах, в которых сатэмные языки ассоциируются по-прежнему главным образом с восточной и юго-восточной индоевропейской периферией. Далее, в соответствии с принципиальной важностью положения, уже разбиравшегося нами, следует выделить возможности социо- и этнолингвистики, которые позволяют нам интерпретировать относительно позднее появление этнонима *slověne как естественный феномен - я имею в виду известное молчание классических греческих и римских источников о славянах, над которым в свое время бился Шафарик, и многое другое. Нельзя попутно не отметить того обстоятельства, что, хотя этому нашему славному предшественнику явно недоставало многих современных сведений и критериев, имеющихся в нашем распоряжении сейчас, по сей день дело выглядит порой так, что и сейчас отстаивать эти идеи не намного легче, чем в эпоху Шафарика. Все это отнюдь не по причине слабости положительной аргументации, суть дела объясняется скорее склонностью человеческого ума видеть все в традиционном свете.
Таким образом, в предыдущих главах настоящей книги я предпринял попытку развить и подкрепить дальнейшими аргументами (в своей основе - шафариковское) положение об очень раннем начале славянства в Европе, чему послужили поиски специальных этнолингвистических доказательств реального характера продолжительности древней (доэтнонимической) стадии существования этноса, когда последний обходился элементарной самоидентификацией типа 'мы', 'наши', 'свои' и стал называться славянами далеко не сразу. Вот причина, почему этнос остался, так сказать, "не замеченным" греческими и римскими авторами (хотя едва ли можно с уверенностью
137
![]()
поручиться, что под названием паннонцев в сочинениях античной литературы первых веков нашей эры не скрываются именно славяне). Мой западногерманский оппонент Ю. Удольф все это прочел и, тем не менее, остался при своем убеждении, как это явствует из нижеследующей цитаты:
"...Если бы славяне действительно уже в доисторическую эпоху населяли крупную область к северу или (согласно О.Н. Трубачеву в последнее время -) к югу от Карпат, нам должно было бы быть известно об этом из античных источников" [14].
Не смахивает ли научный диалог иногда, к сожалению, на разговор двоих, каждый из которых слышит только самого себя?
Идея изначального диалектного членения праславянского постепенно прокладывает себе дорогу в современной науке, но ученым оказывается нелегко привыкнуть к этой идее, и причина вовсе не в недостатке фактов (таких фактов имеется большое количество). Причина в том, что взамен приходится расставаться с привычными идеями, на которых выучились целые поколения исследователей. Например, югославская лингвистка В. Цветко-Орешник значительную часть своей диссертации посвятила моим исследованиям славяно-иранских лексических отношений, причем она отнеслась с одобрением к феномену, обозначенному мной как polono-iranica (имеются в виду такие явления, когда лексические иранизмы обладают явно праславянским характером, но концентрируются при этом главным образом в польском языке). И все же она, со своей стороны, оставила открытым главный вопрос:
"Возможно ли для эпохи, когда были осуществлены эти заимствования (в последнем случае явно еще в древнеиранскую эпоху), считаться со столь сильной или столь географически четкой дифференциацией праславянского?" [4].
Тем не менее ясно одно - методологическое и, даже можно сказать, интердисциплинарное значение этого взгляда на древнейшее членение языка, а возможно - и культуры. Правда, на этом пути наши надежды на однозначно археологические параллели убывают, но их никогда не было много, а тем более - сегодня, когда расчлененности внутриязыковой реконструкции потенциально противостоит внутренняя (собственная) расчлененность картины, которую рисует археология. То обстоятельство, что былой постулат первоначального единства (языка и культуры) воспринимается как все более сомнительный с точки зрения обеих дисциплин, сам по себе может рассматриваться как возможный источник положительной информации. Неоднозначные корреспонденции языкознания и истории культуры заслуживают нашего особого внимания.
Возвращаясь к нашей основной теме - Среднее Подунавье как область древнего обитания славян, укажем на то, что эта теория иногда характеризуется как "вызов" археологии, ср.: "...это вызов, на который археология должна будет ответить - положительно или
138
![]()
отрицательно" [5]. Собственно говоря, в любой новой работе, новой концепции можно обнаружить нечто напоминающее вызов, хотя лично я меньше всего здесь думал о том, чтобы адресовать вызов археологии. В конце концов, это надо было бы рассматривать скорее как вызов языкознанию... Но и это не самое важное. Насколько я знаю, существуют весьма взвешенные и заинтересованные суждения о моей дунайской концепции таких лингвистов, которые сами занимаются праславянским и которые, кстати сказать, многое видят иначе [6]. Самым важным мне представляется то, что дух перемен уже проник во многие - прежде тихие - заводи науки о праславянском языке, и это есть самый настоятельный вызов нам всем - вызов науки. О праславянских диалектах заговорили. Н.И. Толстой извлек из своей богатой библиотеки малоизвестную карту праславянских диалектов Д.П. Джуровича 1913 г. Достоянием общественности это сделалось, заметим, не тогда, в конце 50-х годов, когда этот раритет был обнаружен Н.И. Толстым на книжном рынке, но лишь в нынешние, 80-е годы [7]. В своей статье "Из истории славистики" он отметил, между прочим, тот факт, что Джурович, как и спустя полвека после него Трубачев в своей схеме праславянских диалектов 1963 г., говорят о древнем соседстве лужицких сербов и предков восточных славян. В действительности же сейчас можно было бы назвать еще больше лингвистических пространственных схем и моделей праславянских диалектов. Так, кроме моделей Фурдаля и Шевелева, приводимых также Толстым и основанных на сравнительной фонетике, можно еще упомянуть "схему возможного диалектного членения позднепраславянского накануне великой миграции славянских племен" X. Шустер-Шевца 1977 г. [8].
Поскольку дунайская гипотеза действительно означала вызов традиционным теориям славянской прародины к северу от Карпат, она, естественно, встретила со стороны представителей этих теорий споры и возражения. По словам моего уже упоминавшегося выше оппонента Ю. Удольфа,
"О. Кронштайнер и О.Н. Трубачев уже при беглом осмотре гидронимов древней Паннонии могли бы увидеть, что они при сравнении с современными формами помогают обнаружить, что последние были славянизированы довольно поздно; так, например, название реки Enns не обнаруживает ничего похожего на развитие нормальной славянской формы *Onьsa, а в случае с Mur/Mura, названием одной из крупнейших рек этого региона, обращает на себя внимание отсутствие славянского развития *-o- > -a-" [9].
Это возражение мы не оставим без ответа. Начнем с того, что река Эннс, впадающая в Дунай справа к западу от Вены, протекает по территории бывшей римской провинции Норик (Noricum), а не Паннонии. Разумеется также, что в мои намерения не входило отрицать потенциальное соседство славянских названий с неславянскими, какими являются в данном случае гидронимы Enns и также Mur.
139
![]()
Перейдем теперь к Паннонии, точнее говоря - к римской провинции Pannonia prima, локализуемой вокруг озера Балатон и давшей, по всей видимости, названия прочим римским провинциям на восток и на юг от нее, - Pannonia Valeria, Pannonia Savia, Pannonia Secunda. Название исторической области Pannonia давно убедительно объяснено как производное от предполагаемого местного названия * Pannona, иллирийского соответствия названию болота в нескольких индоевропейских языках, ср. прежде всего др.-пруск. pannean 'болото' [10]. Следовательно, на иллирийском языке *Pannona означало примерно 'Болотный город', и, по всей вероятности, этот город был идентичен резиденции славянского князя кирилло-мефодиевских времен - *Блатьнъ градъ, с точным древневерхненемецким семантическим соответствием последнему в Mosa-purc [11]. Если древний главный город страны носил название 'Болотного города' или 'Города на болоте', то нужно предположить, что само озеро Балатон называлось 'Болотом' (сильнее всего заболочены берега его южной части - Малого Балатона, близ которых и находился *Блатьнъ градъ = Mosa-purc = (венг.) Zalavár). Опуская детали (в том числе и довольно любопытные, как напр. то, что в венгерской форме названия озера Balaton отражено не само старое славянское название озера - в качестве последнего скорее употреблялось апеллативное слав. *bolto 'болото', как это подсказывает название города *boltъnъ gordъ - в его праславянском варианте), остановимся на том факте, что название Pannonia, таким образом, первоначально значило 'Страна Болота' (или даже - 'Страна Болотного города'; названия страны по городу - не редкость в древности) и что эта иллирийская номинация нашла непосредственную преемственность в местной старой славянской номинации. Можно ли после этого продолжать говорить о "поздней славянизации" Паннонии? [*]
*. Вполне возможно, что науке все-таки придется возвратиться к старому отождествлению названия озера Балатон у Плиния - lacus Pelsonis - со слав. *pleso (русск. плёсо 'открытая широкая часть течения реки', укр. плéсо, чеш., слвц. pleso 'глубокое место в воде, озере', в Словакии также специально в качестве названия озера, ср. Štrbské pleso и ряд других озер в Татрах), которое, кажется, считается уже настолько преодоленным, что мы, например, не найдем данного сближения у Фасмера s.v. плёсо. Мне представляется возможным допустить здесь следы довольно четкой древней гидрографической комбинаторики в том смысле, что *Bolto и *pleso (последнее отражено Плинием несколько дефектно в виде Pelsonis, вар. Peisonis) обозначили - каждое - не всё озеро, а его разные характерные части, причем слав. *Bolto относилось первоначально к действительно заболоченному Малому Балатону (см. выше), a *Pleso - к основному "плесу" Балатона. Если мы попутно сочтем возможным поставить вопрос о том, что славянская принадлежность имени прибалатонских озериатов, Oseriates, все-таки тоже не может полностью сбрасываться со счетов, то мы получили бы в данном конкретном районе среднедунайского правобережья двухтысячелетней давности топонимический славянский контекст (ландшафт) в виде ансамбля таких несомненно древних славянских Wasserwörter индоевропейского генезиса (*bolto, *pleso, *ozero), комплектность которого удивительна в сложившихся там исторически неблагоприятных условиях.
140
![]()
Мой лейпцигский коллега Э. Айхлер недавно высказался довольно скептически об обсуждаемой здесь дунайскославянской гипотезе: "...по моему мнению, в дунайском регионе отсутствуют типично праславянские гидронимы" [12]. При этом, однако, осталось неясно, что он понимает под "типично праславянскими гидронимами". Если имеются в виду развитые гидронимические модели, то их, возможно, не следует ожидать в такой специфической реликтовой зоне, как Среднее Подунавье, давно переставшее быть славянским. И все же в Подунавье имеются действительно славянские водные названия, которые нужно отнести к простейшему, а значит - древнейшему типу "Wasserwörter" ("водяная лексика", как называл их Краэ, подразумевавший под этим, как известно, древнейшие гидронимы), апеллативы, употребленные как гидронимы: праслав. *struga 'струя', *bъrzъ 'быстрый', *bystrica 'быстрая река', *potokъ 'поток', *sopotъ 'источник, ключ', *toplica 'теплая вода', *kaliga 'тина', *bolto 'болото' и др. Мы наблюдаем здесь подчас полное тождество гидронимов с соответствующими нарицательными словами, что как раз характерно для древней номинации водных объектов. Кроме того, по обе стороны Среднего Дуная вплоть до нашего времени (и притом - с первых веков венгерской письменности) встречаются характерные словообразовательные типы и модели славянской гидронимии: 1) суффиксальные производные (*berzьnica, *lěšьnica, *sčavica, *rěčina, *niža < *nizja, *tьrnava), 2) префиксальные сложения (*perstegъ), 3) двуосновные сложения (*konotopa). Само собой разумеется, что при этом заслуживают нашего внимания также надежные примеры исконно славянских гидронимов с примыкающих моравских и словацких территорий Подунавья, ср. слвц. Poprad < *po-prędъ [13], чеш. (морав.) Punk-va < праслав. *ponikъva, праславянское образование которых едва ли может вызвать сомнения.
Что касается дальнейшего развития концепции упоминавшегося выше праславянского диалектного членения, то, я думаю, соответственно возрастет и интерес исследователей к славянским племенным названиям. Уже сейчас мы можем констатировать заметное обострение этого интереса. Но племенные названия (этнонимы) в состоянии дать нам еще значительную информацию для более глубокого понимания их собственной структуры как со стороны самого языка, так и со стороны внеязыковых данных, их происхождения и дальнейших преобразований. Яркий пример этого - этноним ободритов, его существующие этимологии и действительное положение вещей.
Название ободритов (Abodriti, Obodriti у западных хронистов) обычно объясняют в связи с названием реки Oder, Odra (так думали раньше и мы: *ob-odr-iti 'по обе стороны Одры живущие'). Но дело в том, что как раз наиболее известные - западнославянские - ободриты локализуются в стороне от Одера, а именно - на нижней Эльбе.
141
![]()
Нецелесообразно принимать объяснение, согласно которому форма Obodriti с точки зрения словообразования представляет собой производное от *obodr᾽ane/*obodrěne (955 г.: Abatareni), которое первоначально будто бы значило 'живущие по Одеру' [14], а связь с самим Одером и его названием, в котором скорее следует предполагать вторичное освоение славянами на крайнем Северо-Западе, становится со временем все менее вероятной. Между прочим, франкские анналы начала IX в. знают также ободритов (Abodriti, род.мн. Abodritorum) на Дунае, "по соседству с болгарами в Дакии". Эти последние ободриты получают в анналах эпитет Praedenecenti, единственным возможным и недвусмысленным - латинским - значением которого является 'грабители и убийцы'. Этот эпитет получает там в дальнейшем также разъяснение: Abodriti (в тексте: legatos Abodritorum) qui vulgo Praedenecenti vocantur, что можно понять единственно как 'ободриты, которые на языке народа называются грабителями' (прочие толкования мы здесь опускаем как неудачные, см. о них у И. Бобы [15]). Самое важное при этом - латинское пояснение хрониста - vulgo 'на языке (местного) народонаселения': франкские историографы знали своих беспокойных соседей-славян, из племенного языка которых может вести свое начало этот устрашающий эпитет в роли племенного названия, напоминающий - в том, что касается способа образования и смысла - этноним неукротимых лютичей (то есть 'лютых, свирепых'). Разве не ясно после этого, что родство с названием реки Одер, обычно принимаемое в литературе, - это не более как ученая конструкция ad hoc? Тем более сомнительна связь с названием незначительной речушки Odra в бассейне Дуная (точнее - Савы [16]), не говоря о другой речке с таким же названием в Верхнем Поднепровье. Что касается "языка народа", на котором ободриты понимались как 'грабители', то можно предполагать только связь со славянским глаголом *ob(ъ)derti/*ob(ъ)dьrati 'ободрать, ограбить', имея в виду словообразовательную модель как в укр. нáймит, русск. найми́т 'наемный работник, наемник', что, собственно, предположил уже А. Брюкнер [17]. Любопытно отметить, что этимологическая прозрачность имени ободритов "на языке народа" как бы убывала по мере удаления от Дуная в направлении Балтийского моря, что отвечало бы нашим представлениям о расселении славян.
В общем контексте итоговых наблюдений, которыми мы перемежаем в настоящей главе диалог с критикой, напомним со всей краткостью о важности, которую представляет для систематических исследований по этногенезу интердисциплинарная этногенетическая типология, перед которой ставится задача раскрыть типичную сущность славянской языковой и этнической эволюции, ибо "уникальность" славянского этногенеза была бы равнозначна бездоказательности наших представлений о нем. Об этом говорится у нас специально выше, в главе 5-й, где привлекаются также типологические
142
![]()
славяно-германские аналогии - по вопросу неудовлетворительности "точных" датировок "начала" этноса, далее - в связи с общей сомнительностью реликтов древнего индоевропейско-неиндоевропейского двуязычия в Европе, с общей для ряда древних индоевропейских этносов миграцией сначала на север и вслед затем - на юг. Очевидно, имеет смысл поставить эти наши наблюдения - особенно последнее из них - в связь с древней экспансией в северном направлении археологической культуры воронковидных кубков, явившейся следствием длительного потепления в послеледниковый период. Но и для относительно более поздних эпох существуют красноречивые свидетельства аналогичных передвижений, конкретно - притока южных по происхождению этнических элементов, причем непосредственно со Среднего Дуная в бассейн Одера в эпоху бронзы. Выше уже шла речь о лингвистических аргументах в пользу вторичного освоения германцами Скандинавии с юга. Существенна также вскрытая польским археологом четкая дифференциация западной (одерской) зоны и восточной (вислинской) зоны в том смысле, что упоминавшийся приток населения с Дуная был как раз направлен в одерскую зону в течение бронзовой эпохи [18], - констатация, серьезно затрагивающая польские теории праславянского автохтонизма на Одере и Висле.
Своеобразие подробно рассмотренного в предыдущей главе эпизода культуры железа состоит, пожалуй, именно в самобытности отражения, которое получила в языке (языках), стадия развития материальной культуры, столь общая для больших взаимно контактировавших друг с другом этносов древней Европы - германцев, кельтов, славян: культура болотного железа. Весьма оригинально то, что несмотря на это общее культурное начало, достаточно четко зафиксированное в исходной германской и славянской лексике для (железной) руды и железа как названиях 'красного (вещества)', дальнейшее языковое развитие и языковое отражение привело славянскую номенклатуру железа к отличному результату - созданию "своего" термина для железа. Ссылка на сильное и длительное кельтское культурное влияние, приведшее, как известно, к принятию германцами кельтского названия железа, явно недостаточна, ибо не меньшее влияние кельтов и кельтской металлургии распространялось, как это тоже известно, также и на славян. "Аргумент железа", который мы выше зачислили в ряд небезынтересных славяно-германских аналогий языка и культуры, а еще ранее отнесли в число датирующих показателей балто-славянских отношений, поворачивается к нам, таким образом, еще одной своей не менее яркой стороной - как пример сохранения самобытности языкового выражения в условиях этнической смежности и сильного инокультурного влияния.
Это побуждает нас повторить также уже высказывавшееся ранее наблюдение, что сегодня не имеет смысла оспаривать, а тем более
143
![]()
отрицать принципиальную возможность сосуществования иных, неславянских этносов в пределах области праславянского расселения. Настаивать на противоположном решении, на "чистоте" ареала означало бы предпочесть нереалистичный вариант. Было бы, однако, упрощением и досадной вульгаризацией воспринимать это как призыв сменить прежнее классическое монолитное единство и "чистоту" в понимании праславянского языка, этноса и ареала на некий нарочитый гетерокомпонентный синтез. Я понимаю, что это был бы психологически оправданный, так сказать, "демонстративный" и одновременно - наиболее легкий способ "порвать" с устаревшей схемой единства, но у меня нет ни оснований, ни, следовательно, желания устремляться по этому легкому пути и приглашать читателей сделать то же. Хотя именно таким, пожалуй, вульгарным способом некоторые исследователи уже давно решили "круто покончить", например, с восточнославянским (древнерусским) единством. Лично я придерживаюсь и в этом последнем вопросе да и в вопросе праславянского языкового прошлого иной концепции, как мне представляется, более адекватно отвечающей прежде всего фактическому материалу и положению, - концепции сложного единства, не уклоняющейся от признания древности диалектных различий, но вместе с ними не отменяющей и объемлющего их единства. Это не самый легкий путь. Напротив, на этом пути задачи научной критики делаются труднее. Говоря кратко об этих задачах, укажем, что одна из них - квалифицированно противостоять (порой не очень квалифицированным) искушениям рассматривать славянский (праславянский) почти исключительно как мишень для культурных и языковых влияний. Думаю, что свою "отрезвляющую" роль могли бы выполнить детально разработанные этимологии вроде примера с "железом", к которому мы отнюдь не случайно неоднократно обращались.
На IX Международном съезде славистов в Киеве К. Горалек выступил с докладом, специально посвященным критике теории восточных влияний на праславянский язык [19]. И, действительно, это было очень своевременно, поскольку о влияниях такого рода в последнее время любят писать, и вопрос этот нуждается в критической оценке. В этом отношении особенно повезло славному городу Киеву, в котором, кстати, проходил IX Международный съезд славистов. Тогда торжественно отмечалось 1500-летие Киева. Время тысячу пятьсот лет назад - это уже, собственно говоря, праславянская эпоха, а значит, наша тема, и поэтому наши замечания на этот счет будут вполне уместны, тем более, что "тема Киева", его древних названий в плане общекультурного процесса градообразования у славян уже звучала у нас в начальных главах книги. Там подтверждалась - в согласии с предшествующими славистическими исследованиями - убедительная этимология названия Ζαμβατάς у Константина Багрянородного (середина X в.) как славянского названия *Sǫvodъ, собственно 'стечение вод'. Это толкование имеет надежную
144
![]()
опору в местной микротопонимии бесспорно славянского происхождения. Аналогичных оснований лишена новая попытка прочесть упомянутое Ζαμβατάς как 'суббота, субботний', древнееврейское название праздничного, отдохновенного дня недели, причем сближение это подкрепляется ссылками на еврейско-хазарские влияния [20]. Таким образом, предлагается видеть в этом названии Киева след религиозного иудаистского влияния, и, больше того, тот же характер влияния предполагается в нескольких названиях рек Киевского региона - Субот, Субодъ, Субодъ, Соботъ, Соботь, Суботъ и близкие, которые якобы первоначально значили 'субботние реки, не текущие в субботу'. Правда, мы имели бы в таком случае дело с чем-то из ряда вон выходящим. Речь идет даже не о том, что подобное религиозное влияние в гидронимии вызывает сомнения. Для появления иноязычной гидронимии необходима предпосылка в виде наличия соответствующего этнического пласта населения в продолжении достаточно долгого времени (ср. например тюркоязычные гидронимы Юга Украины); иначе само отложение в гидронимии оказывается под вопросом. Понятно, что для заметного участия в формировании местной гидронимии далеко не достаточен действительный факт существования в Киеве X в. еврейской городской общины (см. об этом ниже). Другой, тоже недавний, опыт неславянской этимологизации коснулся наиболее известного названия этого города - Киев. Автор, по-видимому, счел, что общее правдоподобие появления на Украине за последние примерно полторы тысячи лет тюркских названий дает право Ky-jevū производить от тюркского племенного названия Kūn, что будто бы подкрепляется такими иноязычными именами Киева, как др.-исл. Kœnugarđr и нем. (стар.) Chungard [21]. Между прочим, одной справки в специальной литературе хватило бы для того, чтобы понять, что, например, скандинавское Kœnu-garđr - не что иное, как передача вполне славянского *Kyjanъ (род. мн.) gordъ то есть 'город киян (= людей Кия)' [22]. В украинском до сих пор существует древнерусская форма кия́ни мн., обозначающая киевлян, но исторически продолжающая именно это более древнее значение (и обозначение) 'люди Кия'. Так что отменить старое толкование Киев < Кий не так просто, и для этого мало общих (и справедливых) деклараций о нереальности этнической чистоты славянства.
Только упорство новых атак на славянскую этимологию имени Киев побуждает меня попутно останавливаться на таких известных фактах средневековой общеевропейской графики, как передача звука [j] графемой g, что не дает ни малейшего основания видеть в написаниях Cygow, Kygiouia что-либо еще, кроме всего лишь неловкой записи все тех же живых славянских форм - Киев, Kijów (с отдельными моментами книжной латинизации - исход на -ia). Ни о какой связи с тюрк. kuγu 'лебедь' [21] серьезно думать, разумеется, при
145
![]()
этом нельзя, как нельзя обогащать - на том же уровне - науку о славянском этногенезе, вовлекая в общий поток своих рассуждений о Киеве и тюрок, и ...древних венгров.
Сначала мне этот экскурс в новые этимологии названия Киева казался излишне детальным отвлечением, хотя никогда не лишне вскрывать ошибки, даже мелкие, особенно в этимологии. Но появление некоторых открытий в 80-е годы неожиданным образом внесло дополнительное оживление и в эту проблематику. Специально я занимаюсь этимологическим вопросом "откуду есть пошел Киев" в другом месте, здесь же изложу свои результаты кратко, чтобы они по возможности не выпадали из определяющих для меня рамок праславянской проблематики, куда, как я все больше убеждаюсь, принадлежит и Киев со своим названием, хотя в последнее время - и с высоких научных трибун в том числе - охотно преподносится нечто другое [*]. Лично я мог бы ограничиться утверждением, что с названием Киева и его исконнославянским языковым статусом все более или менее в порядке (уже затронутая выше архаичная форма названия жителей - кияне (укр. кияни) - как бы на уровне описания документирует производство от личного имени Кий, обнаруживая ценную в этом смысле для нас "позицию нейтрализации" противопоставления форм Киев и Кий), и остается пожелать, чтобы остальные проблемы древнейшего праславянского и в целом - славянства были бы ясны в такой же степени. Но ...
Семитолог Н. Голб и алтаист О. Прицак издали и всесторонне прокомментировали важный письменный памятник - написанное около 930 г. на древнееврейском языке рекомендательное письмо еврейской общины Киева [23]. Письмо, характеризуемое как важный документ хазарской эпохи, замечательно содержащимся в нем древнейшим упоминанием Киева, а именно - qāhāl šel qiyyōb 'община Киева' (имеется в виду еврейская община). Историко-лингвистические данные этого письма имеют безусловно выдающееся значение. Прежде всего надо отметить, что древнееврейская форма 1-ой половины X в. практически тождественна нашей нынешней, иными словами, она отражает славянское состояние уже после перехода kū- > ky- и даже - после ky- > ki-. Принципиальную важность этого можно во всей полноте осмыслить, лишь оценив тот факт, что примерно современное данному древнееврейскому письму арабское свидетельство Аль-Истахри Kūyāβa и тем более - позднейшее (XI в.) латинское свидетельство Титмара Мерзебургского - Cuiewa - это не
*. Так, в своем публичном докладе Отделению литературы и языка АН СССР (январь 1989 г.) В.Н. Топоров некритично целиком воспринял и пропагандировал хазарскую версию О. Прицака, совершенно не учитывающую славистических реальностей, как это будет показано ниже. Так сказать, еще одно проявление нынешнего эпигонства на всех эшелонах...
![]()
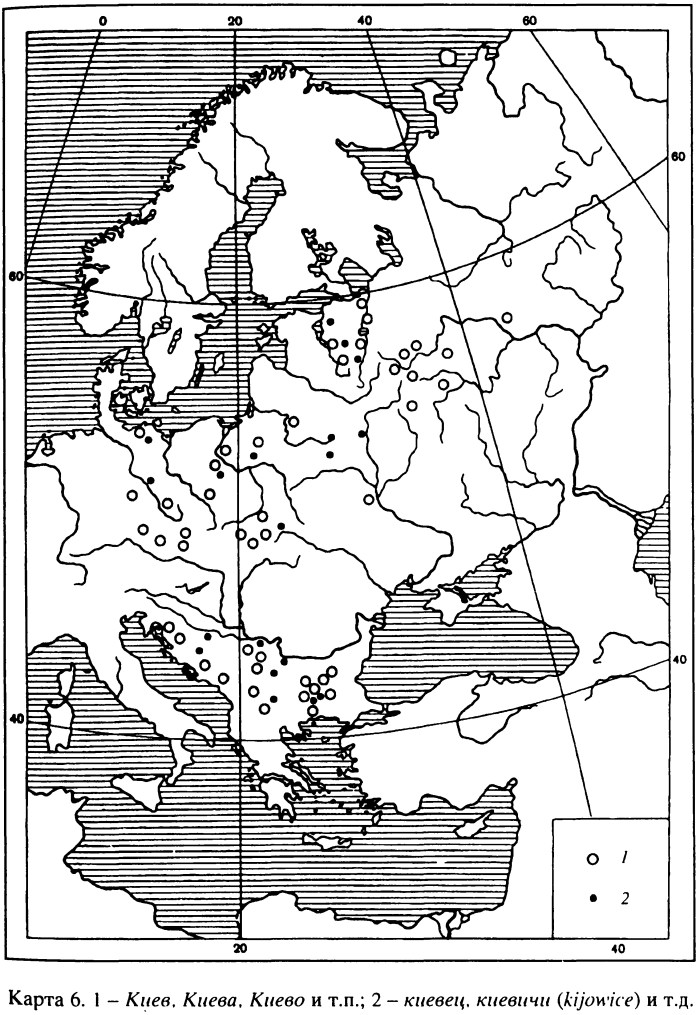
Карта 6. 1 - Киев, Киева, Киево и т.п.; 2 - киевец, киевини (kijowice) и т.д.
147
![]()
более как субституции и притом - приблизительные. Их исключительное якобы значение для этимологии названия Киева после публикации еврейско-хазарского письма X в. резко падает; во всяком случае отныне эти явно вторичные формы - записи на -u- уже не могут с прежней свободой привлекаться для подтверждения якобы родства с польск. kujawa и т.п. и одновременно - для отвода этимологии Kyjevъ < Kyjь, и наоборот - эта последняя усиливается. Курьезно при этом, правда, что издатели, скорее, игнорируют эти показания формы qiyyōb и оперируют (О. Прицак) реконструкцией *Kūyāwa, считая ее иранской, производной от хорезмийского имени Kūya, действительно упоминаемым у Аль-Масуди (точнее - Aḥmad ben Kūya, вазир хазарских войск примерно того же времени). Так, и исходное имя, и даже суф. -awa признаются, следовательно, в названии Киева не славянскими, а восточноиранскими. И нам оставалось бы только согласиться, как это уже и делают, не смущаясь соображениями, которые не позволяют согласиться нам. Хазарское владычество в Киеве, само по себе проблематичное, измеряют по самым щедрым подсчетам временем не более ста лет, при этом Киев был, как полагают, пограничным городом, а граница шла в общем по Днепру (?). Обращает на себя внимание во всем этом странное и почти полное умолчание о сопредельном этническом элементе, прежде всего - обо всех аргументах, аналогиях и признаках влияний, потенциально идущих с Запада, который (NB !) был славянским. Не ставится вопрос и об этнической принадлежности коренного населения Киева, которое не могло быть хазарским, но напротив, упорно говорится о захвате, завоевании (conquest) Киева Игорем Старым. При этом совершается, скорее, подмена обычного для Руси захвата киевского "стола" этническим освоением будто бы чужого славянам Киева, хотя (vice versa) и уже известные нам пограничность Киева для хазар, и Днепр как сама эта граница (так у Голба - Прицака!) вполне говорят непредвзятому исследователю о нехазарской принадлежности населения. Как уже отмечено выше, славянский, славистический фон с Запада для Прицака-интерпретатора в вопросе с Киевом как бы не существует. Так, ни словом не упомянута тождественность племенного названия киевских полян более западному этнониму полян польских. У нас здесь нет возможности развертывать некоторые более специальные польско-полянские аналогии, в том числе такую отнюдь не банальную аналогию, как лексико-семантическая и ономастическая параллель древнерусского имени Кий и польского Piast, оба - 'дубина, колотушка, пест' (думаю, их как бы додинастический и ощутимо некняжеский статус - Piast определенно называется "chlopem" (крестьянином), а спор о том, был Кий князем или перевозчиком, читателям наших летописей известен - доносит до нас еще не оцененную архаику). Но, пожалуй, здесь необходимо сказать об одном славистическом аспекте - лингвогеографическом, который сразу делает почти ненужными все остальные
148
![]()
pro и contra, ибо для этого достаточно отослать читателя к карте (у нас - карта 6: Киев, Киева, Киево), как и делаю - для краткости - я, выражая попутно сожаление, что не все названия удалось на карту нанести с гарантированной точностью, что, впрочем, извинялось объективными трудностями да и скрадывалось масштабами, ведь речь идет буквально обо всем относительно раннем славянском ареале. Ибо - и это важно напомнить тем, кто с легким сердцем связывает Киев днепровский и имя отца Ахмеда бен Куя - ареал Киева - это одновременно и весь славянский ареал (может быть, только за вычетом одной Словении). И те полсотни или больше Киевов, которые рассеяны по славянским землям, включая безвестные или как у нас, "неперспективные", все лежат в основном строго на запад от Днепра. Это и есть ответ - даже не этимологии, а - лингвистической географии, мы лишь беремся его здесь расшифровать, или "декодировать": эпицентр и источник славянских Киевов - не в хазарских степях (градостроительство хазар вообще можно не преувеличивать) и уж, конечно, не в Хорезме; в частности, Киев приднепровский, так сказать, крайний Киев на юго-востоке старого славянского ареала, - тоже "приграничный", причем сразу видно, откуда он занесен - и название в целом, и его корень, и суффикс, и вся эта свобода первоначального употребления - Киев / Киева / Киево, легко приложимая к главному слову (*Киев город, *Киева весь, *Киево село, озеро и т.п.) и показывающая до сих пор с максимально возможной ясностью, что перед нами - славянское прилагательное, описывающее принадлежность славянскому личному имени в духе славянского словообразования. И еще, конечно, многое другое может прочесть специалист в этой дописьменной лингвистической истории Киева, который оказался в "блестящем одиночестве" на днепровском Правобережье (на Украине, в сущности, Киев - один, но - крупный, из всех пятидесяти и более довольно мелких Киевов славянских...), но наш Киев не остановился на этом высоком днепровском берегу, а в числе других путевых примет обозначил древний поход за освоение русского Северо-Запада. Ибо, как это ни парадоксально на слух, именно приднепровский Киев пришел в незапамятные времена в Псковскую и Новгородскую земли, в Верхнее Поволжье, чтобы раствориться там добрым десятком малых - безвестных и "неперспективных" Киевов.
Для выявления характера формирования праславянского, в частности - его словаря и ономастики уже сделано довольно много. Трудно поэтому отделаться от удивления, когда читаешь, как американский славист Г. Лант в своей коротенькой статье, носящей всеобъемлющее название "On Common Slavic", неожиданно заявляет, что ранний праславянский, реконструируемый в этимологических словарях, "абсолютно гипотетичен" (is entirely hypothetical), а протославянский (я сохраняю терминологию автора) - это "чистая абстракция" (a pure abstraction) [24]. Так - одним махом - разделывается
149
![]()
автор с фундаментальными трудами (даже не упоминая, впрочем, их), собравшими и исследовавшими огромный материал. Но, может быть, суровый критик предлагает нам собственную более перспективную программу, скажем - более основательную реконструкцию? Ничего этого нет, что не может не вызвать глубокого нашего разочарования, тем более, что в стране, где писались столь удивившие нас строки, современный уровень сравнительного языкознания бесспорно высок. Автор статьи "On Common Slavic" явно путается в диалектной характеристике праславянского, впадая в противоречия с самим собой: с одной стороны, он воюет - с известным опозданием - против положения о бездиалектности праязыка, а с другой стороны - говорит о каком-то "абсолютном единстве до VIII века". Будучи не удовлетворен гипотезами и абстракциями других исследователей, он предлагает нам несколько странную концепцию славянского этногенеза (если это можно вообще так назвать): "Группа от 500 до 1000 человек, живущих укромно", или несколько таких групп (охотников, скотоводов), плененных кочевыми аварами, сделались из угнетенных земледельцев стражами границ (на Востоке - анты, на Западе - венеды). За период времени с 550-го по 800-й год благодаря их успеху (успеху славян? - О.Т.) и их подвижности во всей Восточной Европе распространилась единая (homogenized) lingua franca. - Таков итог Г. Ланта.
Даже относительно киммерийцев рискованно утверждать, что они никогда не существовали как этнос в собственном смысле и были всего лишь "подвижными кавалерийскими отрядами", хотя о киммерийцах мы не знаем почти ничего, по крайней мере в сравнении с тем неизмеримо большим, что мы знаем о древних славянах, о которых нам тут пишут похлеще, чем о киммерийцах.
ЛИТЕРАТУРА
1. Erhart A. U kolébky slovanských jazyků // Slavia. Ročn. 54. Seš. 4. 1985. S. 337 и сл.
2. Cp. Diebold A.R., Jr. Linguistic ways to prehistory // Proto-Indo-European: the archaeology of a linguistic problem. Studies in honor of M. Gimbutas / Ed. by S. Nacev Skomal and E.C. Polome. Washington, D.C., 1987. P. 44.
3. Udolph J. Kritisches und Antikritisches zur Bedeutung slavischer Gewässernamen für die Ethnogenese der Slaven // ZfslPh XLV. 1985. S. 33 и сл.
4. Cvetko-Orešnik V. Zu neueren iranisch-baltoslawischen Isoglossen-Vorschlägen // Linguistica XXXIII, Ljubljana, 1983, S. 242.
5. Bialeková D. IX medzinárodný zjazd slavistov // Slovenská archeologia. XXXII. 1984. S. 241.
6. Birnbaum H. A typological view of Serbo-Croatian: some preliminary considerations // Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику XXVII-XXVIII. Нови Сад, 1984-1985. С. 79, примеч. 7.
7. Толстой Н.И. Из истории славистики. Опыт карты праславянских диалектов Д.П. Джуровича 1913 г.// Зборник Матице Српске... XXVIIXXVIII. С. 789 и сл.
150
![]()
8. Schuster-Śewc H. Zur Bedeutung des Sorbischen und Slovenischen für die slawische historisch-vergleichende Sprachforschung // Slovansko jezikoslovje. Nahtigalov zbornik ob stoletnici rojstva. Ljubljana, 1977. S. 444.
9. Udolph J. Op. cit. S. 51 (у автора: *-o- > -a-).
10. Vasmer M. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin, 1971. S. 892.
11. Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótara. Budapest, 1978, s.v. Balaton.
12. Eichler E. [Рец. на кн.]: G. Schramm. Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr., Stuttgart, 1981 //ZfSI. 30. S. 298.
13. Ondruš Š. Meno rieki Poprad je slovansko-slovenské // Slovenská reč. 50. 1985. S. 102 и сл.
14. Moszyński L. Z zagadnieii słowotwórstwa prasłowiańskich nazw plemiennych // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa; Poznań, 1980. S. 65 и сл.
15. Boba I. "Abodriti qui vulgo Praedenecenti vocantur" or "Marvani Praedenecenti"? // Palaeobulgarica / Старобългаристика VIII/2, 1984. S. 29 и сл.
16. Dickenmann Е. Studien zur Hydronymie des Savesystems II. Heidelberg, 1966. S. 55.
17. Ср.: Kunstmann H. Zwei Beiträge zur Geschichte der Ostslawen. 1. Der Name der Abodriten // Die Welt der Slaven 26, 1981. S. 399. Точка зрения самого Кунстмана о происхождении этого славянского племенного названия из греч. ἄπατρις, мн. ἀπάτριδες; 'безродные люди' (ср. там же, S. 402 и сл.) сомнительна в высшей степени, как, собственно говоря, и другие "греческие" этимологии, предложенные этим ученым в изобилии для славянских племенных и местных названий. См. еще: Kunstmann Н. Beiträge zur Geschichte der Besiedlung Nordund Mitteldeutschlands mit Balkanslaven (= Slavistische Beiträge, Bd. 217). München, 1987, passim.
18. Bukowski Z. Problematyka osadnicza dorzecza Odry, Wisły i Bugu w II i w I poł. I tysiąclecia p.n.e. jako jeden z elementów poznawczych dia badań nad topogenezą Słowian // Archeologia Polski XXIX. 1984. S. 298.
19. Horálek К. К etnogenezi Slovanů. Příspěvek ke kritice teorie orientálnich vlivů v praslovanštině // Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie. Pr., 1983. S. 169-178.
20. Архипов A.A. Об одном древнем названии Киева // Вопросы русского языкознания. М., 1984. Вып. V. С. 224 и сл.
21. Яйленко В. П. Тюрки, венгры и Киев: к происхождению названия города // Этногенез, ранняя этническая история и культура славян. М., 1985. С. 40 и сл.
22. Schramm G. Die normannischen Namen für Kiev und Novgorod // Russia mediaevalis V. 1. München, 1984. S. 76 и сл.
23. Golb N. and Pritsak O. Khazarian Hebrew documents of the Tenth Century. Corneli university press. Ithaca and London, 1982.
24. Lunt H.G. On Common Slavic // Зборник Матице Српске... XXVII-XXVIII. С. 417 и сл., особенно с. 420-422.
151
![]()
Всем понятен смысл индоевропейской проблемы, центральной и труднейшей проблемы сравнительного языкознания, но сформулировать ее нелегко, и притом каждая эпоха вносит свое в эту формулировку. Образ индоевропейского генеалогического древа с единым стволом и отходящими от него ветвями, очевидно, устарел, хотя на практике служит и по сей день. Более адекватной кажется сумма этногенезов, или образ более или менее близких параллельных стволов, идущих от самой почвы, т.е. подобие куста, а не дерева; этот образ неплохо передает древнюю полидиалектность, но и он не вполне удовлетворителен, поскольку недостаточно выражает то, что придает индоевропейскому характер целого. Это целое не ограничивается корнями, но существует, существовало и в виде объединяющих слоев. Таким образом, мы должны изучать частные этногенезы славян, германцев, балтов, греков, армян, фракийцев, иллирийцев, индоиранцев, анатолийцев и других на индоевропейском фоне, а также эти объединяющие их слои.
Узколингвистический подход к индоевропейской проблеме не выдержал испытания временем; индоевропейцы - это не только имя, глагол, аблаут, синтаксис, это и выраженная в языке культура. Значит, задача не только в том, чтобы сополагать независимые результаты языкознания и археологии, но и в том также, чтобы типологию языкового материала продолжить на типологических аналогиях за пределами языка, т.е. в широкотипологическом подходе к этногенезу и к индоевропейской проблеме. Общеметодологическое значение этих исследований не оставляет сомнений, их результат в перспективе призван стать частью нашего самосознания.
Вместе с тем сложность предмета такова, что сохраняют силу и такие слова, сказанные лингвистом: "Наука - это диалог, и никто из нас не может претендовать на то, что он сказал последнее слово".
Один из недавних обзоров происхождения индоевропейцев по итогам языкознания, археологии и антропологии констатирует, что "истоки индоевропейства еще не уловимы археологически" [1, S. 111]. Следом идут признания вроде того, что археология одна не может разгадать начало прагерманских этнических групп [2, р. 16]. Наконец, при всей вероятности соответствующих этнических перемещений, уже давно высказывалось мнение, что "в археологических материалах, обнаруженных на территории к северу от Альп и относящихся к периоду предполагаемых переселений, нельзя найти следов того, что какие-то племена с этой территории ушли" [3, с. 96], и т.д. и т.п.
Сторонникам исходного индоевропейского "единства" полезно привести мнение об отсутствии в Центральной Европе единой культуры при эпипалеолите (к которому иногда относят зарождение индоевропейских
152
![]()
языков) [1, S. 156]. Напротив, несравненно ближе к нашему времени, в эпоху поздней бронзы, специалисты находят однородность центральноевропейской культуры [4, р. 336]. Мы далеки от мысли прямолинейно связывать явления эволюции языка и культурной эволюции, и все-таки факт появления однородности культуры как поздний, иначе - вторичный - итог подкрепляет естественную мысль о вторичности выработки, например, единообразной "древнеевропейской" гидронимии.
Напрасно некоторым ригористам-языковедам уже одно признание интеграции языков представляется пережитком марризма [5, с. 13]. Напротив, очень здраво и сейчас звучит суждение, что образование "ветвей" индоевропейской языковой семьи шло преимущественно через интеграционные процессы [6, с. 11], как и указание, что образование крупных племен и народов - сравнительно позднее явление [7, S. 135].
Для нас совершенно естественными представляются поэтому следующие слова: "...Любая концепция или метод, которые принимают во внимание и оперируют исключительно одним из этих процессов (конвергенцией или дивергенцией. - О. Т.), то есть, не учитывая также одновременного и/или последующего действия противоположного фактора языкового развития, будут неизбежно узкими и тем самым - нереалистичными. Это, скорее, исказит, чем прояснит действительный диахронический процесс языкового изменения". И дальше, там же: "В действительности языковое изменение характеризуется, конечно, постоянным и тонким взаимодействием (interplay) дивергенции и конвергенции, с преобладанием то одной, то другой из них" [7-а, р. 2, 3]. Поскольку вся эта исследовательская процедура прямо подводит нас к проблеме реконструкции праязыков, приведем оттуда же суждения и о праязыках, тем более что автор этих суждений весьма внимательно учитывает в дальнейшем и наши критические наблюдения, направленные против унитаристских концепций праязыка как "непротиворечивой модели". Итак, [7-а, р. 3]:
"Одна из более серьезных ошибок, все еще совершаемых время от времени в ряде областей генетического языкознания, и, в частности, связанных с восстановлением утраченных праязыков, состоит в воззрениях на исходный праязык как на нечто чисто абстрактное, статичное, само по себе не подверженное изменению ... Но было бы грубой ошибкой не признавать того, что эта теоретически предельная стадия - частный праязык - сама является всего-навсего результатом, или конечным продуктом, более или менее длительного развития этого же самого праязыка".
Конференция по индоевропейской проблеме (Институт археологии АН СССР, 1986 г.) весьма явственно продемонстрировала живучесть многих старых представлений. С одной стороны - очевидное, заметное и для археологов накопление разнородного материала, приурочиваемого к исходной языковой стадии, побуждающее некоторых
153
![]()
задать вопрос "Праязык ли это?"; с другой стороны - продолжающаяся апелляция части лингвистов к "условно унифицированному праязыку", постулирование "исходного единства" этого языка, которое способно лишь усугубить идеально понятые характеристики реконструируемого праязыка и тем самым - лишь затруднить его понимание, состоящее, между прочим, и в продуктивном соотнесении множащихся в ходе исследований потенциальных древних диалектизмов с искомым праязыком. Накопление фактической базы неизбежно влечет за собой потребность в теоретическом переосмыслении. Концепция самого праязыка как продукта развития вменяет идею нивелировки изначальной сложности; считать, что в этом случае "реконструкция теряет смысл", значило бы лишь неоправданно ограничивать возможности реконструкции, у которой в новых условиях возникают новые задачи и новые потенции. Кажется, что новый обмен мнений по индоевропейской проблеме не случайно акцентировал и эту конфронтацию сложного праязыка и более традиционных убеждений в духе "de l'unité à la pluralité" ("слияния допустить невозможно", иначе "невозможно верифицировать" т.п.).
Выступивший на упомянутой конференции по индоевропейской проблеме О.С. Широков поддержал отстаиваемые мной положения о важности и жизненности конвергенции в истории и развитии языков, сославшись при этом на пример южнославянской группы языков, которые достоверно не представляли исходного единства, но лишь вторично, в ходе консолидации, развили ряд "общеюжнославянских" особенностей. Продолжая размышлять над предметом, я вновь вспомнил Югославию, эту страну типологически интереснейших языковых судеб, и подумал, что пример с южнославянской языковой группой можно в этом смысле сузить и заострить, как то предполагает настоящая серьезная дискуссия. Уж если и сегодня находятся лингвисты, которые полагают, что "без генеалогического древа нам не обойтись", я бы предложил им, вместо ответа, югославский тест, иными словами, попросил бы их - целиком в духе их убеждений - возвести ныне существующие сербохорватские диалекты прямо к прасербохорватскому языковому единству. Специалисты свидетельствуют, что это затея не только трудная, но и практически невозможная и ее сводили бы на нет многократные вторичные слияния и влияния прежде самостоятельных древних диалектов, чему причиной - характерные особенно для сербохорватской языковой территории в средние века переселенческие движения (метанастичка кретања), которые приводили и к таким серьезным результатам, как приращение сербохорватского за счет части словенского языка (проблема кайкавских хорватов; об этом и о других подобных явлениях см. сейчас в компактной и легкообозримой форме: П. Ивић. Српски народ и његов језик2. Београд, 1986).
Заслуживает, далее, внимания обозначившаяся склонность ряда исследователей говорить скорее о торговле, обмене, распространении
154
![]()
моды на те или иные произведения культуры, чем о смене населения, миграциях во всяком случае - при неолите и в эпоху бронзы [8, р. 63; 4, р. 16; 9, S. 41]. Дальние пути древности представляются прежде всего торговыми путями, по которым могли следовать и смешанные торгово-военные экспедиции [10, с. 50]. Естественно было бы вследствие этого не преувеличивать масштабы древних завоеваний, вообще - этнических передвижений, ср. упоминавшийся нами выше тезис о древнем "иммобилизме", к которому пришел английский археолог. Для подлинных этнических передвижений, наверное, требовался этнический взрыв вроде того, о котором говорят для эпохи железа [2, р. 4], раньше же имели место скорее малолюдные инфильтрации (так, к инфильтрации первоначально малочисленных этнических групп сводят сейчас, например, индоевропеизацию Малой Азии).
Как свидетельствуют соответствующие исследования, древний климат благоприятствовал раннему освоению индоевропейцами Севера Европы, за который упорно цеплялись некоторые исследователи предыдущих поколений: появление человека на южнобалтийском побережье Польши датируется методами палеоботаники около 5500 лет назад, т.е. серединой IV тыс. до н.э. [11]. Имеются сведения, что послеледниковое заселение районов на север от Судет и Карпат началось лишь с 4000 г. до н.э. [12, с. 60], причем, надо полагать, это была terra nova как для индоевропейцев, так и для неиндоевропейцев, если существование последних здесь вообще реально. Области более древнего заселения лежали южнее, в Центральной Европе. С середины V тыс. до н.э. засвидетельствована добыча золота в Трансильвании [13, р. 6], производившаяся, по-видимому, индоевропейцами, точнее, их частью, что косвенно говорит об их раздельных племенах с раннего времени. Археолог E.H. Черных, выдвинувший несколько сложное понятие Циркумпонтийской металлургической провинции IV—II тыс. до н.э., относит к западному флангу этого региона, населявшегося предположительно индоевропейцами, и золотоносную Трансильванию. Так, к этим золотодобывающим центрам были, видимо, близки германцы времен своей этногенетической консолидации, отнюдь не синонимичной и не синхронной появлению "типичных" (пра)германских формально-фонетических особенностей конца I тыс. до н.э. (см. также ниже), ср. общегерманский характер названия золота - *gulþa- (гот. gulþ, нем. Gold, англ. gold). Очень близко и праславянское название - *zolto (ст.-слав. злато, русск. золото, есть во всех славянских языках). Древняя изоглосса 'золота' захватывает, далее, лишь частично балтийский (лтш. zelts, общебалтийского названия золота нет), возможно, также фракийский. Исконноиндоевропейская этимология этого названия металла по желтому цвету прозрачна до деталей (сюда, кстати, примыкают некоторые другие родственные, но образованные с другим суффиксом, например, индоиранское название золота
155
![]()
*źharanya- < и.-е. диал. *g̑hel-en-i̯o- при *g̑hel-t-o-/*g̑hl̥-t-o- в других упомянутых выше индоевропейских диалектах). Эта лексика не заимствована из языка другой цивилизации, но создана самими индоевропейцами, которые добывали золото в Среднем Подунавье и Трансильвании.
Как интерпретируется пространственный аспект этногенеза, так называемый топогенез? Вероятно, и здесь должен тщательно разрабатываться типологический подход. Имеющие место в исследованиях апелляции к маленькой латинской прародине, Лациуму [14, с. 108, сн. 8], заметно ослабляются тем, что в Италии индоевропейские диалекты оказались в чужих, средиземноморских, отчасти навеянных ближневосточными культурными влияниями (наличие их в Этрурии известно) условиях, в которых пришлые индоевропейцы-италики развивались и дальше, - в условиях города-государства. Думается, что более перспективна лингвистическая концепция пространственного индоевропейского диалектного континуума, кстати, лучше согласующаяся с изложенными выше представлениями о взаимодействии дивергенции и (особенно на ранних стадиях развития) конвергенции.
Положение о сходстве индоевропейской цивилизации и древневосточных цивилизаций [15, т. II, с. 884-885] вызывает различные ответные соображения и прямые сомнения. Археология и лексика свидетельствуют о наличии у индоевропейцев земляночных и малых срубных наземных жилищ, а также об отсутствии храмов, что существенно отличается от ближневосточной модели с ее храмами и храмовыми городами-государствами.
Как и следовало ожидать, четкие элементы ближневосточного устройства находим только у тех индоевропейских и неиндоевропейских обществ, которые оказались далее других углублены в Восточное Средиземноморье, как микенское и минойское бюрократические общества с их централизацией вокруг дворца и храма [16] и этруски с их городами-государствами и другими культурными особенностями, идущими из Малой Азии [17].
Нетрудно заметить уже из предыдущего, правда, крайне сжатого изложения, что мы придерживаемся дунайско-севернобалканской концепции индоевропейского протоэтнического ареала, которая уже давно имеет своих сторонников в нашей и зарубежной литературе [6, с. 11; 12, с. 58-59; 18, с. 19; 19, с. 12]. Между прочим, переднеазиатские культурные влияния на индоевропейский могут находить удовлетворительное объяснение при локализации индоевропейского очага в севернобалканских и придунайских районах через природный мост между Европой и Малой Азией [6, с. 12].
Два слова о методе. Современная индоевропеистика имеет возможность опереться на интегрированный сравнительный метод,
156
![]()
включающий, кроме уже упомянутой типологии, прежде всего сравнение (этимологию) и внутреннюю реконструкцию. Незаменимым резервом лексико-семантической реконструкции служат собственные имена, ономастика, за которыми стоят утраченные лексемы сплошь и рядом забытых языков, что все вместе сопряжено с немалыми трудностями атрибуции (я говорю это, потому что иногда раздавались голоса, призывавшие не включать ономастику в аппарат индоевропейской проблемы ввиду описанных трудностей интерпретации; но, при всех трудностях, обойтись в праязыковых исследованиях без ономастики невозможно, и мы также приводим примеры важности ее свидетельств). В исследованиях формальной структуры индоевропейского корня - пусть медленно и непоследовательно - все же наметился прогресс, выразившийся в том, что не остановились на Бенвенисте, на его трехбуквенной теории индоевропейского корня (при этом, правда, многие не идут дальше этой "канонической" модели), которая опиралась на аналогию семитского трехбуквенного корня и подкупала своей стройностью на определенной стадии, но не охватывала все разнообразие индоевропейской корневой структуры от двухбуквенных до пятибуквенных корней типа *spend- ' совершать жертвенное возлияние', кроме того, эта теория статична и не объясняет раннеиндоевропейское состояние с двухсогласными корневыми словами до появления развитого чередования гласных [20, с. 35-36]. Что же касается реально-семантической и культурной реконструкции, то должен признать, что тут дело обстоит гораздо менее удовлетворительно, здесь давно остановились на Дюмезиле, на его теории трехчастной картины (структуры) мира людей и мира богов, остановились, явно не желая замечать статичности и неадекватности этой теории [*].
*. Не будучи сторонником концепции изоморфизма разных уровней языка, автор этих строк, тем не менее, придает большое значение тому, что можно назвать синхронизацией реконструкции различных уровней. Применительно к индоевропейскому праязыку нерешенность этой проблемы как традиционной, так и новой индоевропеистикой стала особенно очевидной именно после выхода известной фундаментальной двухтомной монографии Гамкрелизде-Иванова в 1984 г. Известная несинхронность реконструкции при этом наблюдается в том, что, например, реконструкцию индоевропейского консонантизма названные исследователи доводят до критически предельного архаического уровня ("глоттальная" стадия), тогда как реконструкция структуры индоевропейского корня у них в основном останавливается на типологически более поздней - классической ("трехбуквенной") стадии. Равным образом без ответа остается вопрос, насколько этап мышления и культуры, реконструируемый в книге Гамкрелидзе-Иванова (развитая трехклассовая социальная структура, воинственность, вождизм, наличие храмовых городов-государств, наблюдаемые преимущественно в отдельных классических развитых, то есть тем самым - поздних, индоевропейских культурах), синхронен праиндоевропейскому этапу, программному именно для труда обоих ученых, насколько адекватно реконструируемому праиндоевропейскому языку и праиндоевропейской культуре проводимое в этом труде следование теории трехчастной индоевропейской картины мира Ж. Дюмезиля.
157
![]()
А между тем сама реальность восстановимой картины мира подсказывает другое - то, что можно назвать диалектологией индоевропейской социальной организации и культуры, имея в виду неравномерность ее развития, ведь не только сакраментальные три класса (жрецы - воины - скотоводы/земледельцы), но и наличие классов вообще маловероятно у ранних индоевропейцев, зато, с другой стороны, бывает рано представлен четвертый класс (ремесленники), у анатолийских же индоевропейцев трехфункциональная модель полностью отсутствует, а у германцев вплоть до римской эпохи были святые женщины-жрицы. Хотелось бы, чтобы наши ученые не так послушно следовали западным шаблонам, неудовлетворительность которых сознается и критикой на Западе. Постулируемое нередко в современных трудах по индоевропеистике наличие развитой социальной иерархии и в целом высокого уровня культуры праиндоевропейского этноса производит стойкое впечатление статичности. Невозможно говорить об адекватности этого "развитого" и "высокого" уровня не только ностратическим - дальним предпраязыковым связям индоевропейского, обычно также постулируемым при этом, но и - собственно раннепраиндоевропейской ретроспективе, с которой уместно ассоциировать все же более примитивное состояние культуры и общества. Все сказанное вынуждает думать об известном отставании теории индоевропейской культурной реконструкции подобно тому, как это выше пришлось констатировать и относительно теорий индоевропейского топогенеза (пространственно-географического аспекта этногенеза), наблюдая и в этом случае торможение теоретической мысли модернизирующими или схематизирующими построениями. Диспропорция такого отставания становится особенно явной, если вспомнить, что в области наиболее продвинувшейся - формально-фонетической реконструкции - индоевропейская теоретическая мысль ушла рискованно далеко, ища, например, истоки индоевропейского звонкого консонантизма в типологически неиндоевропейских звукотипах (глоттальная теория).
Верно, что лингвистика не имеет аналога радиоуглеродной датировке археологии (к последней пытаются иногда приравнять глоттохронологию, или лексикостатистику Сводеша, хотя ни она, ни ее усовершенствованные варианты не могут серьезно приниматься в расчет, поскольку исходят из равномерности темпов убывания лексики, что не доказано и неприемлемо для разных языков), но лингвистов тоже постоянно занимает глубина реконструкции языкового состояния. Типологически небезынтересно, что, например, достижимая глубина тюркского реконструируемого состояния - всего 550-560 годы н.э. [21, р. 385]. Не берусь судить о тюркском, но когда один славист заявляет, что и в славянском глубина реконструкции такая же, приходится возразить, что при этом, видимо, не учитывается лексическая (этимологическая) реконструкция; в осуществляемой
158
![]()
через последнюю реконструкции индоевропейского времени разной глубины славянский выступает, напротив, как равноправный индоевропейский партнер. Это можно видеть в случае с праслав. *ognь как самостоятельным рефлексом и.-е. *n̥gnis, названия огня, известного не во всех индоевропейских языках (нет в германском, греческом) и представляющего собой вероятное новообразование языка и культуры, связанное с древним нововведением обряда кремации (*ṇ-gnis 'не гниющий'?). Ср. об этом также ниже. Праслав. *berza, русск. берёза, может быть, еще более яркий пример сохранения современным живым словом восстановимых примет индоевропейского слова (место ударения, количество гласного) и индоевропейского времени, ибо с того момента, как известное дерево стало называться в ряде древних диалектов за свою уникальную кору 'яркая, ослепительно белая' (*bherəg̑os, *bherədg̑ā), счет времени ведется на многие тысячелетия. Вообще о березе сказано много, но далеко не все, в том числе как об аргументе при определении праиндоевропейского ареала: она распространена широко, но с неизменным нарастанием признаков рецессивности, деградации с севера на юг [22], с фактами перерождения, или подмены наименования именно на Юге ('береза' → 'тополь' на Армянском нагорье) [23, с. 351] и при неизменной высокой роли березы в поэзии Северной Европы - в широких пределах [24, р. 27], а последнее - явный архаизм культуры. В различных индоевропейских диалектах, в том числе в славянском, наблюдается живое и активное употребление лексического гнезда *u̯ei̯- 'вить' и его производных *u̯ei̯-n-, *u̯oi̯-n-, *u̯ei̯-t-, *u̯oi̯-t-, обозначающих что-то вьющееся, витое - 'ветвь', 'лозу', 'иву', 'венок' и лишь вторично - виноградную лозу, постепенно уже в глубокой древности распространившуюся вплоть до Центральной Европы из своего первоначального южнопонтийско-южнокаспийского ареала.
Основная терминология лошади в индоевропейском исконная. Это относится к и.-е. *ek̑u̯os 'лошадь', которое вместе с и.-е. *ākuā 'вода', очевидно, родственно и.-е. *ōkus 'быстрый', см. об этом у нас выше (в воззрениях массагетов, лошадь - "быстрейшее из всех смертных животных", Herod. I, 216). Кельто-германская изоглосса одного из названий лошади - *markos, *markā также лишена приписываемых ей неиндоевропейских ассоциаций (с монгольским, локализуемым в древности в Забайкалье, т.е. в немыслимой дали от индоевропейского, во всяком случае - от индоевропейских языков Европы). Более оправдано видеть и здесь древнюю инновацию европейского очага коневодства (возможно, конкретно - фракийско-карпатского? Ср. царское имя Thia-marcus у агафирсов, явно включающее также упомянутый конский термин), ср., с другим суффиксом, др.-инд. вед. márya- 'жеребец' [25, Sp. 1010]. То, что, например, славянский участвует не во всех этих изоглоссах, говорит лишь о древней диалектности индоевропейского. Напротив, и.-е. *su-s 'свинья'
159
![]()
хорошо представлено в славянском, как и в других диалектах, подтверждая тем самым наличие развитого свиноводства у индоевропейцев, причем данные о сокращении его у индоевропейцев на Ближнем Востоке [15, т. II, с. 595-596] уже сами по себе (наряду, разумеется, с другими фактами) указывают на исходный очаг как свиноводства, так и свиноводов-индоевропейцев в другом месте, в умеренных широтах (этому тезису пытаются противопоставить контраргумент, осмысливающий сокращение свиноводства как стадию культуры, замыкая при этом и начало, и конец свиноводства переднеазиатским ареалом, но основания для подобной универсализации отсутствуют, - вспомним популярность разведения свиней в высокоразвитой земледельческой культуре Китая, которой трудно было бы вменить некоторую "отсталость", скажем, сравнительно с Передней Азией).
Я неоднократно уже поднимал вопрос о необходимости типологии этногенеза. Сейчас кажется своевременным поставить интереснейший вопрос о взаимной типологии частных индоевропейских этногенезов в свете существующих популярных концепций, ибо, поступив так, мы получим уже хотя бы ту выгоду, что при этом в совокупной картине проступает сразу некая монотонность или шаблонность затронутых концепций, едва ли способствующая раскрытию своеобразия явления. Дело в том, что предыдущие поколения исследователей, отправляясь в своих суждениях от модели "единого" праязыка, испытывали явный дефицит в объяснении причинности реального своеобразия индоевропейских языков или ветвей и находили его - faute de mieux - во внешнем воздействии субстрата или суперстрата. Так, весьма распространенной является теория германского этногенеза как напластования индоевропейской шнуровой керамики на доиндоевропейскую мегалитическую культуру. Соответственно популярна теория славянского этногенеза как наслоения индоевропейской лужицкой культуры с запада на часть балтийского языкового ареала.
Что нам мешает в таком случае распространить эту схему и на балтийский этногенез, интерпретировав его как приход с юга индоевропейских племен и наслоения их на восточноевропейскую финно-угорскую культуру гребенчатой керамики? Как известно, очень аналогичная концепция прихода фракийцев-фригийцев в Литву Басанавичуса была давно отвергнута за дилетантские этимологии, но ведь в последние десятилетия на материале вполне научных соответствий вновь обосновываются фракийско-дакско-балтийские связи не позднее III тыс. до н.э. (причем, кстати, и в массе безнадежно дилетантских сближений Басанавичуса находятся такие, которые пришла пора реабилитировать, например, названий литовских городов Каунас, Приены и их этимологических дублетов в античной Малой Азии, о чем уже говорилось специально в предыдущих главах). Осуществляться эти связи могли лишь в относительной близости к восточной
160
![]()
части Балканского полуострова (ареал фракийских и дакских племен) [*], и только после этого протобалтийские диалекты могли начать перемещаться на север.
Мы исходим из постулата древней диалектной множественности и поэтому не возлагаем ответственность за все на субстрат-суперстрат. Поучительная пестрота мнений, например, о субстрате германского говорит о зыбкости этого понятия, причем одни ограничиваются признанием этого субстрата, другие относят к нему 30% германской лексики [26, с. 67], третьи считают, что он огромен [27, р. 200], тогда как четвертые, напротив, уверены, что он вообще маловероятен [1, s. 60]. В одном варианте ответа на вопрос "Кто такие германцы?" [14, passim], помимо различных археологических аргументов, о которых бегло см. выше, делается упор на "архаическую лексику неиндоевропейского происхождения", куда автор относит герм. *hrugna- 'икра (рыбья)', *dūbōn- 'голубь' и ряд других слов. Однако давно известно родство первого из них с такими названиями лягушачьей икры из первоначального обозначения крика этих земноводных в брачный период, как русск. диал. крек, крёк 'лягушачья икра', лит. kurkulaĩ то же, т.е. элементарно ясно, что это исконная лексика повседневных понятий, которую не было надобности брать из субстрата, как, равным образом и германское название голубя (*dūbōn-, нем. Taube), давно объясненное из первоначального названия темного цвета (подобный принцип называния голубя также известен в разных языках). Необходимость этимологической проверки этих субстратных атрибуций, таким образом, очевидна. Проверка этимологий тем более важна, что сейчас все больше признается этногенетическая важность лексических свидетельств, сравнительно с фонетическими различиями, которые конституировались относительно поздно, в славянском - начиная с I тысячелетия нашей эры, в германском - не ранее середины I тыс. до н.э., тогда как лексические изоглоссы 'золото', 'серебро', 'рожь', 'свинья', 'поросенок', 'рало', 'сеять', 'серп' и многие другие насчитывают к этому времени не одно тысячелетие, а с ними и языковая, и культурная самобытность соответствующих индоевропейских племен.
По этой линии - начало или отсутствие лексических связей, общих новообразований - идет изучение древнеевропейских диалектов. Констатируется, например, отсутствие соседства древних германцев и древних греков [28]. Греки - это особая глава индоевропейской проблемы. Утверждения, что греки направлялись в Эгеиду из Малой Азии (15, т. II, с. 899), кажутся сомнительными ввиду стойкой
*. Этого момента относительной локализации, кажется, совершенно не учитывают ни X. Бирнбаум (см. его "Славянская прародина: новые гипотезы". - ВЯ 1988, № 5, с. 36), ни реферируемый им З. Голомб, который поселяет древних балтов в верховьях Днепра и Дона, - а главное - заставляет их уйти "оттуда прямо на запад, в направлении Балтийского моря".
161
![]()
античной традиции ионической миграции, наоборот, - в Малую Азию из Аттики XI-X вв. до н.э., которая подтверждается археологически [29, Bd. 2, Sp. 1436-1437] и, возможно, лингвистически, ср. Ἀττική(γῆ)) - 'Отцовская (земля)', если от ἄττα 'отец' (любопытен фамильярный статус производящего и производного) [*], аналогично μητρόπολις - 'главный город, город-мать' (тоже в отношении к колонии). Греки пришли в Грецию, очевидно, с севера, одно из их полулегендарных названий - Δαναοί, данайцы - указывает прямо на Дунай, сохраняя архаичную форму названия среднего течения этой реки [30, S. 408]. Есть мнение, что традиция о походе аргонавтов на север - это раннее предание о "возврате греков" [31, р. 65]. Археологические следы важной проблемы прихода греков в Грецию и Эгеиду, конечно, еще предстоит изучать специалистам.
Армяне - столь же обособленная индоевропейская ветвь, как и греки, но их пути и контакты затрагивают многие другие индоевропейские группы. И опять-таки мнение, что протоармянский лишь незначительно перемещался внутри Малой Азии, наталкивается на лингвистические противоречия. Даже если оставить пока в стороне крайние концепции - о встрече праславян и праармян на Украине [32, р. 142] или о соседстве армян с индийцами к северу от Черного моря [3, с. 239], не говоря уже о киммерийской теории генезиса армянского [33, S. 165, 204, 217], то палеобалканские связи и истоки армянского до его появления в Малой Азии и на Армянском нагорье остаются вне всяких сомнений. Достаточно сослаться на известную традицию Геродота о том, что "армяне - фригийские колонисты" (Ἀρμένιοι Φρυγῶν ἄποικοι). Сами фригийцы, бывшие, видимо, следующей волной балканских переселенцев, известны в Малой Азии уже со II тыс. до н.э. Все это население имеет прочные корни среди балканских индоевропейцев, где оставались близко родственные бригийцы и пеоны. Для предыстории армян особенно интересны последние, чей этноним Παίονες, продолжающий древнее *pai̯(u̯)es 'луговые (жители)', ср. более краткую старую форму в составе близкого этнонима Παιό-πλαι [34, II, S. 85], проливает новый свет на самоназвание армян Hayk' < *pai̯es, в результате чего армяне, эти записные жители гор, тоже оказываются первоначально 'луговыми, долинными' (связь с названием страны Hai̯asa менее вероятна, как, впрочем, и с этнонимом Hatti, что побуждает некоторых вообще признавать этноним Hayk' неясным). Пеоны, мизийско-фригийское племя, владели речными долинами Фракии [35, s. 8], они сидели и на реке Ἐρίγων (современная Црна река, т.е. 'черная река', в Македонии, бассейн Вардара), что этимологически тождественно (Ἐρίγων)
*. См. еще: Трубачев О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959, с. 25. Прочие объяснения Ἀττιμή - из Ἀθηναική 'афинский, -ая' или от ἀκτή 'берег' (?) - кажутся просто малоубедительными.
162
![]()
арм. erek 'вечер' (т.е. 'темнота') [36, s. 26-27, 353; 37, I, р. 147]. От рек Вардара и Струмы следы протоармян восходят еще дальше на север, где в Дунай в Румынии впадает река Vedea, этимологически - 'вода', в своей огласовке взаимно покрывающаяся с фриг. βέδυ и арм. get 'река'. Ареной известных науке сепаратных изоглосс армянского с греческим и с древнеиндийским реально могло быть древнее Подунавье с примыкающими районами.
Значительное количество общих изоглосс обнаруживают также армянско-славянские языковые связи. Из них мы выделим соответствие названий железы: арм. gełj - слав. *železa [23, с. 132]. Если из этого же этимологического материала славянские и балтийские языки развили общее новообразование - название железа, что позволяет датировать интенсивные балто-славянские контакты с эпохи железа, т.е. около 500 г. до н.э., то армянско-славянские контакты фиксируют лишь дометаллическую семантику этого корня - 'комочкообразная субстанция, железа', что свидетельствует о времени до начала интенсивной разработки болотного железа - эпоха бронзы или неолит (II тыс. - начало I тыс. до н.э.).
Западнобалканские индоевропейские племена - иллирийцы - простирались довольно далеко на Север - до Силезии, временами - до Балтийского моря. Концом II тыс. до н.э. датируют их перемещение (обратное?) к Югу [3, с. 131]. Возможно, что это как-то сказалось и на уходе италийских племен в Италию из относительно более северных мест в Центре Европы. Наверное, именно северные иллирийцы, или иллиро-венеты, причастны к созданию лужицкой культуры. Именно эти племена с такой особой лексикой, как *delm- 'овца' (апеллативно сохранилось в албанском, а в ономастике - Dalmatia и близкие названия - от собственно Далмации на юге до следов в Восточной Германии), *daksā 'море' (от Эпира на юге и Адриатики до следов в Германии и Чехии), племенными названиями типа Liccavici (сохранилось до средневековья на западнопольских землях), местными и водными названиями типа *arson-, *serm-, *tarā, оставили следы так называемого "третьего этноса" на позднейшей границе германцев и славян. Ясно одно, что носителями ископаемой лужицкой культуры не были ни кельты, ни италийские племена. Ввиду присутствия северных иллирийцев (венетов) в роли упомянутого пограничного "третьего этноса" их участие одновременно в славянском этнообразовании трудно вообразимо. Еще менее реален "лужицкий" суперстрат иной этнической принадлежности (например, италийской), принимаемый некоторыми учеными для объяснения славянского этногененеза, поскольку уже во II тысячелетии вероятно продвижение италийских племен из Центральной Европы в Италию (см. выше).
Начиная с Лер-Сплавинского, существует теория этногенеза славян как результата наслаивания этих загадочных археологических "лужичан" на протобалтов. Лингвистически здесь многое спорно,
163
![]()
вплоть до позиции самого балтийского (не центральная, а, видимо, относительно периферийная). Чистота и бессубстратность балтийского мнима, ср. указание на финноугорский как древний субстрат балтийского [38, с. 869]. Противоречия протобалтийской концепции возникновения праславянского обозначались еще у Лер-Сплавинского, который указал на более тесные западно-индоевропейские связи славян, чем балтов [39, с. 38, 42]. Последующие разыскания углубили этот аспект, что вызвало необходимость "развести" балтов и славян в том, что касается их этнообразования.
Таковы, в самых скупых чертах, предпосылки современной дунайской теории праистории славян [40; 41; 42; 43; 44]. Ее обоснований - этимологических, конкретно-лингвистических - в действительности много больше, чем можно представить здесь, поэтому приходится ограничиться самыми общими и выборочными. Возражения против дунайской теории славянского этнообразования необходимо и дальше изучать, однако вряд ли прав В.В. Седов (устное высказывание), датирующий инфильтрации с Дуная на север от Карпат не древнее IV в. до н.э. и полагающий при этом, что эти инфильтрации уже застали славян на польских землях, чему там противоречит уже одно наличие неславянской индоевропейской номенклатуры (гидронимии), очевидно, более древней, чем появление на этих же землях славян.
Мы разделяем мнение, что "проблема прародины славян самым тесным образом связана с теориями о прародине индоевропейцев" [45, с. 92], хотя существуют и прямо противоположные суждения [46, с. 161]. Будучи языками-сатэм, и славянские, и балтийские языки развили инновацию в виде ассибиляции палатальных задненебных согласных. Судя по этой инновационной особенности, они находились внутри индоевропейского ареала. Однако и здесь серьезные различия: слав. s < *ts < *k̑, балт. š < *tš < *k̑ (попытки примирить и объединить обе линии развития следует признать неудачными).
Балты позднее стали распространяться на Запад и вышли на Янтарный путь. О Дунае они узнали еще позже и притом - от славян. Славяне рано стали пользоваться известным кельтско-германским названием *dunajь/*dunavь, относившимся к Среднему и Верхнему Дунаю, однако замечательно, что они не знали древних названий Нижнего Дуная, например, Ἴστρος. Из поля зрения древних славян выпал, таким образом, фракийский сектор реки. Это соответствует уже отмечавшимся преимущественным древним связям между фракийским, дакским и балтийским [47, passim, особенно с. 100]. Славяне ориентировались с древности на связи с германцами, кельтами, италиками, иллирийцами, т.е. с западными индоевропейцами. В последние десятилетия удалось выявить важные свидетельства древних латинско-славянских связей в названиях окружающей природы типа paludem - *polovodьje и др. и названиях культуры [48, с. 392-393; 49, с. 123-124; 24, р. 173-174; 50].
164
![]()
В отличие от западных связей праславян, их связи с восточными индоевропейцами как бы постэтногоничны, взять хотя бы известные славяно-иранские отношения (не древнее середины I тыс. до н.э.), которые отражают религиозное влияние на славян, но совершенно не затрагивают элементарные понятия и природу. Есть признаки аналогичного индоарийского влияния на славян. Распад индоиранцев на две ветви носит в Северном Причерноморье окончательный характер, хотя каждый "распад" лишь закрепляет и старое диалектное членение и новую консолидацию. Любопытно, что некоторые индоарийские (праиндийские) изоглоссы, возможно, выступают еще в Карпатском регионе. Так, уже Соболевский связал название притока Тисы Hornád с др.-инд. nadī 'река' [51, с. 173]; мы можем сейчас добавить ряд местных названий с элементом -nad, известных исключительно в Трансильвании и Банате: Pǎnade, Tǎşnad, Tuşnad, Cenad [52, с. 152]. Известная Nitra в Словакии находит теперь объяснение как восходящая к древней форме *neitra, родственной др.-инд. netrá- 'проход' [53, с. 44].
Реальнее всего представлять себе распространение этих этносов из Карпатского бассейна на Восток, т.е. как движение центробежное. Ярчайшим примером такого центробежного ухода на Восток из Центральной Европы служат очевидно индоевропейские носители фатьяновской культуры междуречья Волги и Оки. Время, место и направление их ухода, а также контакт с финно-угорскими культурами делают заманчивым предположение в фатьяновцах крайневосточных кентумных индоевропейцев - тохаров. Это оправдывалось бы и наблюдениями лингвистов об особо длительных сношениях именно тохаров с финноуграми, наложивших отпечаток на тохарский консонантизм; эти контакты, будучи древними и долгими, следует локализовать к западу от Урала, вблизи от древнего финно-угорского ареала (предположительно - Волго-Камье). Другие индоевропейцы в роли фатьяновцев, напр. балты, маловероятны, ввиду связей фатьяновцев с Центральной Европой и территорией Польши, тогда как протобалты до II тыс. до н.э. ориентировались на связи с древними племенами Восточных Балкан (см. выше).
В то время как ряд исследователей разделяет мнение о движении с Востока на Запад как основном направлении индоевропейских племен, мы бы выделили мысль о характерности именно центробежных распространений из некоторого центральноевропейского ареала. Особенно показательны здесь разнонаправленные движения приблизительно из одного и того же центра: италики - на Юг, упомянутые безымянные археологические фатьяновцы - на Восток (и те, и другие предположительно - во II тыс. до н.э.). Эта древняя тенденция жила долго и даже породила любопытную в плане культурно-лингвистической типологии этнонимическую модель, к которой мы в разное время уже обращались ранее и которую мы назовем
165
![]()
'Великая страна'. Эта модель никакой великодержавности и шовинизма в себе не таит, хотя так подчас охотно думают, начиная с Плиния, который связывал название Magna Graecia с "кичливостью" греков, пришедших якобы в восторг по поводу красот вновь освоенной страны. На самом деле Magna Graecia выражает ориентацию "новой" Греции (Нижней Италии) относительно старой метрополии, Эллады. Равным образом Великобритания названа так относительно материковой Бретани, Великороссия - относительно Руси изначальной, лишь под воздействием своего коррелята ставшей Малороссией, далее ср. Великопольша и ее оппозит - более южная (и раньше освоенная) Малопольша; закончим довольно древней и потому интересной для нас парой Малая Фригия - на ближайшем к Европе малоазиатском берегу Пропонтиды - и Великая Фригия - дальше на юго-восток вглубь Малой Азии (да и сама Малая Азия, Asia Minor, Μικρὰ Ἀσία, разумеется, представляет собой вторичное название страны, за освоением которой последовало расселение по Азии дальнейшей, иногда действительно называемой - гл. обр. в ученых трудах - Asia Maior, Великая Азия). В глазах искушенного читателя эти названия - неплохие дорожные указатели миграций из мысленного центра Европы.
Что же еще дает индоевропейская проблема, особенно - такого, что может интересовать не одну только индоевропейскую проблему? Индоевропейская проблема - это также индоевропейская диалектология, что, впрочем, мы старались показать с самого начала, и, кажется, из всех диалектологий индоевропейская диалектология первой столкнулась наиболее явственно с непреодолимостью феномена изначального диалектного членения. Можно, конечно, проглядеть и этот урок, но лучше - усвоить его с вниманием и пользой. Я имею в виду по-прежнему ощутимый вред унитаристской исходной концепции всякого, особенно - древнего языка. Когда крепко верится в идеальное (как бы монолитное) единство, любое накопление фактов известной самобытности диалекта, скажем, древненовгородского диалекта, способно вызвать, говоря кратко, две реакции (обе, заметим, в общем неправильные): одна из них, с легкостью зачисляемая в ретроградные настроения, - это, если усматривать здесь посягательство на единство древнерусского языка; и вторая, тоже неоправданная - с ее поспешной готовностью интерпретировать феномен в духе "всего прогрессивного", - это когда оживляются толки о "гетерогенном" образовании русского языка вообще или о "двух" слившихся в нем языках (такие утверждения, кстати, уже проникли в широкую печать). Язык не бывает бездиалектным, самобытность древних диалектов может быть и большей, а язык существует - один, олицетворяя реальное единство в сложности, если пространственный континуум диалектов перекрывается выработанным ими же междиалектным и наддиалектным объединяющим слоем, с постулата которого мы и начали настоящую главу.
166
![]()
ЛИТЕРАТУРА
1. Kilian L. Zum Ursprung der Indogermanen. Forschungen aus Linguistik, Prähistorie und Anthropologie. Bonn, 1983.
2. Polomé E. Methodological approaches to the ethno- and glottogenesis of the Germanic people // Mannheim Symposium 1984: Entstehung von Sprachen und Völkern.
3. Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.
4. Coles J.M., Harding A.F. The Bronze Age in Europe. An introduction to the prehistory of Europe с. 2000-700 ВС. London, 1979.
5. Mańczak W. W sprawie czasu i miejsca zapożyczeń germańskich w prasłowiańskim // International journal of Slavic linguistics and poetics. Vol. XXIX. 1984.
6. Горнунг Б.В. Из предыстории образования общеславянского языкового единства // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1963.
7. Pisani V. Baltisch, Slavisch, Iranisch // Baltistica V (2). 1969.
7a. Birnbaum H. Divergence and convergence in linguistic evolution // ICHL 6 (отд. отт.).
8. Thomas H. // The Indo-Europeans in the IV and III millennia / Ed. by E. Polomé. Ann Arbor, 1982.
9. Häusler A. Kulturbeziehungen zwischen Ost- und Mitteleuropa im Neolithikum? // Jschr. mitteldt. Vorgesch. 68, 1985.
10. Oždáni O. Zur Problematik der Entwicklung der Hügelgräberkulturen in Südwestslowakei // Slovenska archeológia. XXXIV. 1. 1986.
11. Latałowa M. Warunki przyrodnicze osadnictwa prahistorycznego w okolicach jeziora Żarnowieckiego w świetle badań paleobotanicznych // Archeologia Polski. Т. XXX. Zesz. 2. 1985. C. 261 и сл.
12. Nalepa J. Miejsce uformowania się Prasłowiańszczyzny // Slavica Lundensia 1. Lund, 1973. S. 60.
13. Polomé E.C. Who are the Germanie people? // Studies in honor of Marija Gimbutas. Washington, D.C. 1987.
14. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. К проблеме прародины носителей родственных диалектов и методам ее установления (По поводу статей И.М. Дьяконова в ВДИ 1982, № 3 и 4) // ВДИ. 1984, № 2.
15. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984. I-II.
16. Ilievski Р.Hr. Pisani podaci о zemljoposedničkim odnosima na Balkanu iz kasne bronzane epohe // Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Godišnjak XXIV (Centar za balkanološka ispitivanja. Knjiga 22). Sarajevo, 1986, passim.
17. Socha J. [Рец. на кн.:] А.И. Немировский. Этруски. М., 1983 // Eos, vol. LXXIII, fasc. 2. 1985. S. 372.
18. Горнунг Б.В. К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964.
19. Дьяконов И.М. О прародине носителей индоевропейских диалектов. I // ВДИ 1982, №3.
20. Андреев И Д. Раннеиндоевропейский праязык. Д., 1986.
21. Pritsak О. The Slavs and the Avars. Estratto da: Settimane di studio del Centro italiano di studi sulPalto medioevo XXX. Spoleto, 1983.
167
![]()
22. Atlas linguarum Europae. Vol. 1, 2-ième fascicule. Assen / Maastricht, 1986, carte 24: 'bouleau'.
23. Сараджева Л.A. Армяно-славянские лексико-семантические параллели. Ереван, 1986.
24. Friedrich Р. Proto-Indo-European trees. The arboreal System of a prehistoric people. Chicago and London, 1970.
25. Grassmann H. Wörterbuch zum Rig-Veda5. Wiesbaden, 1976.
26. Milewski Т. Dyferencjacja języków indoeuropejskich // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965; Wrocław etc., 1968.
27. Gimbutas M. Primary and secondary homeland of the Indo-Europeans // The Journal of the Indo-European studies. Vol. 13. Nos. 1-2. 1985. P. 200.
28. Polomé E.C. Some comments on Germano-Hellenic lexical correspondences // Festschrift Alinei (отд. отт.) passim.
29. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. München, 1979.
30. Schmid W.P. Griechenland und Alteuropa im Blickfeld des Sprachhistorikers. Θεσσαλινοκη, 1983 (Ἀνατυπο ἀπο την Ἐπιστημονικη ἐπετηριδα της Φιλοσοφικης σχολης...), S. 408.
31. Bačić J. The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their arrival on the Bałkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective. Columbia university Ph. D. 1983. University microfilms International. Ann Arbor, Michigan, 1984.
32. Gołąb Z. The ethnogenesis of the Slavs in the light of linguistics (отд. отт.).
33. Schramm G. Nordpontische Ströme. Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des europäischen Ostens. Göttingen, 1973.
34. Mayer A. Die Sprache der alten Illyrier. Bd. I—II. Wien, 1957-1959.
35. Tomaschek W. Die alten Thraker. Nachdruck. Wien, 1980.
36. Duridanov I. Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle. Köln; Wien, 1975.
37. Katičić R. Ancient languages of the Balkans. Part I-II. Mouton, The Hague; Paris, 1976.
38. Ванагас А. Хронологические пласты иноязычных топонимов Литвы // Zeitschrift für Slawistik 30, 6, 1985.
39. Lehr-Spławiński Т. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946.
40. Трубачев O.H. Языкознание и этногенез славян. [I-VI] // ВЯ. 1982. № 4-5; 1984, № 2-3; 1985, № 4-5.
41. Birnbaum Н., Merrill Р.Т. Recent advances in the reconstruction of Common Slavic (1971-1982). Slavica Publischers, Columbus, Ohio, 1985. Р. 78 и сл.
42. Birnbaum Н. Indo-Europeans between the Baltic Sea and the Black Sea // The Journal of Indo-European studies. Vol. 12. № 3-4, 1984. P. 253-255.
43. Birnbaum H. Noch einmal zu den slavischen Milingen auf der Peloponnes // Festschrift für H. Bräuer. Köln, Wien, 1986. S. 24-25.
44. Kunstmann H. Die Namen der ostslavischen Derevljane, Poločane und Volynjane // Die Welt der Slaven, Jg. XXX, 2. München, 1985. S. 235.
45. Rysiewicz Z. O praojczyźnie Słowian // Z. Rysiewicz. Studia językoznawcze. Wrocław, 1956.
46. Walczak В. [Рец. на кн.:] W. Mańczak. Praojczyzna Słowian. Wrocław etc., 1981 // Lingua Posnaniensis XXVII, 1984.
47. Duridanov I. Thrakisch-dakische Studien. 1. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969.
168
![]()
48. Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.
49. Gołąb Z. Kiedy nastąpiło rozszczepienie językowe Bałtów i Słowian? // Acta Baltico-Slavica XIV, 1981.
50. Schelesniker H. Die Schichten des urslavischen Wortschatzes // Anzeiger für slavische Philologie. Bd. XV/XVI. 1984-1985. S. 77 и сл.
51. Соболевский А. Славяно-скифские этюды. XVII // ИРЯС. Т. I. Кн. 2.
52. Трубачев О.Н. Indoarica в Скифии и Дакии // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984.
53. Трубачев О.Н. "Старая Скифия" (Ἀρχαίη Σκυθίη) Геродота (IV, 99) и славяне. Лингвистический аспект // ВЯ, 1979. № 4.