ПРИЛОЖЕНИЯ
(Статьи)
1. Этногенез и культура древнейших славян [Palaeoslavica I (1993), р. 9-40] (282)
2. К отдаленнейшим истокам нашего самосознания. Презентация одной книги [Palaeoslavica II (1994), р. 313-324] (300)
3. Древние славяне на Дунае (Южный фланг). Лингвистические наблюдения. I [XI Международный съезд славистов в Братиславе (Словакия)] (310)
4. XI medzinárodný zjazd slavistov (Bratislava, 1993) (332)
5. О работе XI Международного съезда славистов (историческое языкознание) [Palaeoslavica II (1994). Р. 235-247] (337)
6. Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения. II [Palaeoslavica V (1997). Р. 5-29] (347)
7. Slavica Danubiana continuata (Продолжение разысканий о древних славянах на Дунае) [Сербский лексикограф. Белград. 1996] (370)
8. Sclavania на Майне в меровингскую и каролингскую эпоху. Реликты языка (J. Schütz. Frankens mainwendische Namen. Geschichte und Gegenwart) [Исследования по славянской диалектологии. "Индрик". М., 1995] (391)
(*myslъ '[муж] мудро следящий' — Befulci (Fred. Chron. IV, 48) = майнсковенедское *be(z)pъlкъ — *gostь 'вступивший во владение' — Postscriptum ad "Sclavania на Майне")
9. Мысли по поводу новой книги: (L. Moszyński, Die vorchristliche Religion der Slaven...) [Palaeoslavica III (1995), pp. 211-229] (414)
10. Взгляд на проблему прародины славян (Парадоксы науки и парадоксы жизни) [Политехнический музей в Москве. Декабрь 1996 г.] (432)
11. О 'рябчике', 'куропатке' и других лингвистических свидетелях славянской прародины и праэкологии (H. Andersen. A glimpse of the homeland of the Slavs: ecological and cultural change in prehistory) [Вопросы языкознания. 1996. № 6] (443)
12. Из лексических комментариев к поискам прародины славян (Vl. Orel, Albanian Etymological Dictionary) [Studia etymologica Brunensia, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Etymologické symposion" Brno 1999. Praha, 2000, 17-22] (453)
13. К этимологии названия Швейцарии [Этимология, 2000-2002 / Отв. ред. Ж. Ж. Варбот. М., 2003. С. 5-8] (461)
1. ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯН [*]
1. Нынешнее сообщение одноименно с книгой, изданной недавно (Москва: "Наука", 1991), объединившей результаты работ на данную тему за последние десять лет. Именно тогда окончательно созрела уверенность в необходимости аргументированно отстаивать однозначную формулировку "Древние славяне на Дунае" (такова, кстати, тема доклада, заявленного мной для очередного, XI Международного съезда славистов 1993 г. в Братиславе). Предлагаемая проекция прародины, или древнейшего ареала славян на Средний Дунай выросла, смею заверить, не из каких-то пристрастий, симпатий и антипатий и уж, конечно, не из "ложно понятого патриотизма", хотя именно его, как это ни удивительно, пытались мне приписать. Слепой патриот своего отечества, думаю, не стал бы так явно конфликтовать с географией и, естественно, стал бы стремиться расселить наших предков, скажем, обязательно в Поднепровье, а то и на Оке и на верхнем Дону, так сказать, в Рязанской и Московской губерниях и их ближайших окрестностях, как мы это наблюдаем в трудах нашего известного коллеги, польско-американского ученого, чикагского профессора Збигнева Голомба. Логично, что поиски самобытного давнего языкового, этнического и культурного прошлого славян в корне расходится с концепцией, готовой "пренебречь участием славян" (я цитирую формулу из доклада В.Н. Топорова для последнего, X Международного съезда славистов; доклад этот, не скрою, огорчил меня не столько своим постулатом древнего "несуществования" славян отдельно от балтов, другого я и не ждал, огорчительным оказалось полное отсутствие новых, свежих научных аргументов).
2. Таким образом, я - за поиски истоков славян в ретроспективе древнейших индоевропейских отношений. Нельзя не видеть и не отдавать себе отчета в том, что многие думают иначе. При этом необходимо разобраться в сущности этого противоположного взгляда, а не подавлять его эмоциями, как это, например, делает иногда мой
*. Расширенный текст доклада на конференции по славянской археологии (Псков, апрель 1991 г.).
282
![]()
оппонент. Противоположный взгляд нередко выступает в форме ходячего мнения о славянском, о праславянском как "молодом типе" языка; впрочем, здесь обозначилась своеобразная динамика за последние несколько лет. Так, если положение о "молодом типе" праславянского языка было довольно популярным, даже заглавным для некоторых докладов на IX, киевском Международном съезде славистов, этого уже нельзя было сказать о X, софийском MCC. Лично я решительно не согласен с названным положением и мог бы обосновать кратко свое мнение указанием на то, что славянскому языковому типу свойствен в высокой степени такой параметр, как преобразованный архаизм. Свойство человеческого языка вообще - изменяться, оставаясь самим собой - присуще разным языкам все-таки в неодинаковой степени, и мы должны считаться со своеобразием каждого отдельного случая. Так, если для правильного понимания славянских языков необходима индоевропейская ретроспектива, то для языков, представляющих явно дочернюю стадию, каковы романские или даже новоиндийские языки, надобность в такой ретроспективе очень невелика. И тут дело не в древности письменной традиции, на которую нам сразу укажут, имея в виду латинский и древнеиндийский. Дело в том, что и в последних мы находим немало новообразований. В лингвистике получили большое развитие реконструкция и типология. Они весьма раскрепощают научное мышление, в частности, его зависимость от письменной формы или ее отсутствия. Это имеет выходы и в другие дисциплины науки о человеке и истории его культуры. Прямолинейностью и неверием в возможности науки грешат те лингвисты, которые вновь и вновь возвращаются к факту неупоминания славян по имени до VI века, делая отсюда заключение, что славян до этого и не было вовсе, или историки, датирующие появление консолидированных славян с момента последнего упоминания антов в письменности, или археологи, которые полагают, что раньше времени распространения пражской керамики (VI век или около того) говорить о славянах нельзя. Имен и трудов я здесь приводить не буду, примеры достаточно известны.
3.
Но один свой пример славянско-индоевропейской ретроспективы, а также
реконструкции и типологии, причем не только историко-лингвистической, но и
историко-культурной, я все же приведу именно в связи с этим. В одном позднем
письменном памятнике - сочинении болгарского книжника XVIII в. Паисия
Хилендарского "История славено-болгарская" - всему изложению предпослан призыв,
на мой взгляд, знаменательный: "Ты, болгарине, не прелащаи се! Знай свои родъ
и ![]() зикъ". Я много писал, в том числе и в упомянутой своей книге, о слове свой
как ключевом для истории славян и их культуры, истоки чего коренятся еще в
древнеродовой идеологии. В формуле болгарского книжника - знай свои родъ
- как в сгустке представлена квинтэссенция всего того, что мы способны сказать
по реконструкции древней культуры, вплоть до забытой почти языком
зикъ". Я много писал, в том числе и в упомянутой своей книге, о слове свой
как ключевом для истории славян и их культуры, истоки чего коренятся еще в
древнеродовой идеологии. В формуле болгарского книжника - знай свои родъ
- как в сгустке представлена квинтэссенция всего того, что мы способны сказать
по реконструкции древней культуры, вплоть до забытой почти языком
283
![]()
такой архаической особенности глагола знать, как первоначальная отнесенность к человеку, кровному родственнику. Проявилась здесь и чрезвычайная прочность атрибута свой, сглаженная в грамматическом развитии других - романских, германских языков, где возобладала более новая модель: 'ты' - 'твой' (в славянских сохранилась архаичная свободная модель: 'ты' - 'свой'). Короче, перед нами первая заповедь еще древнеродового устройства: сказанное Паисием в XVIII в. - знаи свои родъ - мы можем без запинки перезаписать как праславянское: *znajь svojь rodъ. Более того, нельзя не видеть явной индоевропейской природы этого текста (ибо перед нами реконструируемый текст, а не одно восстановленное слово). В праславянском здесь осуществилось новообразование, появилось новое слово или локальный диалектизм *rodъ, иначе говоря, менее устойчивое определяемое имя было заменено, а определение свой, о прочном статусе которого я пишу в другом месте, уцелело. Что это, вероятно, так и было, говорит сам результат предлагаемой нами для этого случая простой реконструкции - получаемая индоевропейская формула - figura etymologica (когда глагол и имя в одном выражении имеют одну этимологию): *ĝnō- su̯om ĝenom, - что значит: 'знай свой род'.
4. Я продолжаю считать актуальным вопрос, бегло затронутый выше, - о вреде слишком прямолинейных научных постулатов, воздействие которых так трудно преодолевается, но учитывать это необходимо. Здесь имеются в виду схемы этноязыкового развития из постулируемого исходного единства, хотя разными специалистами уже давно замечено, что количество языков и народов в древности было отнюдь не меньшим, по крайней мере, а значит, настаивать на прямом, однонаправленном развитии неразумно. Справедливо, с другой стороны, положение, что у колыбели каждого более или менее значительного этноса было не первоначальное единство, а наоборот - так называемый colluvies gentium, стечение народов. Уже писалось, и поэтому не хочется повторяться о том, что периоды особой подвижности во внешней истории этноса как раз не влекут за собой ускорения развития языка, а компенсируются замедлением этого развития и - наоборот (вспомним ходячее убеждение, что революционные эпохи революционизируют и язык). Специалисты готовы признать (или, наоборот, - отрицать) факт этнического контактирования или освоения территории только при наличии/отсутствии массовых свидетельств. На этом, похоже, построена новая концепция "вакуума заселения", успешно вытесняющая на наших глазах классический автохтонизм в польской науке, к чему мы еще предполагаем вернуться далее. Пока же заметим лишь, что если археологам для признания этнического передвижения желательны массовые показатели, в реальной древней истории освоений они далеко не всегда преобладали, и приходится поневоле прислушиваться к поучительным высказываниям в том духе, что даже освоение индоевропейцами такого субконтинента, как Малая Азия, осуществлялось
284
![]()
небольшими этническими группами, и археологически оно фиксируется очень слабо, если фиксируется вообще. Чрезвычайно отрадными выглядят поэтому нестандартные наблюдения, обнаруживающие понимание действительного факта непрямолинейных связей, всякого преломленного отражения или того, что я как лингвист назвал бы анизоморфизмом разных уровней; в качестве положительного примера хочу назвать меткое наблюдение археолога Неуступного, что военные укрепления строятся не во время военных конфликтов, а наоборот - в мирную полосу, о наличии которой и свидетельствует сама возможность их построения.
5. Как бы то ни было, изучение опыта других дисциплин сохраняет свою актуальность. Среди лингвистов убеждение в изначальности диалектологического членения языка зародилось прежде всего у индоевропеистов, и оно представляется весьма продуктивным методологически. Хотя и сегодня авторы новейшего фундаментального труда об индоевропейском языке и индоевропейцах широко оперируют понятием первоначального индоевропейского праязыкового единства и общности, уже ясно, что это не более как исследовательская условность и самооблегчение. Гораздо более серьезный интерес для нас представляют голоса об изначальной полидиалектности и полиэтничности, ср. упоминавшийся древний colluvies gentium, мнение об исходной Этнокультурной многокомпонентности тех же германцев и т.д. Археологам, по-видимому, нелегко расставаться с удобным понятием исходной монокультуры, хотя неизбежность смены этого понятия понятием древних культурных диалектов своего рода очевидна.
6. Праславянский язык - это самобытный индоевропейский диалект, а праславянская культура - диалектный вариант индоевропейской культуры. Архаичность праславянской культурной стадии выражается в том, что развитые религиозные понятия и соответствующие термины появились относительно поздно и не без внешнего культурно-языкового влияния (славяно-иранские контакты, около середины I тыс. до н.э. и позже). Примерно этим временем целесообразно датировать появление двучленных имен богов. Популярные попытки вывести праслав. *stri-bogъ из индоевропейского имени 'бога-отца' *pəter, *pətri- явно анахроничны, да и сама реконструкция имени 'неба-отца' - *dieu̯(s)-pəter-, имеющегося в некоторых особо развитых, богатых индоевропейских региональных культурах, никак не может переноситься в праиндоевропейскую, а тем паче - в "общеиндоевропейскую" древность. Примат древности должен быть признан за молчаливым почитанием божеств, уклончивым (табуизированным) их упоминанием, в конечном счете - отсутствием даже такового, за примитивным культом предков. Именно в этой архаике смыкаются данные славянского и латинского словаря, я имею в виду прежде всего соответствия слав. *gověti и лат. favēre, пара этимологически родственных терминов, первоначально относящихся
285
![]()
к обряду набожного молчания и почитания, и другая важная этимологическая пара соответствий, на которые я хотел бы также обратить внимание: слав. *manъ/*mana - лат. manes, последние целиком относятся к культу предков, с восстановимым происхождением от общей глагольной основы, обозначающей знаки, в том числе знаки рукой (подробнее сейчас с этим нашим толкованием можно ознакомиться в 17 выпуске Этимологического словаря славянских языков). Иными словами, здесь восстанавливается сам механизм зарождения культа предков. Исключительное значение таких культурных и языковых встреч трудно переоценить. Балты в этих соответствиях не участвуют; предполагается, что уже со II тысячелетия италики начали освоение Апеннинского полуострова. Значит, можно допускать осуществление этих древнейших славяно-латинских контактов в Ш тыс. до н.э. Неслучайно отнесение к этим контактам также древнейшей изоглоссы из области обозначений явлений природы - разливов воды: лат. pal-ūdem (терминологизировалось как обозначение болота) - слав. *pola voda, *polovodьje. Завершая этот сюжет, хочу заявить, что, работая над этимологией этой и смежной, действительно архаичной лексики, я давно уяснил себе необходимость дистанцироваться от красивых схем новой сравнительной индоевропейской мифологии Жоржа Дюмезиля и его школы с ее трехсословным обществом на земле и трехчастным пантеоном на небе, священными царями-жрецами и славославием героев, по сути же своей - транспозицией отдельных высокоразвитых социально-мифологических традиций (индоиранской, греческой, древнеримской) в праиндоевропейскую древность, к которой, как мне кажется, гораздо ближе простейшая культура, вскрываемая бегло упомянутыми латинско-славянскими этимологиями.
7. Кроме идеологии рода (ср. выше у нас кратко о лексике свой, свой род), можно говорить о разнообразных, порой даже необычных отражениях идеологии древнего земледельческого общества в славянской лексике. Среди них выделим интересное с разных точек зрения название крупнейшего племенного союза западных славян, данное ему другими соседями-славянами, - *lędjane, собственно 'обитатели целины' (праслав. *lęda, *lędo). Название это (никогда, кстати, не бывшее самоназванием! ляхи сами себя ляхами не звали) отражает прекрасно и упомянутую идеологию земледельца, и очевидную для называвших вторичность появления польских славян на своих землях. Спрашивается, откуда? Ясно одно, - что славяне в целом ориентировались на древний дунайско-приальпийский очаг земледелия как в совершенствовании пахотных орудий (именно здесь зародился славянский термин *plugъ как 'плывущий' - ввиду ускоренного прохождения борозды), так и в сортах злаков и в их названиях (невымолачиваемая пшеница-полба, потом потесненная и полузабытая, но первоначально, видимо, влиятельно профилировавшая зерновое хозяйство наших предков, уж если сама пшеница,
286
![]()
хлебный злак № 1, славянами была наречена не по светлому цвету, как, скажем, в германских языках, а по этому признаку *пшения, пихания, невразумительному для нас теперь, но глубоко осмысленному для называющих тогда, ибо имелось в виду более легкое, чем у полбы, шелушение, вымолачивание половы, мякины у пшеницы). На этих центрально-европейских, среднедунайских землях сложилось, думается, и славянское название ржи - *rъžъ, этимологически - *rъ-g, *ru-g-, родственное глагольному корню со значением 'рвать', то есть 'рвущая, портящая (пшеницу)'. На мысль о такой этимологизации славянского обозначения ржи навели меня чрезвычайно поучительные и лингвистически корректные наблюдения Н.И. Вавилова над многочисленными названиями ржи именно как 'рвущей, дерущей злаки' в языках Ирана, Афганистана и в целом - над продвижением ржи к северу и переходом ее там, на севере, из сорняков в полезные злаки. Передаточную роль при продвижении сельскохозяйственных культур из благодатных стран Передней Азии к северу, как и в других случаях, прекрасно выполнял европейско-азиатский мост Босфора. Видимо, оправданно мнение, что более северные германцы вначале не имели ржи (ясторфская культура) и получили ее уже от славян, возможно, вместе с разобранным выше названием.
8.
Культура металлов у славян позволяет построить свою относительную культурную
хронологию. По-своему характерно, например, схождение славянского и армянского
не в названии металла 'железо', а только в исходном для последнего -
дометаллическом - названии органического комочка 'железы' ('железá'
по-армянски - gełj). Ареальное индоевропейское название золота объединяет
с очень раннего времени славянский с германским, с какого-то момента - с
латышским, возможно - с фракийским (единственный при этом вероятный эпицентр
древней добычи и знакомства с золотом - Трансильвания, то есть Подунавье).
"Аргумент меди" (как можно выразиться в этом случае) очень четко и очень рано
разводит славянский и балтийский (убедительное изначальное наличие чуждых друг
другу названий: слав. *mědь, лит. vărias 'медь', лтш.
![]() ). Лишь
достоверно поздний металл 'железо' представлят инновационное обозначение, общее
для славян и балтов (слав. *želězo, лит. geležìs, лтш. dzèlzs,
др.-прусск. gelso), а эпоха железа (начало - около середины I тыс. до
н.э.) - наиболее вероятный terminus postquem балтославянского ареального
сближения. Название металла 'серебро' объединяет славян с германцами и балтами,
но совершенно очевидно, что речь при этом идет не об общем исконнородственном
термине, а о бродячем культурном заимствовании слав. *sьrebro, лит. sidãbras, лтш.
sudrabs, гот. sulubr, нем. Silber с
Востока, при передаточной роли индоариев Северного Причерноморья, причем наше
внимание привлекло местное название Σιβριάπα (у Птолемея, на Кубани),
предположительно читаемое нами как 'чистая вода', которое,
). Лишь
достоверно поздний металл 'железо' представлят инновационное обозначение, общее
для славян и балтов (слав. *želězo, лит. geležìs, лтш. dzèlzs,
др.-прусск. gelso), а эпоха железа (начало - около середины I тыс. до
н.э.) - наиболее вероятный terminus postquem балтославянского ареального
сближения. Название металла 'серебро' объединяет славян с германцами и балтами,
но совершенно очевидно, что речь при этом идет не об общем исконнородственном
термине, а о бродячем культурном заимствовании слав. *sьrebro, лит. sidãbras, лтш.
sudrabs, гот. sulubr, нем. Silber с
Востока, при передаточной роли индоариев Северного Причерноморья, причем наше
внимание привлекло местное название Σιβριάπα (у Птолемея, на Кубани),
предположительно читаемое нами как 'чистая вода', которое,
287
![]()
видимо, и сыграло свою формирующую роль при возникновении перечисленных выше северноевропейских названий серебра. Этот случай интересен как пример дальности торговых коммуникаций. О роли Кубани и Предкавказья в распространении серебра в Европе независимо от моих этимологических поисков писали и западные исследователи. Имеющиеся у Гамкрелидзе-Иванова (II, 715, примеч. 2) сближение европейского названия серебра с груз. wercxl- 'серебро' не отвечает этимологическим требованиям и не может быть принято, поскольку грузинское слово само скорее всего заимствовано из индоевропейского источника в Передней Азии (ср. Климов Г.А. Этимологический словарь картвельских языков. M., 1964, с. 63-84).
9. Если ставить вопрос о локализации древнейших славянских этнических контактов (ср. выше прежде всего древние латинско-славянские соответствия), то мы должны будем обратиться к Дунаю как некой оси размещения древних индоевропейских диалектов, идет ли речь о прагреках (проблема данайцев), праармянах, истоки которых тоже ищут вблизи Дуная. К славянам имел отношение прежде всего Средний Дунай. Название этой великой реки, представленное у славян в двух ареальных вариантах - *Dunajь (преимущественно северное) и *Dunavь (преимущественно юго-восточное, болг., макед., сербохорв.), как бы спустилось к славянам с Верхнего Дуная, из кельтско-германского ареала, при посредствующей роли германского (или готского) *Dōnawi-. Нижний Дунай первоначально славянам не был знаком, а равно и его древние названия Ἴστρος, Ματόας, видимо, дакского, фракийского (восточно-балканско-индоевропейского) происхождения, дошедшие до нас исключительно в свидетельствах греческой письменности. Интересно проследить и дальше степень знакомства славян с Нижним Дунаем. На первый взгляд, она кажется давней и интимной. Во всяком случае, болгарско-древнерусские контакты на глазах истории осуществлялись через Нижний Дунай. В традиционной славистике восточные и южные славяне сначала представляли единство, которое локализовалось теоретически на Украине, откуда - по крайней мере - восточная часть южных славян прошла затем на Балканы через низовья Дуная. Иногда прямо говорят о восточнославянских племенах или восточнославянских влияниях в Болгарии. Все ли было так в действительности? Недавно польский лингвист В. Маньчак, выделяющийся своими неортодоксальными взглядами, попытался объяснить так называемое "румынское чудо" (сохранение восточнороманского элемента как главенствующего на нижнедунайском Левобережье) тем, что не было традиционно принимаемых двух славянских потоков на Балканы, был лишь один - западный, со Среднего Дуная на Юг, и это дало возможность романскому элементу на Нижнем Дунае уцелеть, в то время как в западной части Балканского полуострова были ассимилированы славянами и балканороманский, и автохтонный балканский элементы.
288
![]()
Болгарские славяне начали проникать на собственно румынские территории лишь с
юга и притом - не раньше VIII-IX веков (Mariczak Mańczak W. Pourquoi la
Dacie, au contraire des autres provinces danubiennes, n'a-t-elle pas été
slavisée? Vox Romanica 47, 1988, р. 27 [ -->>
http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=vxr-001:1988:47::31 ]). Совершенно
независимо от Маньчака и на своем ономастическом, топонимическом материале
пришел к аналогичному заключению болгарский лингвист Й. Заимов, по мнению
которого, топонимические данные не подтверждают этот так называемый "второй
прорыв", или поток славян через Нижний Дунай в Болгарию с севера, наоборот, все
известные данные говорят за то, что славяне сначала спустились со Среднего Дуная
до Македонии, откуда потом часть из них двинулась на восток-северо-восток,
осваивая собственно болгарские территории (Заимов И. Заселване на българските
славяни на Балканския полуостров. София, 1967, с. 100 и сл.; Он же. Български
географски имена с -jь. София, 1973, с. 63, 156; Он же. Българските водни
имена като извор за етногенезиса на българския народ // Hydronimia słowiańska.
Wrocław, etc., 1989, с. 118).
10. Многое говорит за то, что расселение славян осуществлялось из Среднего Подунавья, причем в различных направлениях - к югу, как уже было отмечено, и к северу, на север от Карпат, в том числе - по долине Вислы, которая осваивалась человеком с юга на север. Это освоение носило характер инфильтрации в северных направлениях не одних только славян; по-видимому, и раньше них, и практически параллельно с ними перемещались туда также части других этносов индоевропейского происхождения. Для этих регионов характерно было чересполосное сосуществование различных этнических элементов. Нет сомнений в том, что славяне были далеко не первыми индоевропейцами к северу от Судет и Карпат. Не только германцы в северо-западной части этого обширного региона, но и несомненное для науки наличие восточнее германцев некоего "третьего этноса", то есть не германцев и не славян, но в целом достаточно интенсивно контактировавших с первыми, а, возможно, и со вторыми, а позднее, видимо, вновь ушедших к югу, а частично и ассимилированных другими. В этой ситуации нет ничего более естественного как перенесение германцами имени этого промежуточного "третьего этноса" на постепенно замещавшее прежних обитателей славянство. Поскольку германцы стали звать своих славянских соседей явно чужим именем "венеды", мы можем утверждать, что мы знаем, как назывался упомянутый особый "третий этнос". Он носил имя "венеды", точнее (со снятием действия германского передвижения согласных) - "венеты". Это были индоевропейцы вероятной иллирийской принадлежности, так сказать, северные иллирийцы. Это уже давняя научная констатация, но если в свое время ученые с воодушевлением искали и находили повсюду следы этих иллирийцев, то затем, осудив это увлечение как "паниллиризм", стали интерпретировать порой одни и те же факты совершенно иначе. Этот поворот
289
![]()
совпал с опубликованием идеи существования "древнеевропейской" гидронимии (Ханс Краэ, начало 60-х годов). Эта, по-своему продуктивная концепция этнически слабодифференцированной индоевропейской гидронимии, прослеживаемой от Западной Европы до Центральной России и от Балтики до Северной Италии, последовательно разрабатывается В.П. Шмидом (Геттинген). Не имея возможности входить в подробности, укажу на недостатки концепции, которые со временем выступили явно: слишком переоценивая нивелированность "древнеевропейского" слоя, Шмид и его школа склонны категорически отрицать этническую специфику и не признают никаких иллирийцев на Севере Германии и в польских землях, зачисляя ее в "древнеевропейскую" гидронимию и топонимию праиндоевропейского происхождения. С этим, конечно, трудно согласиться; нельзя не заметить также, что, решая свои задачи, эти исследователи широко прибегают к устаревшей корневой этимологии, тем самым резко снижая вероятность своих выводов
(- Schmid W.P. Der Begriff "Alteuropa" und die Gewässernamen in Polen // Onomastica XXVII, 1982;
- Idem. Alteuropa und Skandinavien // Namenkundliche Informationen 56. Leipzig, 1989;
- Idem. Zum Namen der Dosse // Namenkundliche Informationen 58. Leipzig, 1990;
- Udolph J. Neues aus dem vorslavischen Substrat der polnischen Hydronymie // Zeszyty naukowe Wydziału humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Nr. 10, Prace Językoznawcze, 1984;
- Idem. Zu Deutung und Verbreitung des Namens Dukla // Beiträge zur Namenforschung, Bd. 23, H. 1/2, 1988;
- Idem. Die Stellung der Gewässernamen Polens innerhalb der alteuropäischen Hydronymie. Heidelberg, 1990).
А между прочим, сбрасывать со счетов этноязыковую специфику особых, неславянских индоевропейцев к северу от Судет и Карпат можно только в ущерб научной правде, которая состоит в наличии очевидных повторов ряда названий здесь и, так сказать, in Illyria proprie dicta; таковы Дукля в Карпатах и Дукља в Черногории и давно отмеченное тождество Daleminze, местность на востоке Германии, и Dalmatia, иллирийская область на адриатическом побережье (этимологизируется в связи с особым названием овцы в албанском). Столь же конкретной этнической идентификации и этимологизации требуют птолемеевские названия народов на позднейших польских землях - Βούλανες, ср. Βυλλίονες в Южной Иллирии, то есть попросту - в Албании, от иллирийского обозначения укрепленного поселения, далее, Κάρβονες, также ориентировочно в Польше античных времен, последнее, скорее всего, от иллирийского апеллатива со значением 'олень'. Смысл этих беглых заметок в том, что подобные индивидуальные образования конкретного, по всей видимости, языка нельзя зачислять в безликие "древнеевропейские" элементы либо обходить их вовсе молчанием по причине их неудобного своеобразия. Малоправдоподобен и этноисторический итог, к которому приходит школа В.П. Шмида, будто к северу от Судет и Карпат до
290
![]()
прихода туда славян были не конкретные живые индоевропейцы иной языковой принадлежности, а какой-то праязыковой (!) индоевропейский слой.
11. После сказанного нам легче будет, наверное, понять и оценить с нашей лингвистической точки зрения ситуацию в польской археологии, которая непосредственно занимается древностями к северу от Судет и Карпат. Из литературы мы можем почерпнуть информацию о том, что благодаря трудам, в основном, Годловского среди части польских археологов, а также лингвистов приобрела популярность концепция, пришедшая на смену польской автохтонистской теории, кризис которой, видимо, назревал давно
(- Godłowski К. Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Wrocław, etc. 1985;
- Rzetelska-Feleszko E. Perspektywy badań nad przedsłowiańskimi nazwami rzecznymi na obszarze Polski // Hydronimia słowiańska. Pod red. K. Rymuta. Wrocław, etc. 1989;
- Popowska-Taborska H. Przydatność badań językowych do rekonstrukcji wczesnych dziejów Słowian // Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań językowych (отд. отт.)).
Тщательно документируя конец пшеворской культуры и увязывая его с оттоком германского населения к римским границам (юго-запад, юг) и с готской миграцией на Юг Украины, исследования этой школы сосредоточиваются на возникающем "вакууме заселения" (pustka osadnicza), протяженностью примерно около ста лет. Появление славянского населения датируется при этом лишь началом VI в., а сам постулируемый приход его с Востока изображается весьма схематично и недостаточно убедительно. Остается также для нас, лингвистов, неясным, как непротиворечиво увязать этот тезис о полном "вакууме", а значит, перерыве непрерывности и очевидную все-таки для всех преемственную связь и сохранность немалого числа различных дославянских индоевропейских следов в топонимии Польши. Абсолютной "пустоты", разумеется, не было. Полемическая заостренность против "автохтонизма" привела, похоже, к тому, что не принимается в расчет более ранняя (до VI в.) возможность славянской инфильтрации, которая могла и ускользнуть от внимания археологов; ведь сам Годловский тоже признает, что отсутствие археологических стоянок еще не говорит о незаселенности! Поэтому уместно напомнить, например, о взглядах В. Хенселя о непрерывности культурного развития этих территорий от римской эпохи и даже более ранних эпох до раннего средневековья, ввиду большей адекватности этих взглядов лингвистическим аргументам, свидетельствующим - я считаю долгом это лишний раз подчеркнуть - о реальности прямых венетско-славянских контактов (сюда же несохранившиеся названия племен и мест явно дославянского вида вроде Licicaviki, Śrem и др. в польской и соседних письменных традициях), а, следовательно, и о более раннем появлении здесь славян. Кроме того, лично у меня создалось впечатление, что В. Хенсель обнаружил
291
![]()
гораздо большую готовность к диалогу, чем кто бы то ни было другой в современной польской археологии. Славянский этнос к северу от Судет и Карпат не только ассимилировал местных неславянских индоевропейцев, как это произошло с вероятными иллирийцами силингами (польск. Śląsk 'Силезия' < праслав. *sьlęźьskъ < *siling-), но и вовлекал их в откатную волну своих миграций к югу, что случилось с неславянским племенем милингов, завуалированных, например, в названии деревни Mlądz под Варшавой, согласно удачной этимологии З. Штибера, из праслав. *mblęg- < дославянское *miling-. Вместе с потоком славян, залившим Грецию, эти милинги дошли до юго-западной оконечности Пелопоннеса и там осели (Константин Багрянородный, De adm imp., X век, повествует о племени Μηλιγγά уже как о славянах).
12. Исследователи, которые помещают предположительный древнейший ареал балтов в верховьях Днепра и Оки (Бирнбаум, Голомб), явно недооценивают очень древние балто-дакофракийские контакты. Поскольку затронутые этими связями палеобалканские индоевропейцы (фракийцы) уже очень рано распространились также в западной части Малой Азии (предполагается, что это имело место уже во II тыс. до н.э.), куда, кстати, эти фракийские племена принесли с собой и точные ономастические соответствия балтийским названиям племен и поселений - таким, как Kaunas, Prienai в Литве (а в названии турецкого города Bursa, античное Προυσα к югу от Мраморного моря, до наших дней сохранилось имя западнобалтийского народа прусов), правомочен вывод о датировке балто-палеобалканских отношений III тыс. до н.э. (Дуриданов). Эти балто-палеобалканские контакты могли осуществляться во всяком случае южнее Припяти, где прослеживаются гидронимические и топонимические следы как балтийских, так и балканско-индоевропейских языков. В науке неоднократно ставился вопрос о непрерывности связей балтийского и палеобалканского топонимических ареалов (ср. Римша В. Балтийские и палеобалканские соответствия некоторых названий рек Правобережной Украины // Советское славяноведение 1982, № 1, с отсылкой, в частности, к книге О.Н. Трубачева о гидронимии Правобережной Украины, 1968 г.). Для нас сейчас существенно другое, что именно там, южнее Припяти, основываясь на только что изложенных данных, следует искать и древнейший балтийский этноязыковой ареал вообще. Вспомним то, что говорилось выше о древнейших славянско-латинских языковых контактах, которые также относились к III тыс. до н.э. и притом локализовались предположительно в другом регионе (Среднее Подунавье, Паннония, словом - близость к Центральной Европе). Что касается балто-славянских отношений, то они не дают оснований говорить ни о балто-славянском языковом единстве, ни о каком бы то ни было дочернем (или сыновнем) отпочковании праславянского от западной части прабалтийского, но только о вторичном, постэтногенетическом
292
![]()
(хотя уже довольно длительном, насчитывающем две - две с половиной тысячи лет, начиная с эпохи железа) сближении славянского и балтийского. Даже те, кто еще не отказался от понятия "балто-славянская общность", склонны порой его осмысливать как своеобразный языковой союз (см.: Boryś W. Leksyka prasłowiańska a leksyka bałtycka // Z polskich studiów slawistycznych, seria VI. Warszawa, 1983, c. 69).
13. Говоря о лингвистической характеристике Среднего Подунавья, можно согласиться с тем, что здесь многое еще не сделано. Отсутствует, например, единый свод славянской топо- и гидронимии среднедунайского региона - стран к югу от Судет и Карпат, то есть приблизительно в рамках старой Австро-Венгрии или ее значительной части. Правда, в масштабе отдельных частей этого региона предшественниками проделана серьезная работа, на которую можно опереться. Это "Slovenský juh v stredoveku" Я. Станислава, с богатым материалом по венгерской ономастике славянского происхождения, капитальные описания ономастики различных комитатов Венгрии, ряд изданий "Этимологического словаря географических названий" Л. Киша (на венгерском языке), исследования В. Шмилауэра по гидрографии Словакии и по заселению Чехии, ряд частных работ И. Книежи, Э. Моора и других славистов и унгаристов.
Специфика среднедунайского аспекта разысканий древнейшего ареала славян, как известно, еще и в том, что на нем как бы тяготеет репутация чего-то очень старого (времен Нестора-летописца и средневековых чешских и польских хронистов) и как бы донаучного. И поэтому, несмотря на то, что новая попытка реабилитации и обоснования древнего обитания славян на Дунае предпринимается с позиций современной науки, отношение к этому преобладает сдержанное. Сдержан в своей оценке, например, X. Бирнбаум (Лос-Анджелес, Калифорнийский университет), уделивший больше других внимание моим работам на эту тему, при всем том, что он весьма высоко ставит научный уровень и аргументационную оснащенность этих работ (см. Бирнбаум X. Праславянский язык. Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987, passim; Он же. Славянская прародина: новые гипотезы // Вопросы языкознания 1988, № 5). Кстати, о фактах. Не следует думать, что главная уязвимость этой новой гипотезы ("новой" - по той логике, что она - из числа того старого, которое забыли и не желают вспоминать) - что главный изъян здесь - в недостатке фактов. Фактов разных уровней много, можно сказать - достаточно, и в нынешнем своем изложении я привел немало таких, от которых не отмахнуться, но предубеждение, нежелание расстаться с привычными убеждениями всегда было сильнее всяких фактов. Вот и мой дружественный критик Бирнбаум все-таки заключает: "Моя собственная нынешняя точка зрения такова, что наиболее раннюю область расселения славян, уже полностью сформировавшихся как таковых, следует, правда, предполагать
293
![]()
между Карпатами и Средним Днепром, но что отдельные славянские группы могли вскоре перевалить через Карпаты или обойти их и что вслед за ранним прорывом славян вплоть до Юга Балкан (Греция), приходящимся еще в позднепраславянскую эпоху, позднее последовал отток из наиболее южных районов (хотя при этом отдельные славянские племена, как например милинги и езериты на Пелопоннесе, осели там навсегда), и мы должны также считаться с обратной северо-восточной миграцией (в области, которые славяне населяли когда-то, а частично и продолжали населять, в частности, Трансильванию, но также и Волынь-Подолию и Среднее Поднепровье) либо с дальнейшим переселением и теперь уже северо-западным распространением славян (в нынешний немецкий ареал между Одером-Нейсе, с одной стороны, и Эльбой-Заале, с другой, а также за их пределы" (Birnbaum Н. Zur Problematik des Urslavischen // Croatica-Slavica-lndoeuropea // Wiener slavistisches Jahrbuch. Ergänzungsband VII. Herausgegeben von G. Holzer. Wien, 1990, S. 22-23). В основе своей вполне традиционная, концепция Бирнбаума, кажется, некритически дополнена новыми утрированными построениями Г. Кунстмана о приходе славян на берега Балтийского моря и в другие северные районы с Юга Балкан, из Греции, Далмации. Надо знать, что у Кунстмана все построено на диковинных и неприемлемых этимологиях вроде слав. *uklěja (название рыбы) - из греч. εὔκλεια 'добрая слава' (!), Arkona, местное название, - из греч. ἄρχων, абодриты, название племени, - из греч. ἀπάτριδες 'безродные' и т.д. в том же роде (Kunstmann Н. Beiträge zur Geschichte der Besiedlung Nord-und Mitteldeutschlands mit Balkanslaven. München, 1987, passim). Мою теорию Кунстман не совсем точно называет "neue illyrische These" и характеризует ее как "ошибочные выводы из остроумных наблюдений", подразумевая под последними мои этимологии. Так что - плохо ли, хорошо ли - какой-то диалог завязался, а это, наверное, важно. Все-таки идея дунайской прародины славян вновь носится в воздухе и уже не один год. Вовсе не стремясь все сводить к своим работам, я с удовольствием назову здесь диссертацию, выполненную в 1983 г. в Колумбийском университете и основанную на пересмотре исторических источников в пользу положительного решения вопроса о дунайской прародине славян: Bačić J. The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their arrival on the Balkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective. Columbia university. Ph. D. 1983. Ann Arbor, 1984.
Автор диссертации, Яков Бачич, американский славист, хорват по происхождению, работал тогда в университете города Юджин, штат Орегон. Он приехал оттуда на автомобиле за 400 км в Сиэтл специально, чтобы послушать мою лекцию по этногенезу славян, которую я прочел в Вашингтонском университете Сиэтла в мае 1986 г. Вообще в ту мою поездку в США в апреле-мае 1986 г. пять американских университетов из десяти проявили интерес именно к
294
![]()
этногенезу славян (Колумбийский, Мичиганский, Чикагский, Вашингтонский в Сиэтле и Калифорнийский з Беркли, Сан-Франциско). Аналогичный интерес к этногенезу и прародине славян мне хотелось бы предположить и у нашего читателя, слушателя, студента, просто - коллеги одинаковой со мной или близкой специальности, и иногда это действительно проявляется, причем совершенно неспровоцированно. И это как раз не должно удивлять хотя бы потому, что названный сюжет, будучи, как сейчас говорят, наукоемким в высокой степени, питает не только мысль, но и самосознание. Больше удивляет, когда, вместо ожидаемого бескорыстного интереса (а он только и нужен), встречаешь холодносдержанное отношение, тщательное неупоминание или заглазные реплики, вроде того, что "никто так не думает, он. один так думает" (это насчет дунайской прародины славян), как если бы такие вопросы решались через групповую договоренность или голосование (а я все больше думаю, что наши столичные интеллектуалы превыше всего ставят групповую договоренность). Впрочем, вполне возможно, что это тот случай, который имеют в виду чехи, когда говорят - to chce čas (приблизительный перевод "потребуется время, чтобы это пришло"). Еще два литературных примера, без комментариев, для информации. Один довольно странный анонимный материал-проспект, опубликованный на русском языке в журнале "Slavia" (ročn. 59, 1990, seš. 3, с. 308 и сл.) под названием "Очерки истории культуры славян. Т. 1. Раннее средневековье" эшелонирует, так сказать, по степени важности: "Ч. 1, § 1.... Гипотезы о местонахождении славянской прародины. Висло-одерская, висло-днестровская (днепровская? - O.T.), висло-одерско-днестровская. Другие теории (припятская, неманско-припятская, карпатская, дунайская)". Ну, и еще назову вузовский учебник, изданный в современной Грузии: Чедиа В.В. Введение в славянскую филологию. Изд. Тбилисского ун-та. Тбилиси, 1990, с. 81, карта "Территория праславянского языка в ранний период его развития", с нанесенными ареалами по гипотезе A.A. Шахматова (Неман - З. Двина), Л. Нидерле (к северу от Карпат - до Припяти), М. Фасмера (бассейн Припяти), Я. Розвадовского (Верхний Днепр - Десна), Т. Лер-Сплавинского (от Одера до Среднего Днепра), О.Н. Трубачева (Средний Дунай). - В перечне и на карте учебника следовало добавить, по крайней мере, еще две гипотезы - среднеднепровскую (Ф.П. Филин, К. Мошинский) и карпатско-галицийскую (Ю. Удольф). Именно с этим последним ономастом, принадлежащим к школе Вольфганга Шмида, я позволю себе подискутировать в заключение, предложив один-два эпизода, одновременно - наукоемких, раз уж мы заговорили таким современным языком, и весьма существенных в плане наших этногенетических разыскании.
14. Из названий рек Среднего Подунавья особое внимание привлекает Morava, название левого притока Дуная. В этой своей чешско-
295
![]()
словацкой форме данный гидроним безусловно принадлежит славянскому, однако его распространение в славянском мире весьма своеобразно и, можно сказать, ограниченно, причем можно утверждать, что все прочие примеры Morava так или иначе восходят к среднедунайской Мораве: это и Morawa в бассейне Вислы, на польской территории, и более проблематичная Мурава по Днепру и несколько особая Murachwa в бассейне Днестра (точно так же вторична южная, сербская Морава, на которой мы здесь не останавливаемся). Безусловность восхождения остальных (в общем немногочисленных) западно-, восточно- и южнославянских случаев к среднедунайскому Morava позволяет взглянуть на последний как на изначально эндемичный именно для Среднего Подунавья. Древность славянского Morava подтверждается наличием близкой формы названия этой реки - Marus - у латинских авторов (Тацит, Плиний) практически с начала нашей эры. Своеобразие этой древней записи Marus заключается в том, что до сих пор языковедам не удалось сколько-нибудь однозначно идентифицировать ее языковую принадлежность. Ясно, что это не германская форма, поскольку отмечены случаи ее вторичной германизации: такова, по видимому, Murachwa на Днестре, позволяющая предполагать старое герм. Marah(w)a, как бы с вторичным подравниванием исхода слова под герм. *ahwō 'река, вода'. Нет у гидронима Marus ни характерных иллирийских, ни фракийских языковых примет (его пытались зачислить в иллирийские и фракийские). Вместе с тем индоевропейская принадлежность названия Marus не оставляет сомнений, но это как бы недифференцированно индоевропейская форма, то есть подходящая по своей характеристике под понятие "древнеевропейской" гидронимии тем более, что Marus, будучи этимологически родственно и.-е. *mori 'море', является классическим гидрографическим термином, которые и составляют, по концепции Краэ, корпус "древнеевропейской" гидронимии ("Wasserwörter"). Правда, в отличие от значительной части выявленных по настоящее время "древнеевропейских" гидронимов, Marus совершенно не наделен их летучестью, будучи эндемичным, как уже сказано, среднедунайским названием. В свете изложенного преемственность Marus - Morava кажется особенно тесной и как бы непрерывной. По-видимому, именно так надо оценивать эти отношения недифференцированно индоевропейского Marus и уже славянского Morava, ибо говорить о "славянизации" дославянского Marus (так еще Фасмер, позднее - Удольф), значит подчеркивать разноязычность обеих форм и как бы перерыв непрерывности, на что у нас нет в данном случае больших оснований. Случай, кажется, нуждается в более тонком подходе, ибо перед нами пример индоевропейско-славянской языковой преемственности в исследуемом регионе. Античное Marus, кстати, структурно весьма близко тоже античным и тоже среднедунайским гидронимам Savus, Dravus - современные Sava, Drava. Совершенно очевидно, что те речные
296
![]()
названия более мелких рек - Sawa, Drawa, которые известны уже на территории Польши, - явно вторичные и четко среднедунайские импорты на север. И Sava, и Drava - тоже индоевропейские названия без четкой этноязыковой характеристики (различия корневого вокализма a/o между ними и славянским Morava нужно иметь в виду, но они носят второстепенный характер). Случай эндемичного среднедунайского гидронима Marus-Morava, совершенно четкая однонаправленная его и двух других только что рассмотренных речных названий миграция на север со Среднего Дуная, результатом чего явились Morawa, Sawa и Drawa на польских территориях, небезразличны для нас в аспекте теории дунайской прародины славян и в общем числе критериев каких бы то ни было других воззрений на этноязыковое прошлое славян. Я не могу пройти мимо того бросившегося мне в глаза факта, что в исследованиях В.П. Шмида и Ю. Удольфа интерес к этому ряду Marus, Savus, Dravus - польск. Morawa, Sawa, Drawa как раз упал, хотя речь идет о заведомо древних по происхождению гидронимах с территории Польши, которой геттингенские лингвисты уделяют повышенное внимание в общем плане "древнеевропейской" гидронимии. Причина такого умолчания (в новейшей книге Удольфа 1990 г. о месте польской гидронимии в рамках "древнеевропейской" гидронимии практически не обсуждается Morawa) - в однобокой подчиненности всего изложения постулату Шмида о центральной позиции балтийской гидронимии в "древнеевропейской" гидронимии в целом; в русле этой концепции Польша подчеркнуто рассматривается как соседняя с балтийским ареалом и переходная по отношению к последнему. Как раз Morawa не имеет балтийских соответствий, хотя, как мы видели, вполне претендует на статус "древнеевропейского" названия. Это "выпадение" ее из жесткой концепции Шмида - Удольфа решило ее судьбу. Практически, замечу, то же можно сказать и о речных названиях Drawa, Sawa: четких балтийских соответствий им нет. Лично меня эта особенность не удивляет и не смущает, потому что я никогда не разделял крайних взглядов о центральности балтийской гидронимии в составе "древнеевропейской" и уже высказывал свои соображения о скоплении названий "древнеевропейского" вида в Прибалтике как о периферийной "вспышке" в зоне экспансии. Не будучи скованы описанным комплексом, мы, надеюсь, можем по достоинству оценить важность гидронимических свидетельств Marus, Savus, Dravus для проблемы древнего дунайского ареала славян.
Что касается праславянского гидронимического инвентаря Среднего Подунавья в целом, то я уже писал о том, что, несмотря на тысячелетнее господство иноструктурного венгерского языка, древние славянские водные названия этого региона обнаруживают наличие четких славянских словообразовательных и морфонологических признаков (суффиксальные производные, префиксальные и двуосновные сложения) и моментов архаики, а именно - почти исключительное
297
![]()
использование физиографической лексики типа уже упоминавшихся "Wasserwörter" Краэ).
15. Сказанное относится и к западной части Среднего Подунавья, традиционно именуемой Паннонией. Постепенно проясняются детали древней славянской номенклатуры Балатона и его окрестностей. При этом слав. *Pleso (ср. античное название Балатона - lacus Pelso у Плиния, NH III, 24) было названием большей, плесообразно вытянутой части озера. Здесь полезно обратить внимание на ареально наиболее близкие случаи значения 'озеро' у словацкого слова pleso. Что касается так называемого Малого Балатона (венг. Kis-Balaton), более заболоченной части озера, то Книежа в свое время полагал, что название Balaton относилось по понятным причинам именно к нему (Zelko I. Prekmurska ledinska imena in panonskoslovenska // Slavistična revija, letn. 33, 1985, št. 4, c. 464). Так снимается старое - мнимое - противоречие между двумя названиями Балатона, античным и венгерско-славянским, притом, что оба оказываются конкретно приуроченными славянскими. Разумеется, венг. Balaton является аккомодацией славянского *boltьnъ, *Блатьнъ 'болотный', которое логичнее ассоциировать с названием древнего города у западных берегов Малого Балатона (церковнославянское *Блатьнъ градъ кирилло-мефодиевских времен). Сам же Малый Балатон с его топкими, поросшими тростником берегами назывался у славян, наверное, просто *Bolto, Болото. К славянской номенклатуре этого озера удивительно близко и античное название древнего племени Oseriates, озериаты (разве только суффиксальное оформление -iat- тяготеет к неславянскому - иллирийскому; здесь нельзя не вспомнить близкое племенное название Ἐζερῖται у Константина Багрянородного, De adm. imp., упоминаемое там уже как название славянского племени, наряду с милингами, на Пелопоннесе, о чем у нас было выше).
Мы подходим к важному вопросу сопредельности и сосуществования славянского и неславянского этносов на одной и той же территории, в таком очевидном разноязыком и разноэтническом регионе, каким была древняя Паннония. Конкретно я имею в виду иллирийско-славянскую преемственность, поскольку славянская лексика и семантика 'болото', 'болотный' точно воспроизводит значение иллирийских названий *Pannona 'болотный (город)' (убедительно проэтимологизировано еще Фасмером на базе близкой индоевропейской диалектной лексики со значением 'болото'), откуда Pannonia - что-то вроде 'Страна Болотного города' (название страны по главному городу - не редкость в древности). Одна такая пара иллирийско-славянской преемственности в данном районе существенно перевешивает негативный фактор естественной малочисленности следов славянства, дошедших до нас именно в Паннонии. Правильно истолковать их, найти к ним подходы дает возможность только новая концепция древнего обитания славян на Дунае. Против нее направлена
298
![]()
полемическая статья Ю.Удольфа под названием-вопросом "Kamen die Slaven aus Pannonien?" (Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej. T. 1. Wrocław, etc. 1987, c. 167 и сл.). Скажу одно: от решения этого главного и очевидного вопроса Удольф уходит и ответа на него дать не может, повторяя лишь заключения предшественников, что Pelso не связано со слав. pleso, которые нас удовлетворить не могут. Гетерогенное языковое сосуществование он недооценивает (иллирийцев, как мы знаем, и Удольф, и его учитель Шмид игнорируют). Остается добавить, что при этом Удольф демонстрирует явно не лучшие образцы этимологического анализа, обнаруживая склонность опять же к оголенно корневой этимологии. Даже Bustricius, средневековая запись паннонского гидронима, Упольф охотнее связывает с какими-то близкими германскими апеллативами(?), чем с гидронимически тождественным славянским Bystrica. Убедив сам себя, автор заключает статью утвердительно: "Die Slaven kamen nicht aus Pannonien". Дело за малым - убедить также нас.
16. Свое беглое изложение относящихся сюда проблем я, наверное, закончу признанием, что проблем этих больше, чем удалось охарактеризовать здесь, и они принадлежат самым различным уровням и имеют разную хронологию, начиная с индоевропейской, если вспомнить об идее концентричности праиндоевропейского и праславянского ареалов - идее, имеющей не один только языковой аспект (ср. мнение об индоевропейской принадлежности дунайского культурного круга), но и языковой аспект этой индоевропейско-славянской концентричности в общем прочно укоренен в науке (здесь достаточно сослаться на отнесение индоиранских, греческих, германских, балтийских и славянских диалектов к центральным с их инновациями - ассибиляцией палатальных, утратой придыхания звонких смычных, в отличие от периферийных, архаизирующих индоевропейских диалектов - тохарских, анатолийских, италийских, кельтских: Kortlandt F. The spread of the Indo-Europeans // The Journal of the Indo-European Studies, vol. 18, Nos. 1-2, 1990). Далее назовем проблему широкой типологической и исторической переинтерпретации отношения названий Великая Моравия versus Моравия, насчет которых в литературе, кажется, преобладают солидные заблуждения. По-прежнему остро стоит задача правильной интерпретации источников, среди них - тот случай, например, когда, читая небольшой, но важный для дунайской проблемы текст анонимного баварского географа "Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii" (Описание городов по северному берегу Дуная), все-таки неоправданно вырывают многие названия из контекста - от их приуроченности именно к северному берегу Дуная. "Северный", тождественное нашему 'левый', было, по-видимому, во многих отношениях актуально и для географической ориентации региона и для номинации. Последнее уместно вспомнить в связи со среднедунайскими северянами, которые
299
![]()
одновременно и левобережное дунайское племя, от какового в местной венгерско-румынской топонимии сохранились лишь смутные следы, а было это, наверное, значительное племя, ибо о нем у баварского анонима говорится как о "королевстве, откуда будто бы вышли все славяне, как утверждают" (в памятнике стоит форма Zeriuani, которую еще Нидерле отнес к Прикарпатью, а другие прямо отождествляют с древнерусскими северянами). Но проясняющаяся сейчас схема движения славян со Среднего Дуная на юг, а оттуда - на восток, в позднейшую Болгарию, делает более осмысленным возведение к среднедунайским северянам (= левобережным дунайцам) и этих север, или северян, Северо-Восточной Болгарии, которых слишком прямолинейно увязывали с древнерусскими северянами. Приход последних с Дуная - особый, но тоже вполне законный вопрос.
© Palaeoslavica I (1993), р. 9-40.
2. К ОТДАЛЕННЕЙШИМ ИСТОКАМ НАШЕГО САМОСОЗНАНИЯ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОДНОЙ КНИГИ
Книга [*], о которой дальше пойдет речь, вышла в свет в самом конце 1991 г. тиражом в одну тысячу экземпляров, что заведомо обрекло ее на малую доступность. Но даже если бы издатели расщедрились на тираж, по крайней мере, в десять или пятнадцать раз больший (что в глазах человека, знающего фактическую сторону дела, не нуждалось бы в оправдании - ведь затрагиваются древние судьбы доброй дюжины языков, народов, культур...), я должен признать, что все равно и тогда оставался бы этот барьер ограниченной доступности. Обычный в таких ситуациях парадокс сводится к тому, что широкое читательское внимание затрудняется библиографическим и операционным аппаратом, столь необходимым автору для аргументации мыслей, которыми он так хотел бы поделиться с читателем. Короче говоря, книга написана для специалистов, как сказано в аннотации к ней: "для языковедов, историков, археологов, этнографов, всех интересующихся вопросами славянской культуры". Но, думается, что и не только для них одних; было бы обидно, если бы книги писались специалистами для специалистов,
*. Трубачев О Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М.: Наука, 1991, 271 с.
300
![]()
то есть для самих себя... В научной информации наибольшую ценность представляет все же та сердцевина, которая способна заинтересовать наибольшее число людей. За примером далеко ходить не надо; книга, о которой я собираюсь рассказать, излагает некоторые новые для науки взгляды на этническое прошлое славян, в их числе - русских, украинцев, белорусов (славян восточных), а также южных и западных славян. Субъектом описываемых или воссоздаваемых (реконструируемых) отношений оказываемся мы сами (постольку, поскольку в нас продолжается жизнь наших предков), а это, согласимся, не может не интересовать нас. Рано или поздно каждый человек задает себе этот вопрос, - кто он и откуда. Вернее будет сказать, что для самого человека лучше, если вопрос этот он задаст не слишком поздно. Речь идет о самосознании человека, о том, что ему самому было, в общем, всегда едва ли не дороже хлеба насущного. В наше время, не очень богатое хлебом, мы видим тому достаточно подтверждений, вплоть до трагических сигналов.
Бывает, к сожалению, когда из-за недостатка популяризации до широкой читающей публики не доходят факты и идеи, которые того заслуживали бы. Это, конечно, наша, авторская, вина или беда, признаюсь - и моя тоже. Вот поэтому, когда меня пригласили рассказать о вещах мне близких и одновременно представляющих общий интерес, я вспомнил о такой форме, как презентация книги, к которой сейчас время от времени прибегают (главным образом, на политической арене). Тем более, что осенью 1991 г. я уже имел случай беглой презентации своей книги, выступая в Гейдельбергском университете по проблемам культуры древних славян на основании свидетельств их языка и прежде всего - этимологии.
Спектр по-настоящему интересных вопросов здесь огромен, и было бы заблуждением полагать, что все это кануло в безвозвратное прошлое и никого теперь, кроме узких специалистов, не касается. Наша нынешняя культура - лишь маленький отрезок, эпизод продолжительной и непрерывной - в серьезнейшем смысле этого слова - культурной эволюции. Убедить нас повернуться к ней спиной, вообще попрать или, скажем, вдруг начать датировать ее с октября или, чего доброго, с августа никто не вправе. Если бы речь шла о сущих пустяках, то ими так охотно не спекулировали бы иные политики, как они это делают подчас сегодня на все лады. Удивительные ухищрения можно наблюдать на примере названия Великороссия. Давно ли уважаемый читатель встречал его в последний раз в прессе, в политической литературе? В том-то и дело, что и припомнить трудно, а умолчание - метод испытанный. Сначала - посеять подозрение, что Великороссия - термин шовинистический, великодержавный, а потому-"не наш", затем постараться спустить эту установку в школьные учебники истории и - дело сделано, еще одной печатью припечатано наше самосознание, получен еще
301
![]()
один суррогат, вместо подлинного знания. А пытливый взгляд честного историка языка и этноса видит другое: такие названия, как Велико-россия, Велико-британия никакого самовеличания перед другими странами, другими народами, как это многим до сих пор мнится, не выражают. Их подлинный, изначальный смысл делается понятным из окружающего контекста, потому что названия эти возникли как ориентационные, они как бы знаменуют область вторичной колонизации и ее отношение к области исходной. Так, Великобритания (раз уж мы ее упомянули) образует в указанном смысле пару с Бретанью, исходной областью на материке; древнейшая колонизация острова шла оттуда. И таких примеров довольно много в древней истории разных стран и народов; жаль, что почти все они оказались принесены в жертву политическим спекуляциям и кривотолкам. Проистекающие отсюда искривления национального самосознания и раздор между близкими нациями делают понятным, насколько все это небезобидно. А в сущности тут все довольно просто: и античная Великая Греция - это вторичные поселения греков в Нижней Италии, и Великая Моравия времен наших первоучителей - свв. Кирилла и Мефодия - это область к югу от той Моравии, что в теперешней Чехии. Иногда старая, исходная область начинает в итоге называться "Малая", "Мало-", что также не следует понимать буквально или оценочно. Например, в составе польских земель Малопольша зовется так именно по той причине, что славяне, предки поляков, освоили ее раньше, чем Великопольшу, расположенную дальше на север. Знать эти примеры необходимо и нам, если мы хотим правильно понимать самих себя, живущих в Великороссии, для которой - для Руси Великой - Русь Малая, Малороссия всегда имела смысл Руси изначальной.
Ушло то время, когда земли к югу от Припяти и Десны звались Русью и возобладало (тоже старинное и объективное) название этих земель за их окраинность - Украина. В живой речи на Украине никто теперь Украину Русью не называет. Следы былого, как нередко бывает в подобных случаях, еще хранятся, впрочем, на собственных перифериях национально-культурного ареала да еще у соседей. На крайнем западе Украины еще сохраняется память называния этих мест Подкарпатской Русью, а жителей - русинами, так же зовут себя по сей день жители небольшого украинского (украинскословацкого) очага в Югославии. До недавнего времени и поляки употребляли слово Русь для обозначения Украины. Да, память все же стирается, а вакуум знания заполняется его суррогатами. Эти названия, на которые я приглашаю взглянуть лишь как на объективные указатели направления великих миграций прошлого, в нашем случае - с Руси изначальной, приднепровской на позднейшую Великую Русь (и - никак иначе! Хотя ведь пытаются и иначе - представить дело так, будто великорусы Новгорода Великого прибыли откуда-то с запада и лишь потом, по пути вниз по Днепру, встретились с довольно
302
![]()
чужой южной Русью...), - эти названия Русь, Малороссия, Великороссия порядком захватаны грязными руками политиков и ими же, похоже, прежде времени сданы в архив. Цель: искажение и моделирование рядового сознания, как раз выгодно нетвердого по части правильного понимания подлинной истории наших названий, а через них и - своей собственной истории. Когда я говорю "история", я хотел бы при этом не ограничиваться позитивистским, прямолинейным пониманием истории как только письменной истории, то есть только того, что черным по белому записано в ее анналах. Во-первых, любая самая богатая письменная традиция обязательно грешит пробелами; кроме того, запись явления и возникновение явления в живой речи - это совершенно разные вещи, запись сплошь и рядом случайна, и название всегда появляется намного раньше. В нашей - исторической науке, по-моему, не очень утруждают себя правильным пониманием этих различий. Так, Москва (обозначение и обозначаемое) появилась, конечно, намного раньше случайной летописной записи под 1147 годом. А ведь с легкой руки историков именно эту дату записи празднуют как дату основания города... Точно так же позитивист готов факт первого упоминания Великой и Малой России в документах константинопольской греческой патриаршей канцелярии XIV в. представить чуть ли не как время и даже - место возникновения названия, тогда как мы здесь имеем дело со случайной записью, упоминанием того, что возникло раньше и в совершенно другом месте. Принципиальную зависимость исторической науки от письменных источников и осторожность ее по отношению ко всякой реконструкции понять можно. Но - этого явно недостаточно для более глубокого постижения всей Истории, значительная часть которой так и не отложилась в письменности. Для этих целей требуются и реконструкция, и широкое сравнение форм, и - не в последнюю очередь - правильная оценка типологии их возникновения, развития и употребления. Все это - задачи современного сравнительного языкознания, которые обретают полную свою актуальность, просто призваны прийти на помощь в большом вопросе генезиса Великой, Малой, Белой Руси, их названий, отделить идеологизированные, политизированные плевелы от самого зерна, прояснить, оздоровить сознание тех людей, которым это небезразлично, потому что это их язык, их народ, их страна.
Я коснулся несколько подробнее эпизода, который может представить общий интерес, а в моей книге, которую я тут как бы "презентую" читателю, он занимает совсем немного места. Мне, кстати, думается, что презентация и не должна сводиться к чинному изложению содержания частей и глав книги. Имея перед собой широкого читателя, носителя исследуемых в книге языков, я просто предлагаю ему несколько произвольный выбор решений, ответов на возникающие вопросы или то, что можно отнести к полезным
303
![]()
сведениям. Избрав, таким образом, жанр свободной беседы, я позволяю себе порой также совсем выходить за рамки презентуемой книги, делиться дополнительными впечатлениями и соображениями, главное - лишь бы они были на тему истоков нашего самосознания.
Но сначала - несколько слов о центральном для нас этническом названии, которому и в книге уделяется заслуженно большое место, - об имени славяне. Сейчас время всевозможных опросов населения, а я рискну тут предрешить данные опроса, который никем не проводился. Боюсь, что, вздумай кто сейчас опросить достаточно большое число русских - людей села или людей "у станка" (интеллектуальные слои оставим в стороне), задав им один-единственный вопрос: сознают ли они себя славянами? - уверенных ответов практически не будет. Вероятно, вопрос вообще останется непонятым. А было так не всегда. То, что мы можем наблюдать сейчас, есть определенная деградация самосознания. Возможно, началась она давно, но довершали, "добивали" ее уже на памяти последних поколений. Люди, чья духовная зрелость пришлась на 30-ые годы, хорошо помнят и свидетельствуют, что слово "славянский" в их представлении было синонимом чего-то реакционного и консервативного. Юмористы и те приложили свою руку ("славянский шкаф", "гей, славяне" - очень смешно...). Война приостановила эту свистопляску, но ущерб оказался, похоже, непоправимым. А между прочим, имя славяне представляет собой замечательный культурно-исторический феномен, и я пишу об этом в вышеупомянутой книге. Дело в том, что с достаточно раннего времени это имя охватывало всех славян, независимо от их принадлежности к тому или другому славянскому племени или народу. Наличие такого единого самоназвания лучше самых изощренных тестов говорит о существовании единого этнического самосознания, сознания принадлежности к единому славянству. Дальнейшие сравнения лишь подчеркивают замечательность этого феномена, ибо оказывается, что ничего подобного мы не найдем у древних германцев и древних балтов: и у одних, и у других представлены свои группы названий отдельных племен, а общий этноним отсутствовал (привычные нынешние обозначения "германцы", "балты" введены поздно, в научной литературе, ни германцам, ни балтам в древности они известны не были...). А ведь во времена Кирилла и Мефодия (IX в.) тогдашний болгарин, по дошедшим до нас сведениям, сознавал себя еще и славянином, а наш преподобный Нестор-летописец уверенно утверждал, что славянский язык и русский одно есть. Словом, тогда это было живое, народное самосознание, и наш, пусть запоздалый, долг - разъяснять и как-то возмещать последующее оскудение и забвение.
Но у нашей науки, кроме горестной констатации утрат, остается еще немало неиспользованных возможностей, в частности - восстановить
304
![]()
забытую историю того, как сложилось имя славяне, какие понятия и представления этому сложению сопутствовали и предшествовали. При этом, отбросив маловероятные толкования имени славян ('жители по реке Слова', 'жители влажных долин'...), высказанные уже современными нам учеными, мы оказываемся вправе завязать плодотворную перекличку с ученым-славистом еще первой половины прошлого века Шафариком. С большой долей вероятности он уже тогда связал имя славяне (словяне) и слово. Сейчас мы можем уточнить, подключив сюда и глагол слыть, древнее слути, слову, собственно 'слышаться, быть понятным, говорить понятно'. Раскрывается древний смысл имени славяне - 'ясно, понятно говорящие' (антоним: немцы, собственно 'немые, невнятно бормочущие', - обычный для древности принцип обозначения иноязычных иноплеменников). Но 'понятно говорящие' - это, в сущности, 'свои', 'наши', и эта констатация как бы подсказывает нам, что мы в состоянии частично отдернуть пелену, скрывающую от нас древний менталитет наших предков. Их имя - славяне - появилось, как мы думаем, на исходе античности, целиком неся на себе признаки древнеплеменного общества. Не преуменьшая значения межплеменных общений и древних торговых путей, все же признаем, что кругозор древнего этноса был довольно узким, обходились простейшей самоидентификацией 'мы', 'свои, наши' и в сущности еще не прибегали к особому обозначению собственного этноса. Даже когда такое самоназвание появилось, оно все еще носило отпечаток описанного архаического образа мыслей, как мы это наблюдали на примере этимологии: славяне - 'ясно говорящие'. Да, такой первобытный порог в древней истории славянского племенного общества наблюдается, можно сказать, он доступен нашему современному научному пониманию, - когда сами славяне, естественно, существовали, причем - на своих древнейших местах обитания, о которых - ниже, а обобщающего самоназвания у них еще не было. Ранние античные источники, действительно, ничего не говорят о славянах. Само имя славяне (другие их пограничные имена: венеды, анты - для краткости здесь опускаем, да и к славянам применены они были вторично) достоверно упоминается в VI в. н.э. Конечно, любители прямолинейных заключений делали из одного этого раннего неупоминания вывод, что славян до того в Европе, в поле зрения тогдашнего греко-римского культурного мира, попросту не было... Понятно, что и в первой половине XIX в. к науке охотно примешивали политику. Впрочем, сейчас на это можно взглянуть как на научный миф, одно из великих заблуждений. Славяне издавна жили в самом сердце Европы; это к северу от Карпат, в польские земли, они вступили позже; вторично и их великое расселение на Восток, в Поднепровье и по всей Русской равнине. Предания о древнем житье на Дунае хранит начальная русская летопись, хроники других славянских стран говорят о том же. Великий сын словацкого
305
![]()
народа Павел Иосиф Шафарик, а еще раньше знаменитый словенец Ерней Копитар, попытались сделать эти воззрения достоянием молодой славистической науки. В их наблюдениях много верного. В своих "Патриотических фантазиях славянина" (1810 г.) Копитар прямо указывает место "ниже Вены, на Дунае, в Паннонии...", где словаки и словенцы, точнее сказать, их предки "подают друг другу руки". В самом деле, и разрушительное венгерское вторжение более тысячи лет назад не стерло того факта, что и ныне по-прежнему с двух сторон к Венгрии примыкают два народа, до сих пор носящие славянское имя, а сама Венгерская низменность и сейчас покрыта названиями мест и рек славянского происхождения. Имя реки Дунай - не редкость в народных песнях восточных славян, ясно, что они принесли с собой с Дуная эту неизгладимую память о нем. Народная память о Дунае для внимательного глаза есть тоже элемент нашего (уже полузабытого) самосознания. Вторичность распространения славян на прочих обширных пространствах (на юге - до самой оконечности Балканского полуострова, уже на глазах раннесредневековой письменной истории) вряд ли может вызывать теперь сомнения. Зато не существует никаких преданий - ни этнических, ни исторических - об их приходе откуда-то издалека, скажем, на Средний Дунай, который так естественно смотрится как центр всех известных славянских миграций на север, восток и юг. В относительно недавнее время к поискам названных первых славистов приложились новые научные материалы, этимологии слов, изоглоссы, прочнее связывающие древнейших славян с Подунавьем, с западными индоевропейцами (древние италики, кельты, германцы, иллирийцы). Образ определенной концентричности древнейшего славянского ареала (или, как раньше еще любили выражаться, "прародины славян") и более обширного праиндоевропейского ареала, куда славяне, будучи индоевропейцами, понятно, входили, не покидал меня в течение всей работы над книгой; я не успокоился, пока не вынес эту идею концентричности на обложку книги, придав всему изображению характер схематического рисунка этой самой прародины славян на Среднем Дунае (не без борьбы с Издательством и его живописцами). Но это все - потом, так сказать, в итоге многолетних трудов над темой, обращение к которой поощрял своими находками по части этимологии слов и одновременно безмерно отягощал и затягивал капитальный, впервые в нашей стране выпускаемый мной с сотрудниками Этимологический словарь славянских языков. В этом рабочем горниле определились и окрепли убеждения о глубоких оригинальных индоевропейских истоках языка славян. Оформилось и неприятие некоторых новейших теорий о позднем, гибридном происхождении праславянского - в виде отпочкования от балтийского языка, в частности. Добавлю, что формирование самостоятельной научной позиции протекало в условиях отнюдь не легких. Не имея ничего против научных споров по существу проблемы, я с немалой
306
![]()
горечью и разочарованием наблюдал, какой яростной, неадекватной и притом - групповой - реакцией отвечают на научное расхождение, с каким пристрастием ищут в мотивах моих действий (и находят, поелику очень хотят найти!) "ложно понятый патриотизм" и даже "великодержавный шовинизм".. Нехватка научной аргументации, таким образом, компенсировалась, как видим, и некрасивыми политическими ярлыками и определенными попытками остракизма ("он один так думает, никто больше так не думает!..."). Говорят, в Институте славяноведения и балканистики АН СССР (ныне: РАН), где подобрался весьма единодушный синклит для осуждения моих научных убеждений, да и случай удобный представился (именно в это учреждение направили для обсуждения ряд моих работ), сохранился стенографический отчет, который нельзя перечитывать без чувства стыда за участников того обсуждения (1988 год, кругом - перестройка и плюрализм, а тут - откровенный погром за научное инакомыслие...). Ну, что же, наверное, и эти хроникальные листочки приложатся к истории нашего самосознания.
Да, борьбы оказалось, пожалуй, даже многовато - для человека, возлюбившего превыше всего исследование и ни на какие трибуны не рвавшегося. Отстаивать свою концепцию дунайской прародины славян оказалось трудным делом. К тому же, по принципиальным идеям первых славистов с той поры уже многократно прокатился вал позитивизма и гиперкритицизма в европейской науке, и к началу XX в. провидения Копитара и Шафарика, казалось, навсегда были сметены в корзинку "донаучных теорий"... На веру принималось только молчание древних авторов о славянах или первые полупрезрительные обмолвки о них у византийских стратегов и историографов. В древней Европе к югу от Карпат фактически не осталось для славян места. Ученые немецкой школы дисциплинированно принялись подыскивать место славянам в болотах Припяти. Время совпало с расцветом польских теорий славянского автохтонизма на Висле и Одере. Сейчас эти теории терпят кризис. Трудно полноценно объяснить всю сумму славянских проблем и со стороны припятских болот. Теперь уже слишком многое противоречит и тому, и другому. Прав был историк, сказавший, что история начиналась на юге. Она и для славян начиналась южнее и много древнее, чем привыкли обычно думать.
Возможно, еще более рутинный подход обозначился в отношении славянской культуры. Почти все за нас здесь решали западные авторитеты, и разрабатывать их идеи, по возможности не отклоняясь, было у нас достаточно, чтобы прослыть светлым умом. Ведущий индоевропеист Мейе считал славянскую культуру обнищавшим вариантом индоевропейской культуры, и все этим удовлетворились, почему-то даже не дав себе труда критически задуматься: а может быть, совсем наоборот - действительно небогатый, простой уровень древних славян и есть тот древнейший культурный вариант,
307
![]()
от которого греки, римляне, индоиранцы далеко ушли в своем развитии? Блистательный культуролог Дюмезиль развернул перед ученой Европой и Америкой серию своих красивых реконструкций трехклассового общества и сложнейшего мира богов у древних (!) индоевропейцев. Наши светлые умы, не привыкшие перечить, принялись отыскивать и то, и другое в древней культуре славян. Не находили, впрочем, многого, но почему-то, не смущаясь, видели в этом одни утраты со славянской стороны. Бедные, забывчивые славяне! Почему-то почти никому не пришла в голову единственно трезвая мысль, что речь может идти о разных стадиях культурного развития и что неразумно выдавать за общую древность высокое, а следовательно - позднее развитие античной греко-римской или древнеиндийской культуры. Образовался колоссальный научный тупик, из которого выход был один: конфузливо пятясь назад. По-человечески понять можно, что делать этого никому особенно не хотелось, инерция тупиковая росла, у наших индоевропеистов вышли толстые книги, где культура наших общих индоевропейских предков отождествлялась по своему уровню и характеру - ни больше, ни меньше - с семитской, месопотамской городской цивилизацией Древнего Востока. Там же, поблизости, заодно решили локализовать и прародину индоевропейцев... В этих щекотливых обстоятельствах терпеть научное инакомыслие у себя под боком было, конечно, совершенно невыносимо для светлых умов. Я понимаю первую реакцию на свои достаточно самостоятельные взгляды в том, что касается славянской прародины, славянских и индоевропейских культурных древностей. И все-таки, если исходить не из эмоций, а из фактов, нельзя пасовать перед этим заполонившим нашу научную жизнь эпигонством идей. Это уязвимо этически да, в конце концов, и неинтересно в научном отношении: сколько можно ходить зажмурившись мимо ярких, красноречивых фактов истории языка и культуры! Взять хотя бы один такой игнорируемый факт, что общим культурным переживанием глубокой древности оказывается лексика примитивного культа предков, неожиданно объединяющая древнейших славян и древнейших латинян (народные русские, украинские, белорусские названия призраков и духов умершей родни - манá, ман, манья и латинское mānēs 'духи предков'). Эта культурная общность уходит в те далекие тысячелетия, когда у наших предков и в мыслях не могло быть ничего похожего на верховного бога Юпитера с его многочисленным блудливым семейством, и совсем другие, архаичные представления о земле и небе владели душами людей. Я лишен возможности развертывать здесь дальнейшие факты и аргументы моей любимой науки - сравнительного языкознания, - но именно оно позволяет - через реликты языка и мышления - заглянуть в умы и души древних людей тех отдаленнейших эпох, когда пасует порой почтенная археология, а письменность еще и не зарождалась.
308
![]()
Я бы мог рассказывать еще довольно долго, значит - самое время поставить точку. Ведь для того, чтобы достигнуть убедительности, бывает достаточно небольшого числа верных мыслей и фактов. Вовсе лишнее - оглушать читателя и заваливать его тем и другим. Важно, думаю, чтобы между автором этих строк и мыслящим читателем протянулась и завязалась ниточка понимания. Остальное приложится,
...Прекрасный осенний Гейдельберг. Туман то окутает руины замка на горе, то растает. В уютном особняке международных научных форумов Гейдельбергского университета идет симпозиум. После одного доклада разгорелась дискуссия. Щеголеватый, моложавый и стройный профессор из Бонна убедительно рассуждает: "Славяне научились выражать чувство благодарности только с принятием христианства, как о том свидетельствует их лексика - спаси-бо(г), благо-дарю (буквальный перевод греческого εὐχαριστῶ) и другие..." Сижу, думаю: верно, вроде, рассуждает немец, правда, чуточку с апломбом, слишком уверен, нету доли сомнения, без которой - нет живой науки. Случись тут один из наших светлых умов, не моргнув глазом все бы принял на вооружение. И все же, все же, все же... В перерыве для питья кофию (ах, что за организация, что за порядок и довольство вокруг!) все же подхожу к нему; коллега, я думаю, что вы излишне прямолинейны, когда отказываете праславянам в чувстве благодарности и умении его выразить языком; они располагали такой возможностью... - Откуда вы это знаете? (говорит, между прочим, на отличном русском языке). Я ему в ответ: у меня есть дома кошка и собака, и им известно чувство благодарности. Справедливо ли отказывать в нем праславянам? Но это, так сказать, общий взгляд, типология, я понимаю. Я согласен, далее, с вами, что большая часть терминов, выражающих благодарность, пришла в их язык позже и извне. Но я думаю, что многозначность их древней лексики позволяла славянам выразить необходимые чувства и до этого. Возьмем глагол помнить (помнить зло, помнить добро), обороты типа народного "мы помним твою доброту, батюшка..." Вот вам и извечная, своя славянская формула благодарности.
Возражения не последовало, хотя мой немецкий коллега - не из тех, кто уклоняется от споров. Но - не возрази я, не направь его дисциплинированную немецкую мысль в более гибкое русло, так и пребывал бы в сознании своей полной правоты в суждениях о бедных древних славянах. Европой вовсю по-прежнему владеет научный позитивизм и снобизм: всё-то они знают и понимают о нас самих лучше нашего...
© Palaeoslavica II (1994), р. 313-324
309
![]()
3. ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ НА ДУНАЕ (ЮЖНЫЙ ФЛАНГ). ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ I
Недавняя публикация моей книги "Этногенез и культура древнейших славян (лингвистические исследования)" (М., "Наука", 1991, тираж 1000 экз.) до известной степени освобождает от необходимости подробно освещать все вопросы, поскольку тема и книги, и нынешнего доклада во многом совпадает. Поэтому представилось желательным ограничиться сейчас в основном одним аспектом, который при изучении славянского этно- и топогенеза по-прежнему остается, пожалуй, и наименее изученным и неизменно актуальным: это южный фланг древнего славянского ареала по данным языкознания. При этом мы кратко коснемся далее и темы Morava (проблема "Великая Моравия", практически первая проблема в программе этого съезда славистов [*], и необходимость трактовать ее особо - не в составе славянского среднедунайского исходного центра, а в плане славянской миграции из этого центра на Юг - нашла довольно подробное отражение в вышеназванной книге). Поскольку существенное значение сохраняет для нас диалог с научной литературой, позволим себе - в преамбуле - совсем кратко выделить один-два момента, важных тем, что относятся они к языку и культуре славян и - к уровню отражения того и другого в литературе. Отрадно отметить, что фундаментальная оппозиция 'свои' - 'чужие' пользуется заслуженным вниманием (1). Сам факт существования этой оппозиции и маркирования всей окружающей действительности как 'своего' или 'не своего', бесспорно, доносит до нас идеологию родового общества и побуждает соответственно к критическому пересмотру других опытов реконструкции. Неслучайно поэтому мы рассматриваем в качестве первой заповеди древнеродового устройства славян выражение *znajь svojь rodъ, основой которого могла послужить еще более монолитная figura etymologica - индоевропейское *g̑nō- su̯om g̑enom, с тем же, естественно, празначением 'знай свой род'. Я надеюсь, понятно после этого то недоверие, которое у меня вызывают утверждения, будто первой заповедью древнеиндоевропейского общества было нечто другое, а именно: "Тебе надлежит чтить богов" (2). Осторожно трезвый подход к реконструкциям сложного богопочитания уже у праиндоевропейцев, гораздо большее вероятие безымянности древних предметов культа, их слияния с природой и, следовательно, полная неприемлемость формулы-заповеди "Тебе надлежит чтить богов" для праиндоевропейской эпохи как откровенной модернизации - таковы, как кажется, выводы, к которым может привести чтение моей вышеназванной книги, к которой - для краткости - отсылаю, рассчитывая вслед за этим сразу перейти к другим вопросам.
*. XI Международный съезд славистов в Братиславе (Словакия).
310
![]()
Прежде чем обратиться к этнонимии славян, с преимущественным вниманием к их южному флангу, а также в соответствии с нашей концепцией славянского исхода из среднедунайского пространства, позволю себе кратко задержать внимание читателя на трагической по-своему судьбе следов этого среднедунайского ареала славян. Скудость письменных свидетельств усугубляется суровостью комментаторов. Невольно вспомнишь старое изречение: quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini, разве что заменив имя кардиналов Барберини, вольно обращавшихся с древностями, на позднейших и нынешних комментаторов (...fecerunt commentatores). Вот пример, вызвавший болезненную реакцию с моей стороны.
В рамках весьма полезного и своевременно изданного "Свода древнейших письменных известий о славянах", т. 1 (I-VI вв.), (отв. ред. Л.A. Гиндин и др. М., 1991), опубликована эпитафия св. Мартину Турскому, принадлежащая перу Мартина Бракарского (VI в.). Краткий этот документ привлекает внимание рядом особенностей. Среди народов, объединенных именем Христа, встречается упоминание Sclavus, Nara. Знаменательно, что оба Мартина были родом из Паннонии, причем Мартин Турский, живший и умерший в IV в., считался зачинателем славянской миссии. Это дает право предположить у него хорошее знакомство с краем и принять с доверием имена Sclavus, Nara, причем точно в такой последовательности, когда второй член имени уточняет, какой славянин имеется в виду, ср. особенно многочисленные примеры такого именования славянских племен в каролингских документах после разгрома Аварского каганата: Sclavi Margenses, Sclavi Beheimi, Sclavi Carantani, Sclavi Carniolenses, Sclavi Pannonii, Sclavi Dalmatini, Sclavi Cruati, Sclavi Sorabi, Sclavi Abodriti (3). После этого ясно, что разделительная запятая между Sclavus и Nara в используемом нами издании отпадает как лишняя, речь идет об одном племени Sclavus Nara, перечисляемом в стихотворной эпитафии наряду с прочими: ... Alamannus, Saxo, Toringus, / Pannonius, Rugus, Sclavus Nara, Sarmata, Datus, / Ostrogotus, Francus, Burgundus, Dacus, Alanus ...Переводить (толковать) вышеозначенное место надлежит при этом не "славянин из Норика" (так Скржинская, цитируемая в комментарии), а 'славянин-нарец', что полностью созвучно загадочному до недавнего времени свидетельству древнерусской Повести временных лет (Лавр, лет., л. 2 об.): Нарци еже суть словѣне. Созвучие это, думаю, трудно сейчас переоценить. Мне остается только отметить, что об этом подтверждающем соответствии не обмолвился ни звуком комментатор "Эпитафии" С.А. Иванов, проявив недобросовестность в упомянутом умолчании. Я не удивляюсь, что славян этот комментатор не пускает в Центральную Европу дальше Моравии и приписывает Мартину Бракарскому, что славяне были для этого ученого паннонца "синонимом дикости" (из перечня племен подобное допущение совсем не явствует, но говорит - самое большее - о неприязни к славянам самого
311
![]()
комментатора) (4). Подобный уровень комментирования делает понятным что С.А. Иванов, конечно, проходит не задерживаясь и мимо фонетических различий формы Nara и стандартного римско-латинского Nōricum, которые в наших глазах весьма знаменательны сами по себе. Дело в том, что вокализм Nara придает этому имени статус чисто славянской формы с закономерным слав. а < ō, свидетельствуя одновременно о долготе корневого гласного в лат. Nōricum (или его туземном субстрате). Вспомним о том, какое значение придавал Ю. Удольф именно "отсутствию славянского развития ō > а" на примере гидронима Mur/Mura на смежных территориях, полемизируя против моего тезиса о ранних славянах в Паннонии (5). Актуальность вашего нынешнего наблюдения над отношением Nōricum: Nara, нарци заключается в том, что "славянское развитие" ō > слав. а констатируется к западу от Паннонии, в Норике, а это, согласимся, не лишено интереса для вопроса о ранних славянах на данных территориях.
О появлении славян к югу от Дуная мы получаем информацию также главным образом в виде их племенных названий. Когда я в свое время занимался проблемой ранних славянских этнонимов (6), я имел возможность убедиться, что в нашем распоряжении находится едва ли больше полусотни таких этнонимов, в их числе - всеобъемлющее *slověne, затем неоднократно повторяющиеся *sьrbi, *xъrvati, *sěver᾽ane и им подобные и наконец - племенные названия местного характера. В принципе такая же картина наблюдается в исторически новых славянских землях на юг от Дуная. Совершенно естественно, что при этом реализуется лишь часть известного нам славянского этнонимического фонда. Впрочем, и здесь на первом месте оказывается не претерпевшее никаких ограничений в употреблении общеславянское самоназвание slověne, обозначающее людей, объединенных славянским языком, а также целые области, населенные этими людьми, как, впрочем, и совершенно конкретные места, урочища (ср. приводимое у И. Дуриданова название деревни Слоештица из более древнего Словѣньщица в бассейне реки Вардар). В византийской практике особенно употребительным оказалось название Σκλαυινία, сначала служившее обозначением территорий на Среднем Дунае, включая позднейшую Валахию (7, с. 59; 8, с. 67, 69), потом специально закрепившееся за славянами, осевшими в Македонии (7, с. 87; 9, с. 82; 10, с. 81). Мы не видим никакого противоречия между мнением Миклошича, что имя *slověne сначала относилось только к тем славянам, которые двинулись в VI в. на юг (7, с. 41), и этимологией нашего макроэтнонима, принимаемой также нами, а именно: *slověne как отглагольное производное от *slovǫ, *sluti, собственно, 'понятно, ясно говорящие' (см. неоднократно в нашей книге "Этногенез и культура древнейших славян", а также см. 11, С. 5, с более ранними публикациями). В чисто славянской среде это самоназвание часто и не требовалось; свою родовую (племенную)
312
![]()
принадлежность сознавали и без него, причем обходились простейшими самоидентификациями мы, наши. Но ближе к племенным границам, а тем более за их пределами маркированность славянства намного возрастала... В этом я вижу прежде всего возможность примирить эндогенную природу имени славян и его преимущественно периферийную употребительность, хотя некоторые из моих коллег неоправданно противопоставляют одно другому (12, с. 61-62). В связи со сказанным мне остается еще указать на этимологию названия албанцев, которая по-прежнему является, как я думаю, наиболее естественной: Shqiptar от алб. shqip 'ясно, понятно', несмотря на все возражения (из них не самое удачное см. 13). Если принять при этом во внимание достоверно вторичное появление албанского этноса на исторической арене, а также типологически вторичный, как и повсюду, характер единого этнического названия, то я готов оставить открытым вопрос - не является ли для нас этноним Shqiptar косвенным свидетельством (отражением) былой этимологической прозрачности этнонима slověne в этом регионе?
Следующие по значению славянские этнонимы на территориях к югу от Дуная - это, конечно, имена сербов и хорватов. Об этнониме болгар я не могу сказать ничего нового: с точки зрения славянской этнонимии он является местным и заимствованным. Но и два других вышеупомянутых этнонима представляют собой - с этимологической точки зрения - иноязычные заимствования, хотя и не носят локального характера. Тем самым я оспариваю укоренившийся в славистике взгляд на имя *sьrbi 'сербы' как на производное от глагола *sьrbati 'сосать, хлебать' (12, с. 44, и др.) и хотел бы восстановить старое мнение о существовании связи между именем собственно славянских сербов и так называемых "античных" сербов на Северном Кавказе. Короче говоря, соответствующее свидетельство Σέρβοι (Ptol. Geogr. V. 9. 21) знаменует собой наиболее продвинутый к востоку случай имени сербов - первоначально вероятно индоарийского по природе, исходный пункт которого - по логике индоевропейского расселения - лежал на Западе, судя по упоминанию о некоем племени по имени Serri (Amm. Marc. XXVII, 5, 3) в Южных Карпатах, IV век (14, 1, с. 99), таким образом, уже в непосредственной близости от исторической области позднейших - славянских сербов. Что касается удвоения -rr-, вместо группы согласных -rb- (Serri ~ Σέρβοι), то оно выглядит уже совершенно на балканский манер. Ниже мы еще вернемся к этому небезразличному для славистики сюжету о возможных встречах индоарийского и дако-фракийского этносов в районе Карпат. Здесь же нас, естественно, прежде всего интересует факт заметного проникновения имени сербов довольно глубоко в греческие пределы (см., с соответствующей критикой по этому поводу, 15, с. 319-320). Как бы то ни было, подобные случаи усугубляют пестрый облик славянского заселения южной части полуострова. То же можно сказать и о случае Χαρβάτι, равным образом
313
![]()
в Греции (15, там же). В последнем примере представлен славянский этноним *xъrvat(in)ъ, мн. *xъrvati, имеющий свою собственную длинную историю и - в отличие от этнонима сербы - иранскую этимологию (подробнее см. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 8. М., 1981, с. 149 и сл.). Своеобразно сложилась судьба скудно засвидетельствованного славянского племени по имени *sěver᾽ane, то есть 'северные', на северном, левом берегу Дуная (в Банате): лишь позднее это племя появится на востоке Болгарии (7, с. 92). Традиция называния левого дунайского берега 'северным' представляется потенциально древней, ср. свидетельство баварского географа IX в. - Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii, где septentrionalis равнозначно sinistra (plaga) 'левый (берег)'. Далее, наряду с этнонимом смолѣне на крайнем юго-западе Болгарии, начиная еще с протоболгарской эпохи, с точным древнерусским соответствием, которому специально уделяем внимание в другом месте, следует упомянуть замечательную пару имен - Δρουγουαβῖται, название племени на запад от Солуни (Фессалоники), и другие Δρουγουαβῖται, название древнерусского племени в позднейшем белорусском регионе (оба названия представлены в византийско-греческих источниках X в.). Самое интересное при этом то, что оба эти этнонима (в том числе и другувиты в Северной Греции!) этимологизируются только на белорусской языковой почве, поскольку представляют собой производное от исключительно белорусского, восточнославянского диалектного слова дрыгвá 'топь, болото', праслав. диал. *drъgъva (16, с. 87 и сл.).
... Оставляя в стороне несколько проблематичные в отношении своей славянской принадлежности племенные названия далматинского побережья у Константина Багрянородного, De adm. imp. (Ζαχλοῦμοι, Τερβουνιῶται, Καναλῖται, Διοκλητιανοί, Ἀρεντανοί), а дальше на юг, в непосредственных окрестностях Фессалоники, наталкиваясь на еще более проблематичные вроде 'Ρυνχῖνοι (15, с. 177) и Σαγουδάτοι (там же) формы, которые трудно признать славянскими, мы переходим к прочим случаям славянской этнонимии в византийско-греческом ареале. Почти на всех них лежит иноязычный отпечаток, так, Strumenci (у Нидерле), по всей видимости, калькирует административно-греческое Στρυμονιοι. Относительно более живую форму представляет племенное название пијнанци, Пиіаньць, по течению Брегалницы, в Восточной Македонии (7, с. 64; 10, с. 142), поскольку мы здесь наблюдаем участие славянской народной этимологии, а именно - соотнесение имени местного античного варварского племени Παίονες с подлинно славянским словом *pьjanъ, пьяный. Вряд ли чисто славянское образование представляет собой название племени Βαιουνῖται в Эпире (15, с. 20). Далее, поучительны названия, засвидетельствованные на крайнем юге Пелопоннеса, - Μηλιγγοί и Ἐζερῖται (Конст. Багр. De adm. imp. 50). Форма Ἐζερῖται, несмотря на явное сходство со слав. ezero 'озеро', образует
314
![]()
пару с названием племени Oseriates, близ озера Балатон, причем в отношении последнего все еще не решена окончательно дилемма славянской или иллирийской принадлежности. Что же касается имени милингов, то благодаря этимологии Штибера - название деревни Mlądz, под Варшавой, из *mьlęg- от дославянского *miling- - мы теперь знаем, что вначале они были, скорее, совершенно иллирийским племенем. В Пелопоннесе эти оба племени - милинги и езериты - предстают перед нами как уже несомненно славянские, но их славянство - плод развития.
По-прежнему этнонимы славян, расселившихся в византийском ареале, таят в себе немало загадочного. Но ясно одно: диалектные и даже языковые различия этих славян-новоселов были значительно больше, чем это готов был допустить наш великий предшественник Фасмер (я имею в виду его книгу "Die Slaven in Griechenland", увидевшую свет более 50 лет назад, а в ней в особенности - его рассуждения о результатах исследования апеллативов). Имена собственные, в их числе - этнонимы, конечно, не совсем подходят для этого по причине своей исключительной знаковости. Часто их значение совсем невелико для суждений о языковой принадлежности стоящих за ними этносов, ср., например, германский характер названия славянского племени Βελεγεζήται в Фессалии (17, с. 94; 18, с. 301, с литературой) или темное до сих пор имя Brsjaci, в Западной Македонии (19, 1, с. 104), территория которых в древности носила имя Берзития (8, 1, с. 285). Последние два имени мы теперь относим - в соответствии с достаточно сложным историческим прошлым - к Βερζιλία, βερζίτικον, названию хазарской области на севере Дагестана (см. наше примечание в: 20, с. 178, сноска), в связи с аварами эпохи осад Солуни.
Сравнительная скудость славянских данных, особенно из раннего времени славянского занятия Балканского полуострова, заставляет нас не отграничивать строго старых ономастических фактов от старых фактов нарицательных, в противном случае мы имели бы дело с крайне скудным материалом. Тем драгоценнее при этом редкие лексические свидетельства ранних веков, вроде тех, что имеются в путевом описании Приска, к тому же, в последнем случае вообще невозможно провести строгого различия между занятием "новых" территорий и древним поселением (Приск рассказывает о местности, в которую он прибыл вскоре после переправы через Дунай и некоторые его притоки с юга на север). Что касается названия напитка μέδος в греческой записи у Приска, то исследователи более или менее сходятся в том, что это слово, услышанное от здешнего населения где-то на территории теперешней Воеводины около середины V в., было, скорее всего, славянским (18, с. 93). Иранский (сарматский) и какие-то другие местные индоевропейские языки отпадают в качестве возможных источников слова по лингвистическим соображениям. Практически из того же места и из того же столетия
315
![]()
(приуроченность ко двору Аттилы и его кончине) идет известие о другом туземном слове - strava(m), что у Иордана (Getica) совершенно точно значит - тоже на здешнем языке - 'поминальное пиршество'. Затянувшийся спор о том, почему это слово не может считаться вполне славянским, так как слав. *su̯trava (*sъtrava) было бы записано по-латыни иначе, тогда как strava как отражение славянского *jьztrava встречает будто бы хронологические затруднения (18, с. 161 и сл.; см. еще специально: Гиндин Л.A. К вопросу о хронологии начальных этапов славянской колонизации Балкан // Linguistique balkanique, XXVI, 1, 1983, passim; Он же. Обряд погребения Аттилы (lord. XLIX, 256-258) и "тризна" Ольги по Игорю (ПВЛ, 6453 г.) // Сов. славянов. 1990. № 2. С. 65 и сл.). Автор склоняется к мысли о славянскости слова strava, с допущением древнего "s подвижного", в чем, думаю, нет необходимости) - этот длинный спор я резюмирую сейчас в духе своей же прежней концепции в Этимологическом словаре славянских языков (вып. 9, с. 81). Я считаю по-прежнему, что здесь можно серьезно говорить только об исходной форме *jьztrava, о чем нас достаточно авторитетно учат древнерусские и русские диалектные формы типа истрава 'издержки, расходы', исходная форма с префиксом sъ- здесь вообще не существовала. Западнославянское strava, восходящее к древнему *jьztrava, реально существует, например, в словацком и означает 'корм для скота'. Применительно к слову strava у Иордана можно было бы говорить скорее о паннонскославянском (17, с. 142), непосредственно примыкавшем к собственно западным славянам, чем о дакославянском, о котором будет еще речь дальше. И еще, пожалуй, главное к вопросу, почему в записи Иордана отсутствует i-начальное (strava, а не *istrava)? Лично мне ситуация напоминает славянско-тюркские отношения вроде Странджа - Istranca [istrandža] (о горах Instranza "в европейской Турции" см. 21, с. 247): в глазах болгар начальное i-выглядело слишком по-турецки (гласная протеза перед начальной группой согласных, нетерпимой в турецком). Нечто подобное можно было бы ожидать и со стороны информаторов (источников) Иордана, только на этот раз гиперкорректный ригоризм был направлен против гуннов, а заодно и всего того, что могло бы ошибочно сойти за "гуннское". И совсем уже общая мораль этого эпизода может быть сформулирована таким образом, что, решая лингвистические задачи типа иордановского strava, мы не должны, видимо, подходить к материалу и условиям явно многоязычных районов (а таким районом была древняя Воеводина) с меркой закономерностей исключительно одного из языков (ср. выше затронутый в дискуссии вопрос о чисто славянской хронологии процесса jьz- > s- в известной позиции). Необходима бывает поправка на межъязыковые факторы. Кстати, еще одним примером с вероятными западнославянскими ассоциациями из античной Паннонии может послужить эпиграфическое Dobrates/tis, имя божества, засвидетельствованное в надписи начала н.э. в паннонском
316
![]()
городе Intercisa на Дунае, к югу от Будапешта. Этот теоним, персонифицированное 'Добро', полностью покрывается по своему словообразованию и значению с зап.-слав, (праслав. диал.) *dobrotь 'добро, доброта', о чем подробнее у меня в кн. Этногенез и культура древнейших славян, с. 100-101 (с литературой).
Тем временем мы вернулись в Среднее, в том числе левобережное, Подунавье, поэтому не должно удивлять, что признаки раннеславянского присутствия встречаются чаще. Кратко остановимся на них, точнее - на спорных по сей день вопросах нашей науки. "Что стоит за якобы славянским звучанием имен Pelso, Ulca - Hiulca, Urbate, Σερβίνον, Bolia, Dierna-Ζέρνης, Bersovia и - как их еще там? Ничего, кроме подтверждения того, что здесь жили иллирийцы - и фракийцы..." (22). Несмотря на то, что сила скепсиса этих слов Рамовша, сказанных шестьдесят лет назад, едва ли убавилась, очевидно, пришло время для того, чтобы не зачеркивать вообще этот материал, а подвергнуть его спокойному анализу. Конечно, отдельные примеры выглядят явно как иллирийские (Ulca) и должны быть поэтому устранены из списка славянских элементов. Другие же носят вторичный славянский отпечаток: такова дакская Berzovia, обратившаяся в рум. Bîrzava лишь после того, как прошла славянскую стадию Bъrzava (17, с. 59, 21, S. 220-221). Но едва ли имеет смысл предполагать особое местное индоевропейское *ku̯ersna 'черная', во всем практически тождественное слав. *čьrnъ, ж.р. *čьrna (из *kr̥sno-, *kr̥snā) и при этом якобы совершенно независимое от последнего, если принять во внимание, что нам в общем достаточно хорошо известно дакское обозначение черного цвета в виде существенно отклоняющегося индоевропейского диалектного варианта *kr̥s > *kris-, ср. локальный гидронимический комплекс античного Crisia ~ венг. Körös. Итак, что же тогда такое эта Dierna/Cerna? Случайное славянское созвучие? Или уже славянское поселение, стоянка (statio) III в. н.э.? (7, с. 56).
Участие местных балканскоиндоевропейских субстратных языков в формировании (южно)славянских языков несомненно. Но мы очень мало знаем о том, как и в каких размерах это совершалось. Причина тому - ограниченность нашего знания самих субстратных языков. Существующие пособия по реликтам иллирийского и дакофракийского языков для этого недостаточны. В свое время высказывалось мнение, что славизация балканских стран осуществилась столь полно потому, что ассимилированные наречия сами были весьма близки к славянскому. Будучи само по себе вполне приемлемо, это предположение, к сожалению, лишено конкретного содержания, и это сохранится до тех пор, пока не будет проведена систематическая этимологизация. И все же мы получаем с разных сторон интересующие нас сигналы. Уже упоминавшееся дакское Berzovia предположительно тождественно этимологически со слав. *berzovъ 'березовый' (ЭССЯ, вып. 1, с. 206). Имя острова в Эгейском море,
317
![]()
близ фракийского побережья Анатолии, Λέσβος восходит, по-видимому, к дако-фракийскому *lesu̯os, *lesou̯os, этимологически тождественному слав. *lěsovъ 'лесной, лесовой' (ЭССЯ, вып. 14, с. 245). *Berzovъ, *lěsovъ (русск. березовый, лесовóй и т.д.) - это широко распространенные славянские слова. Но, пожалуй, не менее интересны древние диалектные образования, имеющие, к тому же, соответствия в субстрате. Едва ли случайно сходство сербохорв. japad ж.р, 'тенистое место', по-видимому, архаическое сложение префикса (j)a- в значении приблизительности и корня pad- 'падать', ср. функционально близкое *zapadъ 'заход солнца, запад' (ЭССЯ, вып. 1, с. 71; 23, 1, с. 754-755), и названия самого западного племени в Иллирии - lapodes, примыкавшего к современной Хорватии с запада (24, 2, стб. 1319). Тем самым одновременно обретает прозрачность данный реликтовый индоевропейский этноним (Japodes, Japudes, Japyges), углубляется и наше понимание структуры иллирийского языка. Замечательный по-своему случай представляет собой сербохорватский диалектный предлог med (при литературном mȅđu) 'между' (Воеводина, Славония, кайкавский, а также словенский), по всей вероятности, еще праславянский диалектизм из и.-е-. *medo- то же. То, что здесь речь не идет о поздней инновации сербохорватского, наглядно демонстрирует сербохорватский топоним Medbara, собственно говоря, продолжение еще античного Metubarris, Metubarbis, буквально 'Междуболотье', местность на Саве, с корнем *barb- и уже знакомым нам фонетическим развитием rb > rr (17, с. 133, 135, 142; 25, с. 174). Преимущественно южнославянский апеллатив bara 'поток, ручей; лужа; луг; болото' относят сюда же (ЭССЯ, вып. 1, с. 153-155), и он тоже предполагает иллирийско-фракийско-албанское развитие *barb- > *bar(r)- (ср. выше Serri); ср. еще Kolu-bara, название притока Савы.
В отличие от предыдущего, слово *vьrtъpъ/vьrtopъ 'пещера; воронкообразное углубление; водоворот' принадлежит преимущественно восточной части южнославянского (старославянский, болгарский, македонский, восточносербский). Из славянского оно попало в румынский - vîrtóp, hîrtóp 'яма', представлено также в топонимии Румынии, Албании, Греции (Βουρτόπη) и в явно дославянских местных названиях Фракии (Burdapa) и Восточной Сербии (Βούρδωπες) (17, с. 117, 155; 19, 1, 212; 14, II, с. 2, 61; 26, с. 47; 27, с. 218). Небезынтересно для нас утверждение Селищева, что "к северу от Албании, в областях сербских славян, нет таких названий". Понятно, что известное русское слово вертéп 'пещера; (разбойничий) притон и т.д.' целиком принадлежит литературному языку, будучи генетически церковнославянским элементом. Менее ясны несколько случаев из диалектной лексики, которые обозначают различные труднодоступные, крутые места (28, 4, с. 151; 29), но известно, что и словарный состав русских народных говоров подвергался влиянию церковнославянского. Южнославянское слово имеет вполне славянский вид,
318
![]()
у нас есть для него солидная этимология Георгиева - из и.-е. *u̯r̥t- 'вертеть' и *up- 'вода, река', но приведенные выше предположительно фракийские формы, которые, со своей стороны, явно претендуют на ту же индоевропейскую этимологию, настраивают нас на осторожный лад. Равным образом родство балтийской формы - лит. Vir̃t-upė, гидроним в Литве (30, с. 388), сложение тех же этимологических компонентов, заставляет нас склониться к выводу, что вначале здесь был, по-видимому, фракийский. Кстати, при этом можно было бы высказать общее наблюдение, что ввиду наличия признанно древних дако-фракийско-балтийских черт близости ряд этимологических балтийских соответствий, вскрываемых особенно в болгарском словарном составе, нуждается порой в несколько иной характеристике, а именно - с точки зрения традиции фракийского субстрата, а не гипотетичного болгарско-балтийского соседства, как это нередко представляется в литературе.
Следующий затем случай интересен в том отношении, что фракийская природа при этом совершенно вероятна, но балтийский фон отсутствует. Болг. диал., макед. глух, глуф, глýшец 'мышь, крыса; полчок' (31, с. 50, 405), по косвенным признакам - архаический диалектизм (32, с. 63), было убедительно проэтимологизировано как первоначальное *glišь < и.-е. *g(e)li, ср. лат. glis, gliris 'полчок, соня', алб. gjer 'соня, сурок, белка', др.-инд. giri 'мышь', что все вместе ввиду красноречивого отсутствия этого слова в остальных славянских языках делает вероятным его происхождение из балканского субстрата (древне-македонский, иллирийский или дако-фракийский) (19, 1, с. 253, 33, 1, с. 607: славянских форм не приводит). Сюда же может принадлежать, вопреки скептическому отношению Томашека (14, II, с. 4), фракийское ἄργιλος ὁ μῦς, если предположить в нем искажение первоначального *(a)gliros под влиянием форм вроде ἄργελλα οἴκημα Μακεδονικόν или ἄργιλος ·λευκόγειος. (Hes.).
Два нижеследующих слова целиком принадлежат славянскому, и в том, что дело дошло все-таки до заимствования турцизмов, повинна своеобразная судьба этих славянских слов в балканских странах. Я имею в виду две родственные лексемы еще индоевропейского происхождения *u̯l̥na 'волна' и *u̯l̥na 'шерсть-волна', последнее - с акутовой долготой (34, с. 1139, 1143). Абсолютно ясно, что второе из них произведено от первого: шерсть-волна была названа метафорически как нечто 'волнистое, струящееся', ср., например, нем. Vließ 'руно': fließen 'течь'. Индоевропейские отношения продолжаются в точности в славянском: праслав. *vьlná I (русск. волнá) характеризуется краткостью корня и конечным ударением, а *vь́lna II (русск. вóлна) - производной долготой врдхи в корне. В неблагоприятных условиях развития в южнославянском, когда имелась тенденция к фиксации ударения на корне, как правило, утрачивался старший член оппозиции: праслав. *vьlna I 'волна' вытеснено в сербохорватском и словенском синонимом val, сохранилось только сербохорватское
319
![]()
vȕna 'шерсть' (23, III, с. 636-637). В болгарском, похоже, старые отношения сохранились только в литературном языке (по образцу русского?): въ́лна 'шерсть' и вълнá 'волна', в живом народном языке ввиду откровенно слабой позиции последнего слова произошли изменения и замещения. Так появились диалектное далга из турецкого dalga (19, 1, с. 315; 31, с. 399) и этот своеобразный турецкий грецизм талáз 'волна' (35, с. 628).
Отношения славянского и балканскоиндоевропейского перестают быть предметом исключительного интереса специалистов по балканистике, они все больше и больше затрагивают существо славистики. Достаточно красноречивый пример этого - судьба славянского названия тиса: праслав. *tisъ - русск., укр. тис, русск.-цслав. тиса 'сосна, кедр', болг. тис, сербохорв. тис 'тис, лиственница', словен. tîs, чеш., слвц. tis, польск. cis, в.-луж. ćis, н.-луж. śis. Признание родства этого славянского названия дерева Taxus baccata и лат. taxus 'тис' кажется неизбежным. Но их отношения до такой степени затруднительны и невыяснены, что славянское слово до сих пор остается признанно темным: американский ученый прибег даже к иероглифической реконструкции индоевропейского *tVk̑so- 'тис', в которой V может означать любой гласный (36, с. 121 и сл.), что, естественно, не явилось ощутимым шагом вперед в этом вопросе. Ситуация, при которой родственные отношения нельзя ни отрицать, ни доказать, явно говорила о заимствовании, что предполагалось и ранее, с той разницей, что язык-источник оставался неизвестен (37, IV, с. 61, 857). От естествоиспытателей мы знаем, что особенно богата тисом Центральная Европа (38, с. 407; 39, с. 575). Другое дело - Восточная Европа, а вместе с ней и восточные славяне: относительно последних говорят лишь о "книжном знакомстве" с этим незаурядным деревом (40, с. 24). Это видно и по приведенному выше русско-церковнославянскому примеру из Срезневского, где значение, приписываемое слову тиса - 'сосна, кедр' (?), свидетельствует именно об этом не очень хорошем знакомстве (ведь тис прежде всего - не хвойное дерево!). До недавнего времени особенно много тиса было в Карпатах. Как уже сказано, славянское название тиса практически не имеет этимологии, потому что брюкнеровское сближение *tisъ и польск. cigiędź 'чаща' (см. также 40, с. 51) - это не выход из положения. Целесообразно поэтому вернуться к нашей паре *tisъ: taxus с тем, чтобы еще раз заняться этими отношениями. Загадка заключается в самом этом отношении вокализма а : i. Именно здесь коренятся закономерности неизвестного нам языка-источника славянского слова.
На юге Болгарии, в исторической Фракии, есть и сейчас известный город Пловдив, название которого восходит точно к древнему Pulpu-deva, что значит на языке фракийцев-бессов 'город Филиппа'. Кроме того, хорошо засвидетельствован фракийский апеллатив δέβα 'город' (эмендация из λέβα) у Гесихия, проэтимологизированный
320
![]()
из и.-е. *dhēu̯ā 'поставленное, основанное' (14, с. 9). Таким образом, и.-е. ē долгое сужалось во фракийском в i (41, с. 115), ср. еще один пример с тем же корнем - Recidiva. Кодекс Юстиниана, новелла XI: (21, с. 324). Но это еще не все. Кроме некоторого количества фракийских названий городов на -deva (все - на юг от Дуная), к северу от этой реки, то есть в Дакии, представлены гораздо более многочисленные названия на -dava (41, с. 119). Иногда встречаются (на Юге) также дублеты вроде Συκι-δάβα наряду с Σικί-δεβα (Прокопий), в Добрудже (41, там же). Не оставляет сомнений связь всех этих форм, при этом формы -dava рассматриваются как дальнейшее развитие форм -deva, обратные же изменения в дакском ставятся под вопрос (Дуриданов, см. 41, passim). Но возможность шире взглянуть на вещи дает нам название самих даков, прежде всего - в составе имени их царя - Δεκέ-βαλος, Deci-balus, что, собственно, есть титул: 'дакский царь'. У Томашека на этот счет можно прочесть о сомнениях как раз по поводу е из а (14, II, 2, с. 31). Но вот еще один пример этого рода: согласно Страбону, один дакский пророк в царствование Буревисты назывался Δεκαίνεος. Томашек (14, там же), оставляет его практически без объяснения: "Wz. dek-?" Но, по всей видимости, первоначально было *Δακ-αίνεος, тоже, скорее, титул, чем имя собственное - что-то вроде 'дакский святой', причем второй компонент этого имени мы находим еще в названии священной горы в Дакии, в постпозиции - Κωγαἱονος 'гора' + 'святая'. У Иордана (Getica) встречается имя этого святого человека в огласовке Dicineus (14, 2, с. 31). Из этого можно было бы заключить, что фонетический переход a > e > i был все-таки возможен на дако-фракийской языковой почве, и такая констатация могла бы оказаться полезной в дальнейшем исследовании вопроса о taxus ~ tisъ. А именно: дако-фракийский прототип *tiso- (из и.-е. *tāk̑so-) в значении 'тис' попал в отдаленном прошлом в соседний праславянский где-то в районе между Средним Дунаем и Карпатами. Тем самым обретает дополнительный смысл мнение Селищева - в связи с его оценкой славянского характера алб. tis и рум. tisa 'тис' о том, что на всем Балканском полуострове называют Taxus славянским именем (27, с. 164). И - прямо наоборот - мы могли бы сейчас утверждать, что, прежде чем распространиться по всему праславянскому ареалу, прототип праславянского слова *tisъ был заимствован славянским из дако-фракийского. Поэтому нельзя считать окончательным решением отрицательное мнение Шахматова по поводу старой уже догадки Ростафинского о том, что слово *tisъ пришло к славянам от фракийцев (A. Schachmatov. Slavische Wörter für Epheu // Festschrift V. Thomsen zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 25. Januar 1912. Leipzig, 1912, S. 195-196). Ясно одно - сейчас уже нельзя отрицать контакты праславян с фракийцами только на том единственном основании, что подобные контакты до V в. н.э. в придунайских районах по-прежнему кажутся сомнительными отдельным ученым
321
![]()
(я имею в виду один из главных контраргументов Дуриданова в его критике моей версии о фракийском происхождении слав. kobyla, [см.: И. Дуриданов. Произход на слав. kobyla и на тракийското селищно име Καβύλη // Славистичен сб. БАН, 1988. С. 195 и сл., там же дальнейшая литература]).
Переселение масс славянского населения с берегов Дуная в глубь полуострова не могло не расшатать существовавшие там гидронимические системы. Правильно в общем замечено, что все важные реки в этом районе носят не славянские, а, как правило, дославянские названия. Таковы, как обычно считается, Дунав (Дунай), Сава, Драва, Мура, Соча, Тиса, Тамиш, Купа, Уна, Врбас, Босна. Дрина, Hepemea, Зета, Ибар, Морава, Тимок, Вардар, Струма, Искър, Етър (Янтра), Марица, Тъжа (Тунджа) и - не только они (17, с. 173). И все же номенклатура в землях на юг от Дуная претерпела существенную славянизацию. Анализ этого фонда вскрывает немалое участие славянского словарного состава, включая ряд архаических элементов, ср. (42, passim). Правда, мы не встречаем здесь переноса целых гидронимических ландшафтов как следствия этнической миграции. Практически не имело места повторение дальше к югу гидронимов с правого (так сказать, "неславянского") берега Дуная (ряд из которых назван выше), если судить по гидронимии бассейна реки Вардар и прилегающих долин Албании, то есть стран на юге, которые были ославянены значительно раньше, чем греческие территории и даже чем Болгария. Оттуда можно привести отдельные случаи форм, продолжающих название Дуная, напр. Дунавец в южной Албании (27, с. 56, 242) и Морава, там же. Правда, из них именно Морава, обычно зачисляемая однозначно в дославянские названия (см. перечень выше), привлекала уже наше внимание как эндемичная центральноевропейская форма с древнеевропейскими гидронимическими связями и непрерывностью ее продолжения в славянском (5, с. 245). Любопытно, что именно Морава ощутимо "вторглась" на Юг и вполне реально, что это она дала начало славянскому гидронимическому типу на -ава в бассейне Вардара (42, с. 299-300).
Из проблем собственно топонимических назовем здесь два эпизода, которые привлекли наше внимание тем, что наглядно отражают длительный характер локальных традиций. Первый из них представлен названием античной области Дардания (приблизительно северная часть республики Македонии и южная Сербия), убедительно проэтимологизированным в связи с алб. dárdhë 'груша', dardhán 'крестьянин', собственно 'тот, кто выращивает груши' (17, с. 83-84, с литературой; 14, 1, с. 25). Сегодня никто и не вспоминает ни в Македонии, ни в Сербии о давно забытой Дардании, но поныне живут там топонимы Крушево, Крушевац, объяснимые не одним только славянским названием груши, но и - некогда живой памятью о Дардании, "грушевой стране".
322
![]()
Второй топонимический эпизод не лежит в такой степени на поверхности вещей, как вышеназванный, но он тем более интересен, по-моему. Когда я заинтересовался проблемой славянского названия Трансильвании, из справочной литературы я вынес впечатление, что такого названия вообще не существует. Лично для меня проблема эта интересна тем, что речь идет о территории, близкой к Среднему Дунаю, - праславянскому ареалу (в моем представлении), тем более, что ниже говорится еще об одном возможном плацдарме, или, вернее сказать, "мысе" раннеславянского заселения - в нынешнем Банате. Правда, если смотреть из Среднего Подунавья, Трансильвания лежит несколько в стороне, за Тисой, и "близко" это кажется только на карте, главное же - наполнение праславянской ойкумены остается для нас во многом вещью в себе, объектом нашей реконструкции. И все же отсутствие старого славянского названия Трансильвании остается странным, нуждается в объяснении. Поэтому уделим несколько внимания специальной теме: "местная традиция называния Трансильвании". В специальной литературе дело представлено таким образом, что ответственность за этот способ называния - 'за лесом (находящаяся)' - несет венгерское название области Erdély (с XII в.); позднелатинское Trans-sylvania является лишь слепком венгерского названия (43). В Румынии известны оба названия - Ardeal (из венгерского) и лат. Transilvania. А мы, славяне, не упустившие случая калькировать своими славянскими языковыми средствами даже такие явно поздние образования, как Siebenbürgen, - Семигрáдье, Семи́город, Siedmiogród, так и не обзавелись эквивалентом, дабы передать представление об этой местности 'за лесом', внутри Карпатской дуги (под 'лесом' при этом подразумевают горы Бихар). К тому же, совершенно исключено, чтобы этот тип называния Трансильвании был моложе, чем упомянутое 'Семиградье'. Тогда перед нами встает задача отыскать потенциальный прототип в местном субстратном материале. В качестве такового, я полагаю, можно рассматривать топоним Porolissum / Πορόλισσον // Παράλισσον в северозападной Дакии. По нему получила название Dacia Porolissensis, самая северная часть Дакии (24, 4, стб. 1062; 44, с. 375).
Что касается этимологии, едва ли удачна мысль Томашека о том, что Πορό-λισσον родственно в первом компоненте с -para, πάρος; в значении 'базарное место, село' (14, II, 2, с. 63, 65). Из его анализа достоверно одно: членить надо Poro-lisso-. В остальном мы расходимся с знаменитым фракологом, поскольку видим в poro- / para- скорее префикс (относительно двойственного рефлекса и.-е. о краткого как о/а в дако-фракийском (см. 45, с. 95), а корнем слова считаем -liss-, и нам остается идентифицировать последнее как лексему 'лес', ср. то, что было сказано выше о названии острова Λέσβος и его фракийской принадлежности. В названии Porolissum мы могли бы, таким образом, предположить субстратное дакское выражение,
323
![]()
значившее примерно 4за лесом' и одновременно - прототип для модели Trans-sylvania, отодвинув тем самым начало этой традиции наименования намного глубже, чем XII век. И все же спрашивается, почему славянский не участвовал в этом назывании? [*] Думается, что контакты, а с ними и необходимая коммуникация (понятия, представления) между славянами и неславянами попросту иногда отсутствовали так, как они могут отсутствовать между обитателями долин и горными жителями. Балканские индоевропейцы (правда, не все) были по преимуществу горцами. Напр. фригийскоязычные пеоны селились в речных долинах, что оставило отпечаток в их названии ('луговые'). Но македонцы, как много позднее после них албанцы, спустились с гор. Об албанцах практически не было слышно вплоть до позднего средневековья. Замкнутая жизнь высоко в горах, отсутствие интереса - культурного и экономического - к жизни в долинах, не говоря уж о морском деле, - это тоже причины того, что албанцы, этот древний туземный балканскоиндоевропейский народ, попали так поздно в поле зрения истории. Чтобы объяснить это, большие расстояния и этнические перемещения не нужны. Исследователи, которые пользуются последними, желая ответить на вопрос "где селились предки албанцев?", похоже, забывают о такой вещи, как культурная стадия. Таким (или примерно таким) образом можно попытаться объяснить затронутый нами выше пробел в раннеславянской номинации, то есть и в данном случае - не обязательно по причине скудости источников.
Этнолингвистические древности Балкан таят в себе еще много неразгаданного. При этом славянская доля участия выглядит порой проблематичной и вторичной, что, однако, никогда не означает, будто итоги общей балканистики и индоевропеистики безразличны для славистики в собственном смысле. Выше мы приводили пример с так называемыми (на мой взгляд, индоарийскими) "античными" сербами, которых донес до нас в завуалированном виде - в южнокарпатских Serri - Аммиан Марцеллин. Существует ряд указаний о следах индоарийского (то есть праиндийского) присутствия от Западных Карпат (соответствующая этимология названия города Nitra) дальше на юг, ср. топонимический элемент -nad как в словацком гидрониме Hornád, так и в местных названиях Трансильвании и Баната (к др.-инд. nadī 'река'). В некоторых случаях индоарийские влияния можно констатировать у фракийцев-бессов, следовательно, довольно далеко на юге. В одном примере речь может идти о явном заимствовании из индоарийского именно на юге: Uscu-dama, фракийско-бесское название города Адрианополя (в настоящее время
*. Можно было бы ожидать, скажем, слав. *per-lěsьje, весьма близкое этимологически к дакскому poro-lisso-, или в крайнем случае слав. *zalěsьje, но такие славянские названия Трансильвании мне неизвестны, хотя, напр., в чешско-моравской топонимии встречается название Zálesí 'залесье', с местной привязкой.
324
![]()
Эдирне в европейской Турции), в котором uscu- - предположительно 'вода' по-фракийски (44, с. 349), а второй компонент может быть только др.-инд. dhāman '(населенное) место' (и.-е. *dhēmn̥ дало бы во фракийском в лучшем случае *demen > *dimen). Дальнейшие индоарийско-фракийские этимологии принадлежат еще Томашеку, который сблизил Σάτραι ·ἔθνος Θράκης (Гекатей, Стефан Византийский) и арийское ks̥átra- 'господствующая часть народа' (14, 1, с. 68) и, что не менее интересно, Βησσοί, название части фракийцев-сатров, в эпиграфике - BESUS, а также VESUS, - с др.-инд. veśá- 'член того же рода, служитель' (14, 1, с. 72-73), что может быть для нас бесценным свидетельством отголосков арийского кастового деления на кшатриев и вайшьев в Восточных Балканах. Эти несколько экзотические, с точки зрения славистики, свидетельства были даны здесь как бы в виде целой серии с тем, чтобы исключить возможные подозрения в случайности.
Возвращаясь на славянскую языковую почву, мы едва ли вправе думать, что здесь мы до такой степени "дома", что все гипотетическое уступает место уверенным суждениям. Непрекращающиеся споры о южнославянском языковом единстве (вторично или изначально? - последнее едва ли, а первое тоже так и не было достигнуто полностью) говорят об обратном. Как славяне заселяли балканский регион? Преодолевался ли при этом Дунай на нескольких или многих местах своего среднего, а также нижнего течения ? Особенно популярной была идея двух главных потоков славян, один - на среднем течении Дуная, другой - на нижнем его течении. И в рамках сербокроатистики предпринимались попытки выявить два возможных этнокультурных потока, но результат слишком уж смахивает на единый нормально функционирующий языковой и культурный ареал, где инновации занимают центр, а архаизмы оттесняются на периферии. Для сербохорватской исторической диалектологии характерно северно-южное направление главных изоглосс (17, с. 143-144, 379). Несомненно существование главного людского потока, который направлялся со Среднего Дуная на Юг и изливался в долину Вардара (Аксиоса). Этим путем на Юг шли не только славяне, но и другие индоевропейские племена в гораздо более раннее время. Дорийская миграция по этому пути с дунайских равнин в Эгеиду берет начало в неолите (25, с. 98-99). Можем ли мы приписывать такую же достоверность и второму, восточному потоку славян на Юг? Внешне казалось, что - да, и прежде всего - по причине этих значительных структурных различий между сербохорватским, с одной стороны, и всей восточной частью южнославянского, болгаро-македонской группой - с другой. Так возникла остроумная теория Н. Ван-Вейка, которая предполагала между обеими частями южнославянского наличие целой промежуточной зоны с субстратным (романским) населением в Восточной Сербии и Западной Болгарии. Вопрос о первоначальном ареале балканского
325
![]()
романства стал, возможно, определяющим и для последующей науки. Однако обычно акцентируемые при этом структурные различия между сербохорватским и болгаро-македонским носят все-таки вторичный характер. И промежуточная зона Ван-Вейка не помешала славянам заселить Болгарию как раз со стороны Македонии. Ибо это был магистральный путь. Не так давно польский романист В. Маньчак, известный своими неортодоксальными взглядами, предпринял попытку объяснить так называемое "румынское чудо", другими словами, выявить причины, почему именно там сохранил свое господствующее положение романский элемент. Его ответ гласит: двух славянских потоков в балканские страны не было, был только один миграционный поток - на Западе, и это спасло романский элемент на Нижнем Дунае. Болгарские славяне пришли в Румынию с юга и не раньше VIII-IX вв. (46, с. 21 и сл.). Совершенно независимо от Маньчака к такому же выводу пришел на своем собственном топонимическом материале другой специалист - покойный болгарский лингвист Й. Заимов. По его мнению, топонимия не подтверждает этот так называемый "пролом на заселването" (прорыв заселения) через Нижний Дунай. Наоборот - все известные факты говорят в пользу того, что славяне вначале дошли со Среднего Дуная до Македонии и лишь оттуда часть из них направилась на восток - северо-восток, в будущие болгарские земли (47). Со своей стороны, замечу, что изложенные взгляды перспективны не только для концепции славянского южного фланга и его динамики, но для среднедунайского раннеславянского ареала - больше, чем для какого-либо другого.
Большая работа предстоит и в собственно славянской этимологии, географии и истории слов. Мы унаследовали в этой области немало стереотипов, давно нуждающихся в свежем взгляде. Внешне вполне традиционно выглядит такой пример, как рум. zăpádă 'снег', несомненно славянское заимствование, конкретный славянский источник которого, однако, до сих пор не установлен (48, с. 229). Это привело к тому, что здесь предположили имитацию "дакского" названия снега славянскими языковыми средствами, но на почве румынского языка (17, с. 76). Но слово zăpádă - это не румынская инновация или специализация, как это иногда пытаются осмыслить (49, с. 69). Форма с таким значением в самом деле отсутствует в южнославянских и как будто в остальных славянских языках (повсюду в наличии *zapadъ 'заход солнца, запад'), и все же мы в состоянии напасть на след давно искомого слова в северновеликорусских говорах: запáд тропы 'засыпание тропы снегом', в Архангельской губернии (28, 10, с. 295). Стоит обратить внимание и на место ударения: запáд, при рум. zăpádă, в отличие от исконно начального ударения запад (сторона света). Выходит, что рум. zăpádă и стоящее за ним славянское слово - вовсе не калька (имитация) "дакского" или алб. dë-borё 'снег': bie 'падать', а как раз наоборот. Точно так же, вероятно,
326
![]()
рум. nisip 'песок' было заимствовано не из слав. nasypъ/ь с самым общим значением 'насыпь, дамба' (так см. 17, с. 1991, а скорее - из совершенно конкретного славянского названия песка, ср. и в этом случае северновеликорусское нáсыпь ж.р. 'куча прибрежного песку' (28, 20, с. 212). Не может быть объяснено из южнославянского специфическое слово oxaba 'наследуемая усадьба, свободная от податей', лежащее в основе местных названий Ohaba, Ohabija в Западной Румынии (17, с. 121). Любопытно при этом общее наблюдение, что корень *xab- представлен главным образом в севернославянских языках (50, с. 153-154). Но наиболее точное соответствие, включающее и общность префикса, и социальную близость значения, представлено как будто в др.-русск. охабити 'оставить, покинуть' (Словарь русского языка XI-XVII вв. 14, с. 80, с цитатой из Переяславской летописи, где повествуется о князе, который оставил без надзора свою землю). В свою очередь обнаруживает севернославянские (а не южнославянские) связи такое фондовое слово, как lapă 'рука', попавшее - и на этот раз в Западной Румынии - в румынский из одного местного славянского туземного диалекта с явными старыми севернославянскими чертами, но позднее, так сказать, "южнославянизированного" и известного в славистике как современный карашевский сербский диалект. В связи с этим говорят (Попович, Райхенкрон) о дакославянском - как о забытом особом славянском языке в юго-западной Румынии (Банат), который носил предположительно севернославянский и вместе с тем туземный характер (17, с. 45, 121, 137, 285, 301, с предшествующей литературой). Повод для этого дают как будто ряд лексических изоглосс вроде перечисленных выше и, кроме того, приводимые также в литературе морфологические особенности.
Собственно славянские черты, архаизмы и изоглоссы, на которых мы намеренно сосредоточились в предыдущих примерах, курьезным образом оказались материалом, выявляемым из румынского, но такова уж балканославянская специфика, причем важность петрифицирующего фактора иносистемного языка особенно возрастает. Поэтому еще последний пример такого рода. Рум. mînjí 'мазать', по мнению Скока, заимствованное из слав. mazati с инфигированным n перед z, можно было бы объяснить и иначе - как своеобразную контаминацию двух ступеней чередования *maĝ- и *amĝ-, причем имеет место что-то вроде продолжения незасвидетельствованного слав. диал. *mǫz- в ряду других известных славянизмов румынского с незасвидетельствованными славянскими прототипами (ЭССЯ, вып. 18, s.v. *mazati). Едва ли более вероятно другое объяснение mînjí (a mînjí) - как чисто дакского слова (45, с. 142).
Наши привычные представления о южнославянском и его словарном составе постепенно меняются. Еще недавно слово *sosna считали лексемой, неизвестной в южнославянских языках. Лишь детальные
327
![]()
исследования Е. Русеком старшей болгарской письменности и македонской топонимии (в том числе ороним Сосна) - в работах Т. Стаматоского (51, с. 223-255) показали нам, что все обстоит иначе. К лесному делу принадлежит и слово *zabělъ, о котором думали, что, кроме ст.-серб. забѣлъ 'дерево, помеченное снятием коры', сербохорв. zabio, диал., zabel, ср.-болг. забѣль и довольно обильного наличия в Македонии, в том числе в старших письменных памятниках, оно больше нигде не известно (17, с. 26, 378, 27, с. 254; 51, с. 222). Теперь мы можем назвать в этом ряду еще др.-русск. забѣль ж.р. 'недостаток древесины, вызванный обдиранием коры' (Словарь русского языка XI-XVII вв., 5, с. 133).
Дальнейшие случаи представлены словами, которые раньше считались исключительно южнославянскими, даже балканскими, что теперь требует коррективов. Довольно интересно в этом отношении *gaziti, *gazъ: сербохорв. gaziti 'ступать', gaz 'брод', словен. gaziti 'ступать, наступать', gaz 'дорога (в снегу)', болг. гáзя 'идти (по грязи)'. Ввиду такой его южнославянской исключительности предпринимались даже попытки определить это слово как потенциальное заимствование из фракийского (19, 1, с. 224; 17, с. 17). Но вышеназванное ограничение отпало, как только было обращено внимание в этой связи на блр. диал. газ 'брод' (ЭССЯ, вып. 6, с. 113). Судьба славянского слова *kopylъ запутана почти так же, как и этимологическая литература о нем. Я имею в виду болг. копи́л, кóпиле 'внебрачный ребенок', а также кóпеле 'побег, отросток, стебель', макед. копиле 'внебрачный ребенок', сербохорв. kȍpīl 'внебрачный сын', но также kȍpīle 'подпорка кофейной мельницы', слвц. коруľ 'внебрачный ребенок', далее, н.-луж. kopeło 'мотыга для навоза', польск. kopył 'копыто', др.-русск. копыль 'стояк у санных полозьев', русск. копы́л 'стояк, подпорка', укр. копи́л 'стояк у саней', 'внебрачный ребенок', блр. капы́л 'сапожная колодка'. Существует и сейчас разделяемая многими версия, которая рассматривает южнославянское kopil 'незаконнорожденное дитя' изолированно от прочих приводимых выше значений и толкует его как заимствование из алб. kopíl 'внебрачный ребенок', рум. copíl 'дитя'. Мы не станем здесь вдаваться в особую албанско-индоевропейскую этимологию Йокля, Хубшмида и др. Достаточно указать на то, что значение 'внебрачный, незаконнорожденный' типологически вторично и притом непротиворечиво объясняется из крестьянской психологии как '(лишний) побег, который отсекают'. Это наилучшим образом объясняет и все прочие приведенные выше значения, возводимые при этом к слав. *kop-, *kopati, также 'рубить, обрубать' и т.п. и мотивирующие необходимость реконструкции слав. *kopylъ (ЭССЯ, вып. 11, с. 30 и сл.). Так, в итоге оказывается одним "дакским" словом меньше. Албанский и румынский заимствовали это слово у соседей-славян, не наоборот.
328
![]()
Иван Попович в своей фундаментальной "Истории сербохорватского языка" приводит в качестве примера словенско-чакавско-южнодалматинско-черногорских лексических соответствий образование ptič и т.д. с общим значением 'птица' при литературном штокавском ptić, ст.-слав. пътишть 'птенец' (17, с. 322). Сравнительная славянская грамматика дает характеристику суф. -itjo- как форманта уменьшительных имен и обозначений малых существ, детенышей, особенно в церковнославянском (уже упомянутое пътишть и т.д.) (52, IV, с. 332, 333). Тем загадочнее тогда для нас два места из древнерусского Слова о полку Игореве: Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божия не минути 'ни хитрому, ни речистому, ни речистой птице суда божьего не избежать'; Уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубию 'его беду подстерегает уже птица на дубах'. Этот *птичь гораздъ (с северновеликорусским ц вместо ч) совершенно очевидно не является деминутивом (гораздъ - 'речистый, умный', то есть взрослый!), во всем остальном будучи совершенно тождественным южнославянским образованиям на -itjo-.
Наше обозрение славянского "южного фланга" в плане выявления ряда южнославянских и других славянских особенностей как ономастического, так и апеллативного характера, а также их словообразования и семантики (включая сюда и чисто балканскоиндоевропейские аспекты) подходит к концу. Мы преследовали также цель обратить внимание на такие случаи, которые пока не нашли доступа в более систематичные и гораздо более полные изложения. И еще один тезис я приберег к концу, собственно даже - повторение моего прежнего тезиса, который у меня созрел лет двадцать назад, при изучении лексических итогов Фасмера в его книге о славянах в Греции (6, с. 63 и сл.). Великий младограмматик Фасмер откровенно не знал, что делать со всеми этими неюжнославянскими славизмами в топонимии Греции: Κονίσπολις (ср. польск. Koniecpol и - ничего похожего в южнославянском), несколько случаев Ὄζερος (в южнославянском только jezero, в отличие от вост.-слав. озеро), топоним Ζγκάρι в Фессалии, больше соответствующий укр. Згар(ь), чем чисто южнославянскому Izgar, рядом со Ζγκάρι - топоним Τολπίτσα, родственный русск. толпа 'множество людей', но лишенный болгарских и сербохорватских соответствий, Μπαλαμούτι - с исключительно севернославянскими соответствиями, при полном отсутствии южнославянских, Πολοβίτσα, совершенно неизвестное южнославянскому словарному составу. Есть основания полагать, что, во-первых, от этой серии случаев просто отмахнуться уже нельзя, во-вторых, есть вероятие, что число подобных случаев еще умножится (исследование Фасмера далеко не исчерпало славянский пласт греческой топонимии, как показывает хотя бы работа Ф. Малингудиса). В 1974 г. я сформулировал упомянутый свой тезис в том смысле, что селившиеся в Греции ранние славяне характеризовались немалой этнической и языковой пестротой, и это напомнило мне русское освоение
329
![]()
Сибири, в котором, кроме признанной северновеликорусской (новгородской) колонизации, принимали участие также целые южновеликорусские зоны (напр. семейские, то есть жители с берегов Сейма), а также смешанные говоры (ну, и, разумеется, еще украинцы!). Относительное сплочение в таких ситуациях приходит вторично. Но дело не только в том, что по этому вопросу я думаю сейчас то же, что думал двадцать лет назад. Значение симптомов исходной диалектной пестроты славянского "южного фланга" видится гораздо большим, ибо оно приоткрывает перед нами диалектную сложность изначального славянского ареала на Среднем Дунае.
1. Popowska-Taborska Н. Językowe wykładniki opozycji swoi - obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości // Językowy obraz świata. Lublin, 1990. S. 61 и сл.
2. См., вслед за Лайстом (Leist B.W. // Alt-arisches ius gentium. Hrsg. von W. Meid. Innsbruck, 1978), Леман В.П. Новое в индоевропеистических исследованиях // ВЯ. 1991. № 5. С. 24.
3. Katičić R. Die Ethnogenesen in der Avaria // Typen der Ethnogenese mit besonderer Berücksichtigung der Bayern. Teil 1. Veröffentlichungen der Kommission für Frühmittelalter forschung. Bd. 12. Wien, 1990. S. 126.
4. Подробнее см. упомянутый "Свод...". С. 357 и сл., особенно 359-360.
5. См. далее Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. С. 127, 230 (сноска).
6. Трубачев О.Н. Ранние славянские этнонимы - свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6. С. 48 и сл.
7. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956 (русский перевод книги, к сожалению изобилует ошибками).
8. Historija naroda Jugoslavije. 1. Zagreb, MCMLIII.
9. Наследова P.A. Македонские славяне конца IX - начала X в. // Византийский временник. Т. XI. М., 1956. ( http://www.vremennik.biz/opus/BB/11/51612 )
10. Славева Л. Дипломатичко-правните споменици за историјата на Полог и соседните краеви во XIV век // Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија. Т. III. Уредник Вл. Мошин. Скопје, 1980.
11. Schelesniker Н. Slavisch und Indogermanisch. Der Weg des Slavischen zur sprachlichen Eigenständigkeit. Innsbruck, 1991 (= Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge und Kleinere Schriften 48).
12. Popowska-Taborska H. Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka. Wrocław etc. 1991.
13. Polák V. Considérations étymologiques sur l'alb. Shqiptar 'Albanais' // Slavia. Ročn. 59. 1990. Seš. 4. S. 347 и сл.
14. Tomaschek W. Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung. Unveränderter Nachdruck. Wien, 1980.
15. Vasmer M. Die Slaven in Griechenland2. Leipzig, 1970.
16. Трубачев О.Н. В поисках единства III // Русская речь. 1991. № 4.
17. Popović I. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.
18. Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 (I-VI вв.). Отв. ред. Л.А. Гиндин, Г.Г. Литаврин. М., 1991.
19. Български етимологичен речник. София, 1971.
330
![]()
20. Этимология. 1980. М., 1982.
21. Schramm G. Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart, 1981.
22. Ramovš F. Über die Stellung des Slovenischen im Kreise der slavischen Sprachen // Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B.T. XXVII. Helsinki, 1932. S. 69. Перепечатано в: Die slawischen Sprachen, Bd. 27 (Salzburg), 1991.
23. Skok Р. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971.
24. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. München, 1979.
25. Katičić R. Ancient languages of the Balkans. Part 1.
26. Григорян Э.А. Словарь местных географических названий болгарского и македонского языков. Ереван. 1975.
27. Селищев А.М. Славянское население в Албании. Nachdruck: R. Olesch. Köln; Wien, 1978.
28. Словарь русских народных говоров. Л.
29. Войтенко А.Ф. Лексический атлас Московской области (пункт 254).
30. Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis źodynas. Vilnius, 1981.
31. Mazon A. Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du Sud. Paris, 1936.
32. Popowska-Taborska H. Problem południowosłowianskiej peryferii językowej w dociekaniach nad etnogenezą Słowian // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa, Poznari, 1980.
33. Walde A., Hofmann J.B. Lateinisches etymologisches Wörterbuch4. Heidelberg, 1965.
34. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch4. Bd. 1. Bern; München, 1959.
35. Младенов С. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.
36. Friedrich Р. Proto-Indo-European trees. The arboreal system of a prehistoric people. Chicago and London, 1970.
37. Фасмер M. Этимологический словарь русского языка2. М., 1986. 1987.
38. Hehn V. Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe. New ed. by J. Mallory. Amsterdam. 1976.
39. Большая советская энциклопедия3. Т. 25. М., 1976.
40. Moszyński К. Pierwotny zasiag języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957.
41. Дуриданов И. Езикът на траките. София, 1976.
42. DuridanovL Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle. Köln; Wien, 1975.
43. Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótara4. I k. Budapest, С. 422.
44. Detschew D. Die thrakischen Sprachreste2. Wien, 1976.
45. Reichenkron G. Das Dakische (rekonstruiert aus dem Rumänischen). Heidelberg, 1966.
46. Mańczak W. Pourquoi la Dacie, au contraire des autres provinces danubiennes, n'a-t-elle pas ete slavisee? // Vox Romanica 47, 1988.
47. Заимов И. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. София, 1967. С. 100 и сл.; Он же. Български географски имена с -jь. София, 1973. С. 63, 186; Он же. Българските водни имена като извор за етногенезиса на българския народ // Hydronimia słowiańska. Wrocław etc., 1989. С. 118.
331
![]()
48. Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Neudruck. Amsterdam, 1970.
49. Buck C.D. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages3. Chicago; London, 1971.
50. Popowska-Taborska H. Schaby czyli o ciągach zmian znaczeniowych // Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich. 1991 (отд. оттиск).
51. Стаматоски Т. Македонска ономастика. Скопје, 1990.
52. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. Т. IV. La formation des noms. Paris, 1974.
4. XI. MEDZINÁRODNÝ ZJAZD SLAVISTOV BRATISLAVA 30. AUGUSTA - 8. SEPTEMBRA 1993
ZÁZNAMY Z DISKUSIE К PREDNESENÝM REFERÁTOM
SLOVENSKÝ KOMITÉT SLAVISTOV SLAVISTICKÝ KABINET SAV
BRATISLAVA 1993
1. Я имею некоторые возражения по концепции господина профессора Тышкевича, из которой явствовало, что славяне - туземцы на Дунае, но почти тут же следуют неоднократные утверждения о прибытии славян, почему-то при этом господин профессор Тышкевич пишет упорно о прибытии на Нижний Дунай, хотя сюда как минимум надо включать понятие ареала Среднего Дуная. Мне показалось это несколько противоречивым. Тышкевич сам пишет, что каждый раз, когда авары прибывали, они всегда уже заставали славян. Значит, это миф о том, что славяне были приведены аварами откуда-то, будто бы маленький контингент - двадцать тысяч авар - почему-то пригнал все славянские или этнически достаточно сложные массы на Средний Дунай. Значит, профессор Тышкевич показывает объективно, что это было не так, что славяне предшествовали приходу авар - раз, и что приход славян не зафиксирован историками - два. Мне показалось это достаточно ценно. Об остальном можно спорить, и мы это делаем. Что касается известий о том, что уже примерно с IV в. Прокопий фиксирует присутствие славян-антов на Черном море, ну, здесь, с Вашего позволения, мы чуть пытаемся расширить хронологические рамки. Четвертый век нашей эры - это, может быть, почтенная древность, но для сравнительного языкознания относительно позднее время, и мы говорили, прошу прощения, о тысячелетиях, предшествующих Рождеству Христову, причем, накапливается большой материал индоевропейский, по индоевропейской
332
![]()
диалектологии, который свидетельствует о контактах славян, контактах часто только исключительно или эксклюзивно славянско-неславянских, которые мы можем датировать временем значительно более древним, не исключая присутствия в IV в. нашей эры славян на Черном море. Наверное, ряд лингвистов будет продолжать (и не только лингвистов, но и историков, и археологов) отстаивать восточную прародину славян своими аргументами, стараясь оспорить своих оппонентов, но это, естественно, не исключает возможности, в свою очередь, критически взглянуть на эту традиционную точку зрения. Насчет того, что, скажем, не знали бука, поэтому заимствовали название бука, поэтому сидели к востоку от линии Кенигсберг - Одесса, как известно, я со всей краткостью, но постарался сегодня сказать обо всем этом. Как мне показалось, этот аспект культурной стадии, который я затронул в отношении ареала западных венетов, в сущности ставится только сейчас. Даже принимая традиционную трактовку заимствования названия бука, получается, что славяне сидели в Польше - по Фасмеру, в центре России - по Ростафинскому, по верхнему Дону - согласно Збигневу Голомбу и т.д., и т.п. Из того, что вы говорили, я не во всем вижу противоречия, но в каких-то определенных кардинальных моментах необходимо все-таки продумать некоторые взаимоисключающие точки зрения.
2. Я просто не могу допустить мнение, что нет никаких оснований говорить о дакославянском востоке. У меня речь была не об одном слове, а о нескольких, по крайней мере, словах и их значениях, их какой-то возможной, во-первых, севернославянской связи, вовторых, в некоторых случаях - восточнославянских связях. Об этих вещах, отдаленных от нас количеством столь неблагоприятных обстоятельств, временем, трудно вообще судить. Один, два, три случая, потенциально достаточно древние, претендуют на многое. Иван Попович счел возможным назвать крашованский диалект продолжением дакославянского. Мне это показалось интересным, поскольку было созвучно тому, чем интересуюсь я.
* * *
1. Конечно, я знаю, насколько это служило поводом для подозрений, чтó это за нарцы, и здесь искали какие-то политические амбиции, как, например, делал историк Владимир Дорофеевич Королюк, полонист, историк Древней Руси. Считать нарцы союзом в этом грамматическом контексте не считаю вероятным. Главное - это то, что форма нарцы сейчас отнюдь не выглядит изолированно, она включается в исторический, историко-лингвистический контекст, потому что трудно отказать в вероятности сближению и отождествлению с Nara в составе Sclavus Nara в эпитафии VI в., которая восходит к событиям IV в. Теперь о Норике. Важно отражение дославянского
333
![]()
или там околославянского о долгого в отношениях пары форм Noricum - нарцы, а сейчас имеем дело еще с дополнительным материалом Nōricum - Nara и со стороны славянской это довольно усиленная позиция, имея в виду это Nara с а долгим. Иная версия о нарцы - в связи с -рьцы императивным от нарѣкти, нарѣшти - малоправдоподобна.
2. Можно так объяснить, что, конечно, нарцы - это нечто ославяненное. И в случае с венетами, венедами название перенесено на славян. Нет никаких претензий считать это славянскими, но лишь ославяненными названиями. Могут быть правы и те, кто считают, что нарцы первоначально были пограничным с славянами племенем. Так, милинги в одних случаях были по контексту неславяне-иллирийцы, а в других случаях есть милинги Пелопоннеса, это уже славянские племена. Тем более речь идет о Норике, о провинции римской, более западной, чем Паннония. Конечно, для славян это была периферия, и славяне здесь общались с нориками дославянскими.
* * *
По поводу доклада Г.Ф. Ковалева "Основные тенденции формирования и развития этнонимии славянских языков"
Вы нам нарисовали схему движения славян, сказав, что так представляете себе движение славян на основе изучения этнонимов. Две версии об имени ободрити. О западнославянских ободритах - как говорит Ковалев, - это 'об/по Одре живущие'. Но, пожалуй, еще более важное возражение идет от свидетельства франкских анналов о южных, практически придунайских, среднедунайских каких-то ободритах, чье имя значит "vulgo" (на народном языке) - Praedenecenti - 'разбоем, грабежом промышляющие'. Поэтому тут вернее думать об отглагольном производном типа наймит от глагола ободрать - ob-derti/obdьrati.
Не совсем четка позиция автора о собирательности: как выразились Вы, оттенок негативности, присущий собирательности, - когда присущий? Сейчас можно услышать негативное собирательное татарва или подобные, но когда Нестор пишет Чехи, Морава, он, так сказать, нейтрально трактует их, и тут нет никакой негативности в этой исходной собирательности. Вы тут бегло, очень кратко говорили об исключительно древнерусских образованиях собирательных типа Русь или Печора, что не совсем верно, известны старопольские Saś 'саксонцы', żmudź, особенно Jaćwież. Еще одно замечание. Дреговичи белорусские и вот эти Druguviti, Drugovitae надо как-то объяснить, и получается как будто только из прабелорусской лексической базы.
334
![]()
* * *
При всем пиетете к письменным источникам и их издателям, хотел бы обратить ваше внимание на ту роль и значение, которые имеют в этих вопросах, в их решении лингвистические данные и то, что нас уводит или выводит за рамки письменных источников, которые при всем своем авторитете и порой древности, бывают достаточно новые. Тем самым в какой-то мере позвольте высказать робкое предостережение против определенного позитивизма, не допускающего ни шага в сторону, только то, что говорят источники, все же остальное будто бы является ересью. И как языковед, как компаративист, я хотел бы обратить внимание на важность реконструкции, которой надо придавать порой решающее значение. То, что я сейчас скажу, в какой-то мере продолжает вступительное замечание нашего председателя, коллеги Матуша Кучеры, имея в виду при этом самоназвание народа, который гостеприимно принимает нас на своей земле - Slovák, женское Slovenka, адъективум slovenský и плюраль Slováci. Конечно, маскулинум Slovák и плюраль Slováci - это нечто вторичное. Slovenka, конечно, архаичнее, чем Slovák, в духе западнославянской тенденции, не только в данном случае словацкой, но и наблюдаемой довольно широко на польском языковом материале, ср. отношение первенства и вторичности: Krakowianin - Krakowiak, Polanin - Polak. Ясно, что, сделав один небольшой шаг, от словака мы переходим к общему самоназванию не только словаков, но и всех славян: *slověninъ, *slověnъka, уцелевшее slovenský как адъектив и т.д. и т.п.
Теперь еще несколько слов, если позволите, о самоназвании всех славян и об их этнонимии. Это самоназвание не заимствованное, об этимологии его не хотелось бы говорить, предполагаю, что все ее знают и, может быть, большинство даже сочувствуют тому, что *slověninъ связано с глагольно-именной группой slovǫ, sluti 'говорить понятно'. Это люди своей речи, люди, понятные своей речью. Но здесь имело бы смысл сказать об особенности употребления, весьма спорной и иногда накладывающей отпечаток даже на само направление этимологизации этого гиперэтнонима *slověninъ, поскольку приходится читать и слышать, что *slověninъ — это, если и самоназвание, то самоназвание скорее пограничное. Мы действительно наблюдаем, что словинцы в польском ареале, словени новгородские в древнерусском ареале, словинцы/словенцы на крайнем западе южного ареала, периферийны, пограничны. И, в конце концов, все эти византийские sklaviniai, теснившие римский limes и византийскую императорскую территорию, тоже располагались по южной границе, подвижной границе южного ареала славян. Создается картина, как будто преимущественно эти названия фиксируются по периферии. Из этого, наверное, нельзя делать вывод, хотя он и напрашивается, что этот гиперэтноним существует только на
335
![]()
периферии, очевидно лишь, что именно на периферии наблюдается ситуация обостренного национального, если хотите - этнического самосознания, сказывающаяся на частотности употребления типа известного явления в топонимии — Německý Brod, Český Brod, там, где кончается чешский ареал и соответственно начинается другой. Смысла в названии Český Brod внутри чешского ареала, очевидно нет, оно актуально лишь на границе. Так получается и в случае периферийности самоназвания *slověninъ. Из этого нельзя сделать вывод, что внутри ареала *slověne так себя не называли. Хотя фактически они, очевидно, называли себя там так реже, потому что не было надобности без конца друг другу говорить: я *slověninъ, ты *slovéninъ, мы *slověne, ибо это было бы и так понятно постольку, поскольку слишком тривиально. По всему по этому противоречия между эндогенным происхождением этого этнонима и его преимущественной частотностью периферийной - противоречия между одним и другим, повторяю, нет. Налицо остается лишь преимущественно периферийная фиксация этого этнонима. Тогда перед нами открывается новое противоречие, ведь все-таки мы привыкли считать, что словаки, словацкий народ - это центр всего славянства. Пусть это мысленное единство идеальной территории славянства нарушено румынским анклавом, венгерским вторжением, оно все же мыслится как некий единый ареал, а словаки - в центре этого ареала. Они ниоткуда не пришли - я чем дальше, тем больше в это верю и вместе с тем они, эти самые *slověne, так сказать, несут на себе печать периферийности употребления своего этнонима, о чем я уже сказал. И эта периферийность тоже здесь не случайна. Мой друг Антон Габовштяк несколько лет тому назад подарил мне такой художественный образ-метафору. Он сказал: "Словацкий ареал и мы, словаки, расположены как бы амфитеатром, который смотрит на юг". Это выглядит так, что Карпаты ограничивают словацкий ареал с севера, северо-востока, причем этот ареал остается всегда открытым к Дунаю, дунайскому югу. Идея периферийности гиперэтнонима *slověninъ, *slověne или его же роли более узкого этнонима 'прасловаки' остается в силе, таким образом. Повторяю свой тезис: открытость словацкого этнического ареала к югу и очевидно древняя пограничность в отношении севера, северо-востока, куда уходили этнические потоки из древнего славянского ареала, если его мыслить на Дунае. Пограничная частотность в употреблении этого этнонима - вот на что я хотел бы обратить внимание, обсуждая словацкий этногенез.
336
![]()
5. О РАБОТЕ XI МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ (ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ) [1]
По данным оргкомитета XI MCC, попавшим и в нашу печать, этот очередной съезд славистов собрал свыше тысячи участников из тридцати пяти стран. Реальность этих цифр подкрепляется внушительной программой съезда, изданной Словацким комитетом славистов, согласно которой на этот съезд, проходивший с 30 августа по 8 сентября (точнее - с 31 августа по 7 сентября) 1993 г. в столице Словацкой республики Братиславе, было представлено (заявлено) 1.134 доклада (включая письменные сообщения). Как это обычно бывает, жизнь внесла свои коррективы: довольно многие докладчики не смогли приехать по ряду причин, в том числе самых суровых (болезнь или смерть). Организаторы оказались на высоте: возникавшие пробелы в программе оперативно замещались тематически близкими докладами из числа письменных сообщений ("Skripty") и даже вновь заявленных докладов, на информационных стендах и в ежедневном печатном бюллетене заблаговременно сообщались все предстоящие изменения, для каждого доклада было зарезервировано "свое" получасовое время (20 мин. на доклад, 10 мин. - вопросы и выступления и даже - 5 мин. вслед за этим "na presun do inej miestnosti" в случае, если вы желаете срочно перейти для слушания другого доклада, место и время которого так же точно оговорены в программе). Текущая практика, правда, эту отменную теорию нарушала, порой - не без нашего участия, интересная дискуссия затягивалась, нерационально разделенные программой заседания представлялось нам самим целесообразным объединить и т.д.
Кстати, еще раз о программе. В настоящем своем сообщении, я ограничиваюсь тематикой исторического языкознания, сознавая, разумеется, что сколько-нибудь строгое разграничение при этом невозможно и малополезно, интердисциплинарность привлекает исследователей все больше (о потенциальных открытиях именно на стыках дисциплин специально говорил на съезде археолог В.В. Седов, который и сам докладывал об этногенезе славян "по данным археологии и гидронимии"). Но невозможна, к сожалению, и тематическая полнота, которой в данном случае препятствует ряд причин. Одна из них - программа. Если в памяти ветеранов славистических съездов пиком тематической хаотичности остался VIII MCC (Загреб,
1. Прочитано на заседании Отделения литературы и языка РАН под председательством Н.И. Толстого 22 сентября 1993 г.
337
![]()
1978), когда любая тема могла соседствовать на заседании с любой другой, обычно же от съезда к съезду сохранялось - пусть старомодное, но традиционно удобное - разделение тематики на большие секции по (1) славянскому языкознанию, (2) славянским литературам, (3) истории, этнографии, фольклору (возможные случавшиеся вариации здесь опускаю), в программе XI MCC эта привычная дихотомия или трихотомия славистики была весьма своеобразно (порой несоразмерно) запрятана в пять основных тем, слишком тесно привязанных к чешско-словацкому региону:
I. "Великая Моравия и славяне в контексте европейской истории и культуры" (куда, оказывается, входил весь этногенез с древнейшей историей по данным археологии, топонимии и этнолингвистики, вплоть до раннефеодальных государств, а также - начала письменности, литературных языков, духовная и материальная культура...);
II. "Гуманизм, ренессанс и барокко у славян" (здесь вновь можно встретить литературные языки, но и очень много другого);
III. "Славянское национальное возрождение в XVIII-XX веках и его международный контекст";
IV. "Славянские народы, их языки, литературы, устная словесность, культура и гуманитарные науки в XX веке" (очень сложная смесь семиотики - на первом месте! только потом - славянской филологии, сравнительного и прочего языкознания, предназначенного, заметим, для реконструкции того, что зашифровано выше под темой I; периодизация всего - "языков, литератур и культур", далее, как из мешка, - грамматика, лексикология, ареалогия, текстология, контакты, мировой контекст...);
V. "Славистика в системе гуманитарных наук, ее предмет, история, методы и результаты".
Как видим, вся съездовская программа как бы повернута в сторону культурной истории. При этом нарушен традиционный примат филологии, даже обычно - лингвистической филологии. Не было в сущности секций, а то, что в программе названо "заседаниями пленумов секций" (общим числом пятнадцать), оказывается реально подсекциями, на самом же деле, последних, временами - очень дробных, оказалось не менее тридцати пяти. Среди них, кстати, уже не удалось обнаружить секции (или подсекции) "Лексикология и лексикография", хотя как пленарная таковая была обозначена, только почему-то с докладом С. Кароляка по аспектологии. При всем уважении к аспектологии (о последней еще скажем дальше специально) и к Кароляку, хотелось бы указать на это как на недостаток организации: в конце XX века, 70-80-е годы которого неслучайно были названы "золотым веком лексикографии" (L. Zgusta, International encyclopedia of lexicography, vol. III, Berlin, de Gruyter, 1991, p. 3158), славистический съезд должен был предусмотреть специальную более тщательно подготовленную подсекцию, посвященную славянским словарям и словарному делу. Может быть, поэтому потом особо надо будет сказать о Комиссии лексикологии и лексикографии.
338
![]()
Известно, что большие съезды с их практикой одновременного (параллельного) заседания секций и подсекций труднообозримы. Как оказалось, это целиком относится и к XI MCC. Даже если опустить вкравшиеся в связи с неявкой докладчиков неточности, всех докладов по языкознанию по программе было свыше трехсот (плюс сто с лишним лингвистических письменных сообщений).
Лично для меня этот большой съезд ограничился, кроме общепленарного открытия и закрытия, работой одной секции 1а "Этногенезология, этногенез и древнейшая история славян с археологической, исторической, топонимической и этнолингвистической точки зрения", где я прочел свой доклад "Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения", а также прослушал другие доклады и участвовал в обсуждении некоторых из них. Ввиду очевидного комплексного характера секции из двадцати восьми ее докладов лингвистическими оказалась только часть. Идя навстречу пожеланию болгарского коллеги И. Дуриданова, мы приняли в свою секцию его вместе с его близким тематически докладом "Заселение славянами Фракии по данным топонимии", числившимся по секции "Ономастика". Эта инициатива благоприятно сказалась на интенсивности наших дальнейших дискуссий. Но это было, пожалуй, все, что оказалось возможным сделать. Уже секция 1b "Методы реконструкции праславянского языка и славянской прародины", тематически, казалось бы, трудноотторжимая от секции 1а по этногенезу, заседала параллельно и отдельно и поэтому оказалась вне нашей (моей) досягаемости. В своих дальнейших суждениях о работе съезда, его докладах и докладчиках я основываюсь на впечатлениях от прочитанного (доклады в отдельных оттисках и сборниках к съезду, на этот раз весьма скудно доступных, сравнительно с опытом подготовки прежних съездов, возможно, по причине нынешних почтовых неурядиц; впрочем, рекорд "недоступности", боюсь, побил наш сборник докладов по языкознанию, значительная партия которого сразу после доставки в Братиславу исчезла при довольно темных обстоятельствах). В неменьшей степени я опираюсь также на информацию, предоставленную мне для моей нынешней цели многими коллегами, докладчиками и активными участниками съезда - Ж.Ж. Варбот, Л.В. Куркиной, И.С. Улухановым, В.Н. Виноградовой, В.В. Крысько, H.H. Пшеничновой, Л.В. Вялкиной, С.И. Иорданиди и A.B. Бондарко. Приношу им свою благодарность за помощь в насыщении картины языкознания, причем не только исторического, на минувшем съезде. Старались помочь, как могли, и мои словацкие коллеги, когда я готовился выступить со своими впечатлениями еще в Братиславе, для чего археолог Т. Штефановичова представила мне полный реестр докладов и выступлений в секции по этногенезу. Из-за моей преимущественной связи именно с этой секцией словацкие коллеги воспринимали меня почему-то как историка; при этом на мою просьбу предоставить мне отчеты о заседаниях и дискуссиях
339
![]()
я получал, порой - невпопад, информацию о народном самосознании, возрождении и романтизме, новейшей политической и культурной истории... Как бы то ни было, хочу высказать искреннюю благодарность словацким участникам - организаторам и друзьям, самоотверженным помощникам и помощницам из "штаба" (так он назывался в обиходе!) во главе с Я. Дорулей. Именно они создавали и поддерживали ту незаменимую атмосферу доброжелательства в Братиславе.
Начав с секции 1а "Этногенезология, этногенез, etc.", выделю самое существенное оттуда в контексте съезда и историко-лингвистического славяноведения. Это прежде всего - важность лингвистических критериев в работах комплексного характера, безотносительная актуальность лингвистической типологии и лингвистической географии. Если речь идет об известных истинах, не следует думать, что они уже достаточно внедрены в исследовательскую практику, взять хотя бы естественную оппозицию инновационного центра и архаизирующей периферии ареала. В дискуссии по докладу Седова Дуриданов пытался искусственно противопоставить явно периферийное скопление архаичных славянских гидронимов среднеднепровского Правобережья у Седова (по Трубачеву) и древний среднедунайския центр праславянства (по Трубачеву же), хотя в терминах естественного ареала никакого противоречия здесь нет (см. выше). Историков, археологов, лингвистов - всех занимает проблема континуитета (преемственности) и дисконтинуитета. Согласно археологам, абсолютно преобладал дисконтинуитет (смена культур) и к северу от Карпат, и к югу, на Среднем Дунае. Однако это еще не основание, чтобы в смене культур обязательно видеть смену этноса. Если языкознание располагает своими данными о преемственности языков в регионе, значение этих данных вполне автономно. Среди историков все еще сильна тенденция позитивистски прямолинейно воспринимать и обобщать случайные по большей части лакуны письменной истории (пресловутое длительное "неупоминание" славян на Дунае и др.). Вспоминается эмоциональное выступление в дискуссии польского историка Л.A. Тышкевича: "Samo regnavit feliciter... a potem со? A potem - nic!" (Само правил счастливо [слова средневековой латинской хроники о древнейшем государственном объединении западных славян]... а что потом? А потом - ничего!). Именно в таких случаях должна вступать в силу лингвистическая реконструкция (типологическая и этимологическая). Сказанное могло бы иметь прямое отношение к больному вопросу о Великой Моравии, ясность в котором нужна, но она трудно достижима, поскольку исследователи замыкаются в аргументации церковноисторической, текстологической, чрезмерно обобщая ее и примешивая, к сожалению, сюда свои национальные чувства, которые, разумеется, не хотелось бы задевать. Лингвисты практически не участвовали в обсуждении узкого вопроса о названии и локализации Великой Моравии
340
![]()
(хотя уже в двух лингвистических докладах на открытии съезда Великая Моравия фигурировала), и это при том, что историческое языкознание способно сказать здесь свое слово. А все дело в неправомерном отождествлении Моравии (историческая область по реке Мораве между Чехией и Словакией) и Великой Моравии. Кульминацией на съезде был доклад американского историка И. Бобы, который за последние двадцать лет стал знаменит своим тезисом о южном, паннонском расположении Великой Моравии. В дискуссии чешские и словацкие историки с редким единодушием отстаивали тождество Моравия = Великая Моравия, но запомнилось и резкое выступление старика Герберта Гальтона, который напомнил один неотразимый контраргумент, сославшись на то, что Константин Багрянородный, впервые, кстати, упоминающий о Великой Моравии, помещает ее к югу от Τουρκοι, то есть 'венгров' в его терминологии. И. Бобу упрекают в том, что он не филолог, чего он и сам не отрицает, но я не услышал убедительной филологической критики в его адрес, в том числе и от филолога X. Бирнбаума, выступившего со специальным докладом "Где был центр моравского государства?" Историко-лингвистическое, в духе пространственного релятивизма, дополнение к дискуссии формулируется довольно просто, как некая миграционная трасса, начало которой - чешско-словацкая Morava/Моравия, а конец - Великая Моравия на юге (ср. то, что можно сказать о Великобритании, Великороссии). В этом отношении многозначительна формулировка докладов Р. Вечерки "Позиция старославянского языка в сложной языковой действительности древней Моравии" и З. Кланицы (оба - Чехия) "Мифология древней Моравии". Моравия (она же - древняя Моравия) и Великая Моравия - это разные вещи.
В целом, как это видно, доклады и дискуссии по этногенетической проблематике имели бесспорно стимулирующий характер, причем затрагивались весьма разнообразные вопросы, ср. доклад В.В. Мартынова "Этногенез славян. Язык и миф" с уклоном в теонимию, древние имена божеств, вызвавший дискуссию как в плане этимологии этой лексики (выступил Л. Мошинский, который сам читал доклад "Проблема кельтских влияний на древнеславянскую теонимию"), так и в принципиальном плане желательности разработки диалектологии культуры, в том числе - диалектологии древней религии славян, иранцев. Заметным явлением был доклад Н.И. Толстого и С.М. Толстой "Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. *vesel-)", вызвавший соответствующую дискуссию, лично мне видится интересной дополнительная поисковая возможность, представляемая для новых этимологических решений этнокультурной семантикой обрядовых текстов (случай *veseлъ - *vesna: исконное родство или народная этимология?).
Органически продолжил работу секции "Этногенезология, этногенез..." "круглый стол" по этногенезу словаков, о котором также
341
![]()
необходимо сказать в связи с одним явлением, имеющим не только историко-лингвистический, но и национально-исторический аспект. Из околосъездовской научной литературы, как, впрочем, и из текущих материалов съезда (например, выступление Р. Крайчовича на означенном "круглом столе") обратила на себя внимание тенденция удревнять становление словацкого этноса; терминологически это выразилось в словоупотреблении starí Slováci 'древние словаки', притом, что возведение "древних словаков" к этнической стадии Sloviene / Slovania / slověne вызывает определенное концептуальное сопротивление (ввиду этнической недифференцированности этих последних - праславян?). Даже если опустить возможные политико-идеологические инспирации в подобных случаях, наше внимание вправе привлечь чисто научная сторона вопроса, включающая и историческое словообразование, и ареальный аспект, поэтому мне придется кратко повторить то, что я сказал на "круглом столе" и на пленарном закрытии съезда. Современные Slovák - Slovenka 'словачка' уже по логике внутренней реконструкции восходят к древнему самоназванию всех славян - *slověninъ, *slověne. Нынешние формы представляют собой западнославянский тип развития, ср. Polak ← Polanin, Ślązak, Slezâk ← *slęzaninъ/ne. Особенно актуализировалось самоназвание славян на неславянском пограничье: Sloveni, Słowińcy, словѣне новгородские. Внутри ареала оно, наоборот, сохранялось хуже, было как бы избыточным. Привычно считать Словакию центром славянства, но как тогда быть с отмеченным феноменом периферийности самоназвания * slověne? Умозаключение, к которому логично при этом прийти, кажется не лишенным интереса в славянско-словацком аспекте, одном из актуальных для нашего съезда. Ныне срединный, ареал словаков, в прошлом - этноса с самоназванием *slověne, напоминающий амфитеатр, спускающийся к Дунаю (точный метафорический образ, который я услышал от А. Габовштяка в одной из бесед), был всегда открыт к дунайскому Югу, а с севера огражден не только горами но и, наверное, давним этническим рубежом. Отсюда столь же давняя традиция именования словаками, то есть "славянами".
Работа секции праславянского языка протекала относительно спокойно. Ф. Славский и Г. Лант не приехали, заявленный Славским доклад "Реконструкция праславянского словаря", кстати, отсутствовал и в корпусе печатных польских докладов по языкознанию. Польские докладчики В. Жепка и В. Вальчак анализируют "Судьбы праславянской лексики в польском языке (по данным чтения "Праславянского словаря")" - так, как если бы наш более продвинутый Этимологический словарь славянских языков не существовал в природе (с польскими авторами это бывает). Из лаборатории нашего Этимологического словаря вышли, можно сказать, доклады Л.В. Куркиной "Паннонославянская языковая общность в системе диалектных отношений праславянского языка" и Ж.Ж. Варбот
342
![]()
"История славянского этимологического гнезда в праславянском словаре". Отдельные доклады секции в основном были посвящены сравнительно-исторической морфологии, морфонологии и фонетике: У.Р. Шмальстиг. Итеративы продленной ступени в балто-славянских языках; Г. Фаске. Праславянские группы tert/telt и изменение *е > о в серболужицком; Й. Райнхарт. Празападнославянский глагол. Последний доклад обращает на себя внимание постановкой проблемы выделения ряда древних региональных, диалектных черт глагольной морфологии (празападнославянские аорист на -ech, 1 л. мн.ч. на -my и др.).
Доклад X. Шустер-Шевца "Еще раз о датировке и результатах второй палатализации задненебных в славянском" тематически весьма близок к докладу Я.И. Бьёрнфлатена "Диалекты Псковской области в общеславянском контексте", запрятанному в секцию IVg "Славянский диалектный и этнографический мир с географической точки зрения": оба критически пересматривают исключения из II палатализации на русском Северо-Западе (работы С.М. Глускиной и A.A. Зализняка). К ним примыкает доклад П. Энриетти "Вторая славянская палатализация в свете интерференции языков", почему-то в секции 1е "Возникновение литературного языка, начала письменности, литературы, духовной и материальной культуры..." Ясно, что, лишь собрав все три доклада в одно место, можно было бы организовать неплохую сессию по этому проблематичному явлению славянской фонетики.
Как было замечено, на съезд не приехали некоторые ученые старшего поколения, именно на съездах приходишь к мысли о смене поколений в науке. Неприезд одних сделался уже традицией, способной удивлять только очень свежих участников. Зато вид 84-летнего, но неизменно бодрого профессора С. Урбаньчика, посещавшего и утренние, и послеобеденные заседания, согревал наши души, как недостающий символ связи этих самых поколений.
Этимологическая проблематика почти не нашла отражения в программе съезда, где, как уже говорилось, практически не оказалось и лексикологии с лексикографией (но ср., впрочем, очень полезный доклад У. Биргегорд о словаре Славинецкого). Исключение: доклад Э. Гавловой "Славянская этимология и омонимия" в секции 1е "Возникновение литературного языка, начала письменности, литературы, духовной и материальной культуры" (!). Впрочем, сюда примыкал и доклад Е.А. Хелимского о славянской христианской терминологии в венгерском. И все же информация по славянской этимологии присутствовала, она была рассеяна в докладах самой разной тематики и, что важно, в кулуарах съезда. То удалось получить 3-й, последний, выпуск старославянского этимологического словаря, то неожиданно - выпуск 5-й давно, кажется, прерванного полабского этимологического (К. Полянский), то подтвердится весть о подготовке кашубского этимологического словаря В. Борыся
343
![]()
и X. Поповской-Таборской, а в воздухе витает многократно повторяемый вопрос о судьбе 18-го выпуска нашего Этимологического словаря славянских языков... Рядом с этимологией естественно вспомнить историческое словообразование, представленное, в сущности, только докладом И.С. Улуханова "Состояние и перспективы развития исторического словообразования славянских языков". Доклады В. Креи и Г.П. Нещименко больше тяготели, впрочем, к сопоставительному словообразованию.
Типологический по своей теме доклад Г. Гальтона "Встреча алтайского и праславянского языков" отражал тоже уже традиционную тенденцию объяснения славянского языкового типа, в данном случае - силлабического сингармонизма, прямолинейной алтаизацией, хотя автор вынужден признать славянскую самобытность (три и более согласных в начале слова и слога в славянском). Помнится, на прошлом съезде славистов аналогичные адстратные поиски Гальтона встретили критику Д. Брозовича. Не знаю, может ли обрадовать любителей типологии и классификации славянских языков такая новость, как "боснийский язык" (bosanski jezik), язык мусульман Боснии и Герцеговины (речь, разумеется, все о том же сербохорватском...); заявлены два письменных сообщения на тему.
Корпус докладов по истории грамматического строя был дополнен уже в дни съезда с российской стороны докладом В.Б. Крысько "Развитие категории одушевленности в славянских языках: легенда и факты".
В докладе В.А. Дыбо и коллег "Праславянская акцентология и лингвогеография" достаточно сложный акцентологический аспект был дополнен пространственным планом. Привлекает внимание вывод об акцентологической полидиалектности, восходящей еще к праславянскому времени.
Вообще, надо признать, что, в отличие о некоторых других проблемных областей, проблематика славянской диалектологии, лингвистической географии, ареалогии была представлена на XI MCC весьма широко, разветвленно и даже изощренно. Здесь можно было встретить такие достаточно новые постановки проблем, как "Просодический ландшафт славянства" (М.И. Лекомцева, Т.М. Николаева). В ряде докладов фигурировал славяно-балканский сопоставительный план. Достаточно сказать, что были зачитаны и обсуждены доклады по лингвистическим атласам нескольких различных типов: "История и современное состояние диалектов славянских языков на картах Общеславянского лингвистического атласа" (В.В. Иванов), "Проблемы дифференциации славянского диалектного ландшафта (по данным Общеславянского карпатского диалектного атласа" (Б. Видоески, С.Б. Бернштейн, Г.П. Клепикова, П. Лизанец, И. Рипка, Я. Сятковский), "Лексический атлас русских народных говоров в кругу славянских атласов" (И.А Попов, Ю.С. Азарх, Т.И. Вендина, A.C. Герд, О.Н. Мораховская, З.П. Петрова). Отрадно сознавать,
344
![]()
что эти инициативы исходят в немалой степени от российской стороны. Но ср., впрочем, также доклад П. Кирая "Атлас словацких говоров в Венгрии". Время идет, рушатся тоталитарные режимы и унитаристские подходы, а лакуна болгарского отсутствия в Общеславянском лингвистическом атласе продолжает зиять. Нельзя не считаться с тем, что, например, в докладе Б. Видоеского "Межъязыковой контакт (на диалектном уровне) как фактор диалектной дифференциации македонского языка" послужившие предметом спора славянские пункты в Северной Греции включены в ареал македонского языка (см.: Реферата на македонските слависти за XI Меѓународен славистички конгрес во Братислава, Скопје, 1993, карта между с. 48 и 49). Возможно, пути преодоления противоречий в трактовке болгаромакедонского диалектного региона надо искать на какой-то формальной основе, скажем, на базе типологическо-континуумного подхода, ср. о последнем съездовский доклад H.H. Пшеничновой "Тип диалекта (славянский языковой континуум)".
Но ареальный аспект демонстрировал на съезде свою плодотворность и в тех областях, где о нем редко вспоминают. Я имею в виду доклад нашего белорусского коллеги Г.А. Цыхуна "Ареальные аспекты формирования славянских литературных языков". Переходя, таким образом, к становлению славянских литературных языков, здесь позволительно выделить основополагающие интеграционные процессы как категорию, в принципе, ареальную. Говоря о кирилло-мефодиевском книжно-письменном языке, уместно прибегнуть к такому понятию ареальной лингвистики, как (культурный) наддиалект (ср. в этом направлении уже упоминавшийся доклад Р. Вечерки "Позиция старославянского языка в сложной языковой действительности древней Моравии"), охватывавший в какой-то мере славянские Балканы той эпохи, ср. отголоски деятельности св. Кирилла еще на Брегалнице, то есть в Македонии (доклад македонской славистки Л. Славевой "Следы доморавской письменности в Македонии"). Народный язык церковной литургии и письменности целесообразно поэтому понимать как некий сублимированный культурный наддиалект, а не конкретный низовой народной диалект (ср. частично: В. Вавржинек. Кирилло-мефодиевская миссия в культурном контексте современной Европы).
Едва ли можно упрекнуть в мелкотемье тех, кто занялся интереснейшим явлением на перепутье межславянской диалектологии и литературной истории - опытом индивидуального создания "ляшского" поэтического микроязыка О. Лысогорским (сюжет, привлекший двух разных докладчиков - А.Д. Дуличенко и И. Марвана). Становлению литературных языков посвятили свои доклады Е.И. Демина и Л.Н. Смирнов. О русско-церковнославянском литературном языке докладывали П. Филкова, М.Л. Ремнёва. Библейский и специально древнееврейский языковой компонент славянского литературноязыкового развития избрали темами своих докладов
345
![]()
A.A. Алексеев, Е.М. Верещагин, Г.Д. Лилич, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова.
Нельзя не отметить (хотя это уже выходит за рамки исторической лингвистики и вторгается в область синхронно-описательную) плодотворной работы, проделанной на съезде специалистами по глагольному виду. Здесь было бы справедливо назвать целый ряд докладчиков, но я позволю себе ограничиться нашим A.B. Бондарко, которому принадлежал доклад "Предельность и глагольный вид (к проблематике славянской функциональной аспектологии)", а также такая его же сверхурочная инициатива, как коллоквиум по актуальным проблемам славянской аспектологии, с перспективой дальнейшего проведения международного аспектологического семинара в Польше (ориентировочно - в 1994 г.).
Балто-славянские языковые отношения, привлекавшие на прежних съездах славистов пристальное внимание и вызывавшие мощные скопления докладов на тему (существует даже комиссия по исследованию балто-славянских отношений при МКС), на сей раз трактовались достаточно спорадично, впрочем, в докладах таких именитых авторов, как Р. Эккерт ("Славянско-балтийские фразеологические соответствия в языке фольклора"), Р. Катичич ("Балтийские данные по реконструкции текстов одного праславянского обряда плодородия").
Эта спорадичность и мозаичность тем и докладов, заданная нам программой съезда, то есть как бы "запрограммированная", не могла не сказаться и на порядке изложения моего нынешнего отчета, в частности, возможно, на его полноте или, справедливее сказать, неполноте отражения, отчего не могла не пострадать адекватность информации о некоторых весьма почтенных разделах сравнительно-исторического и теоретического языкознания. Боюсь, что эта "неадекватность" информации коснулась в моем случае ономастики, целой секции, до которой я физически "не дошел", а там были заняты далеко не последние, можно сказать - лучшие, специалисты своего дела - Э. Айхлер, К. Рымут (он же - председатель комиссии по славянской ономастике при МКС), М. Майтан, В. Венцель и другие, с которыми меня связывают долголетние научные контакты и дружба. Но, как я уже сказал ранее, удалось только заслушать доклад Дуриданова, также уже называвшийся мною, переведя его к нам в секцию этногенеза. В секции ономастики велся бесспорно интересный разговор (а для тех, кто постоянно оперирует ономастикой и ономастической этимологией, это - продолжение разговора) о праславянских именных сложных славянско-неславянских передачах имен, ареальных ономастических ансамблях.
...Минувший съезд включал очень многое другое, на что моя компетенция не распространялась. Но глаза и уши воспринимали и запоминали и это "другое", позволяя иронически отмечать, что
346
![]()
и этот съезд, в чем-то непохожий на остальные, чем-то опять-таки те остальные напоминает, а значит, можно сказать, что съезд "состоялся". Приехало много разного народу; приехал enfant terrible предыдущих съездов (начиная, кажется; со своего скандального выступления на киевском, 1983 г.) Ф. Томсон из Бельгии и привез свою ложку дегтя, поставив себе целью развенчание духовных потенций Восточной Славии в целом... Но и это только оттенило то цельное, большое культурное переживание, которым добрую неделю жил большой славистический съезд на берегу Дуная на исходе лета 1993 г., жил духом единства и дружбы, а со сценических подмостков мирно, бок о бок звучали тщательно артикулируемые - еще кирилло-мефодиевские - слова "Отче наш" обоих обрядов, западного и восточного: ... отпусти - отпущаем - от неприязни - áмен... / остави - оставляем - от лукавого - ами́нь.
Palaeoslavica II (1994). Р. 235-247
6. ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ НА ДУНАЕ (ЮЖНЫЙ ФЛАНГ) ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. II
Автор-лингвист профессионально основывается прежде всего на лингвистической аргументации, но он не может - без риска обеднить получаемые им результаты - игнорировать типологию в самом широком смысле, то есть не только лингвистическую типологию, но и типологию культурно-историческую, даже, проще сказать, общекультурную. Сомнительно уже ригористическое исключение из исторического языкознания данных ономастики за ее якобы "неполнозначность", причем закрываются глаза на ее же замечательные выгоды. Но не менее проблематичен и чисто лингвистический снобизм, когда лингвист прокламирует дисциплинарную "сегрегацию" в отношении археологии, хотя информации по археологии, пусть многозначные и не всегда понятные не только для лингвиста, интересны во многих случаях для всех. Сказанное распространяется на данные этнографии (описание духовной и материальной культуры) и на данные письменной истории. Сравнительное языкознание по праву гордится своей способностью углубления Истории за рамки письменности (письменной истории), однако эту гордость полезно умерять безусловным требованием примата филологичности, в смысле самой широкой (и - единой) совокупной филологии, из которой лингвистику слишком уж часто и безрассудно вырывали для
347
![]()
скрещивания то с утрированным описательством, не знающим ни родства, ни племени, то с математикой или статистикой.
Переходя к проблемам прародины,' не премину привести - для краткости - суждение, которому, пожалуй, сочувствую: "The problem of locating the homeland and tracing the dispersai of the Indo-Europeans has reached an impasse" (1) "Проблема локализации (пра)родины и реконструкции рассеяния индоевропейцев зашла в тупик".
В этой обстановке важность разысканий "частных" этногенезов и прародин скорее возрастает - не по одному тому, что гарантирует большую конкретность и как бы осязаемость, но и потому, что основывается на принципиальном взгляде на (обще)индоевропейский этногенез как на сумму частных индоевропейских этногенезов и, вместо идеального исходного "единства", постулирует изначальное диалектное множество, а следовательно - важность вскрытия междиалектных связей, ресурсов этногенетической реконструкции.
Речь, далее, пойдет о дунайской прародине славян и, естественно, о критике, вызванной этой моей концепцией, среди других также и со стороны В. Маньчака, который считает, что подверг точку зрения Трубачева "szczegółowej krytyce", правда, не делая при этом различия между концепцией Людовита Новака, по которому дунайская прародина для славян - уже вторая (2) (аварские приключения, якобы случившиеся при этом, опускаем), и моей концепцией изначальной дунайской прародины славян. Ниже я постараюсь еще, если позволит место, затронуть эту характерную "szczegółowość" Маньчака.
Я смогу выделить ниже лишь некоторые из аспектов и, может быть, в первую очередь - этот "южный фланг", "южную границу" древних славян, что отнюдь, впрочем, не исключает дальнейшей детализации северных границ праславянства и их динамики. Древняя "южная граница" славян интересует и тех, чьи взгляды на славянскую прародину сильно отличаются от излагаемых здесь (3).
Нижеследующие наблюдения тесно связаны с одноименным печатным текстом моего доклада на XI Международном съезде славистов. Являясь продолжением (II) того доклада, нынешняя работа содержит дальнейшее развитие авторских взглядов, а также характеристику дополнительного материала, не повторяя в сколько-нибудь полном объеме того, что было написано на заглавную тему скоро уже два года назад и может быть доступно читателю в печатном виде.
По-прежнему актуален диалог с научной литературой. Здесь, кроме статей, которые привлекаются также отчасти ниже, должны быть названы вышедшие после софийского съезда книги на близкие темы: Udolph J. Die Stellung der Gewässernamen Polens innerhalb der alteuropäischen Hydronymie (Heidelberg, 1990); Popowska-Taborska H. Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka (Wrocław etc., 1991);
348
![]()
Gołąb Z. The Origins of the Slavs: A Linguist's View (Columbus, Ohio: Slavica Publ., 1992); КуркинаЛ.В. Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики (Ljubljana, 1992). Естественно, что диалог с названными учеными, или, вернее, их книгами, продолжается в основном с позиций книги автора, тоже, кстати, вышедшей между съездами (Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М.: Наука, 1991). Сюда приложились, конечно, и дальнейшие поиски и мысли ad hoc. Многое из этого родилось при непосредственной работе над продолжающимся Этимологическим словарем славянских языков.
Далее, одной из ключевых проблем нашей темы может быть названа
проблема
Моравы. Эта проблема (или тема), кстати, выдвинутая на первое место
организаторами братиславского съезда славистов в формулировке "Великая Моравия",
все же нуждается в объективном пересмотре, даже с риском, что этот пересмотр
затронет почтенные традиционные взгляды. Я по-прежнему думаю, что необходимо
прислушаться к мнению Имре Бобы о "Великой Моравии" на юге, о чем писал и в
своей книге (4, с. 240-241), см., помимо указанных там работ Бобы, еще
(5; 6).
Нельзя продолжать игнорировать концепцию этого историка, уместно подкрепленную
словами Арнольда Тойнби: "Великая Моравия лежала в Западной Иллирии" (цит. по:
6, с. 27). Для этого явно недостаточно одних церковноисторических и
текстологических аргументов, ср., напр. (7). Великая Моравия - это проблема
лингвистической типологии, причем "Великая" получает небуквальный, релятивный
смысл 'распространившаяся вторично' и указывает на факт совершившейся миграции,
как, скажем, Великая Греция, о чем подробнее - в другом месте (4, с. 240-241).
Великая Моравия не находилась на севернодунайском притоке Морава и уж тем более
не может толковаться как "Vetus, Old, Старая", в чем неожиданно - для меня, по
крайней мере, - сходятся Боба и его оппонент Биркфельнер (7, с. 35). Впрочем,
нельзя толковать и случай вышн![]()
![]() морава (Ассем., а также краткие жития
Мефодия) в том же духе, как это делают с "Великой Моравией", относя 'верхнюю'
Моравию якобы к 'северной', то есть опять же 'древней'
(7, с. 36). Вполне
возможно, что Вышняя Морава указывает как раз на Юг, в связи с
нахождением реки южной (сербской) Моравы в пределах исторической (римской)
области Moesia Superior, Верхняя Мезия.
морава (Ассем., а также краткие жития
Мефодия) в том же духе, как это делают с "Великой Моравией", относя 'верхнюю'
Моравию якобы к 'северной', то есть опять же 'древней'
(7, с. 36). Вполне
возможно, что Вышняя Морава указывает как раз на Юг, в связи с
нахождением реки южной (сербской) Моравы в пределах исторической (римской)
области Moesia Superior, Верхняя Мезия.
Не следует упускать при этом из виду, что на динамику внутри славянской прародины, и с выходами за ее пределы однозначно указывает нам сама история распространения гидронима Morava. В общем я уже писал об этом, но кратко повторю. Понятно, что название реки первично, а название страны, земли по ней - вторично (я имею в виду чешско-словацкую Моравию sensu stricto); может быть, несколько менее известно, что речное название Morava -
349
![]()
выразительно среднедунайский эндемик, все остальные Моравы разошлись отсюда: достаточно сказать о южной, сербской Мораве - на южном фланге праславянства, вплоть до Моравы в Южной Албании, с одной стороны, и о случаях гидронима Morawa в Польше, если говорить о северном фланге - с другой. Мне кажется, что я едва ли ошибусь, назвав argumentum Moravae доводом в пользу того, что языковое и этногенетическое прошлое древних славян берет свое начало на Дунае... Но оставим здесь на время Мораву, поскольку она обладает своим значительным индоевропейским и "древнеевропейским" фоном, и нам придется еще вернуться к ней также в связи с этим.
Другая ключевая проблема концепции о праславянах на Дунае - волохи начальной русской летописи. В своей книге об этногенезе славян (4, с. 41-42) я постарался показать, что обширный по своему значению эпизод о волохах, повлекший за собой целую миграцию славян на север, может быть правильно прочтен только при отождествлении волохов с вольками-кельтами. Отмечу, что Голомб совершенно обходит вниманием вопрос о волохах в своей новой книге, видимо, не считая его таким важным. В то же время он чрезвычайно много занимается проблемой геродотовских невров, в которых он видит славян, в чем мы с ним расходимся. Я считаю, что невры - это геродотовская ипостась кельтских волохов-вольков, о чем подробнее см. (4, с. 43 и сл.). Но к неврам мы еще надеемся вернуться, а сейчас важно отвести неприемлемую идентификацию волохов с лангобардами (так см. Г. Лябуда в: 8, с. 6-7), ничем не поддержанную со стороны этнонимии и понятную лишь как феномен боязни более древних датировок. О германском племени лангобардов известно, что они в течение VI в. лишь на несколько десятков лет обосновались в Паннонии, после чего удалились в Северную Италию. О глубоком и длительном воздействии на славян говорить тут не приходится, и вообще странно читать после этого у крупнейшего исследователя славянских древностей Моравии, что появление славян в Южной Моравии только со 2-й половины VI в. связано с уходом оттуда лангобардов (9, с. 191). Лангобарды, как отмечено выше, кратковременно были только в Паннонии, куда задунайская Моравия не входила. Эта историческая увязка целиком обнаруживает свою случайность, когда тот же археолог, оставаясь уже в рамках своего материала, говорит, напротив, о близости более примитивной пражской керамики Южной Моравии и более развитой придунайской керамики и в целом о тесной связи культуры довеликоморавских городищ с культурой Подунавья (9, с. 191, 204).
Приверженность исследователей к VI в. как terminus post quem появления славян на Дунае по-своему замечательна, скорее, как уже упомянутый психологический феномен. Что касается надежности этой датировки, то ее скорее сомнительность видна уже из сопоставления с некоторыми другими хронологическими данными скудной
350
![]()
дошедшей до нас письменной истории, лежащими на поверхности. В новом "Своде древнейших письменных известий о славянах", т. 1 (I-VI вв.) (М., 1991, отв. редакторы Л.A. Гиндин, Г.Г. Литаврин) мы можем ознакомиться с эпитафией Мартина Бракарского св. Мартину Турскому. Текст датируется серединой-началом 2-й половины VI в. Оба Мартина - уроженцы Паннонии и, следовательно, заслуживают определенного доверия в этом отношении. Св. Мартин Турский жил в IV в., и, как явствует из специальной литературы, именно его следует считать зачинателем славянской миссии ("Свод...", с. 359). Речь может идти о христианской миссии среди славян Паннонии, более того (как вытекает из самого содержания названной эпитафии) - среди славян расположенного дальше на запад Норика. Если славянская миссия здесь существовала с IV в., то присутствие самих славян вероятно еще раньше. Они названы в лице того славянина-нарца (в эпитафии - Sclavus Nara) в длинном ряду представителей в основном германских племен, а также сарматов, даков и аланов и не выделены, скажем, как новоприбывшие чужаки. Но, может быть, лучше всего характеризует их славянскую туземность такая яркая лингвистическая особенность формы Sclavus Nara из эпитафии, как передача славянским а долгого (или продленного) ō в инородном названии провинции Nōricum. Замечательное это созвучие формы Nara и др.-русск. Нарци (Нарци еже суть словěне. - Повесть временных лет) не увидел (или не захотел увидеть) комментатор "Свода...", но об этом уже можно прочесть в печатном моем докладе к XI MCC. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о мелочах, интересных для одних лишь специалистов, и я согласен тут с покойным Гербертом Железникером, что для суждений по этногенезу не так важна характерная топо- и гидронимия (категория, как известно, растяжимая, и количество здесь также недоказательно), а то, что является славянской трактовкой, славянским способом преобразования (Überformung) неславянских и дославянских названий (10, S. 349-350; 11, S. 6). Австрийский ученый указал при этом на славянскую ступень продления корневого гласного, сказавшуюся на облике названий Sava, Rada, Drama у славян, и на ее роль в славянском словообразовании. Таким образом, перед нами одна языковая особенность, и статистике здесь делать нечего (нечего считать); в то время, как важность этой одной черты для конституирования славянского языкового типа позволяет отдать ей решительное предпочтение перед десятками тривиальных сходств, возможных при длительном контакте сопредельных языков (как в случае балто-славянских отношений эпохи вторичного языкового союза). Это подтверждает старое правило филологии - non numerandum, sed ponderandum "не считать, но взвешивать", кажется, забываемое такими энтузиастами статистики, как проф. Маньчак.
Как мы видели, возникновение тупиковых ситуаций при исследовании этногенеза не редкость; тем более не следует умножать количество
351
![]()
этих тупиков, из которых иные просто искусственны. Так, если я правильно понял почтенного археолога Й. Поулика, славян не было не только в Южной Моравии до 2-й половины VI в., но их не было до V в. и севернее, на Одере и Висле, в чем чешский археолог следует за К. Годловским (критику взглядов последнего см. у нас: 4, с. 6). Итак, предполагается, что вплоть до V в. н.э. включительно славяне жили "где-нибудь в Восточной Европе, скорее всего - в Верхнем, а частично в Среднем Поднепровье" (9, с. 189), после чего они в VI в. вдруг оказались в Южной Моравии. Весь огромный эпизод освоения славянами польских земель неправдоподобно смазывается (когда? и главное - откуда!). Не могу не сказать здесь о том, что мои представления о "северном фланге" расходятся и с этими представлениями археологов и с достаточно упрощенной картиной лингвиста Удольфа (12, passim), по которой польская территория является лишь переходной между славянами и балтами, причем этот "переход" заполнен якобы только этнически безликой "древнеевропейской" гидронимией и даже праязыковым индоевропейским слоем (!). В действительности же нельзя не считаться с особой этноязыковой спецификой неславянских индоевропейцев, живших к северу от Судет и Карпат. Очевидные повторы названий здесь в античную эпоху и in Illyria proprie dicta говорят сами за себя: Дукля в Карпатах и Дукља в Черногории, Βούλανες, птолемеевский народ на территории Польши, и Βυλλίονες в Южной Иллирии, то есть в Албании, Κάρβονες, также птолемеевский этноним в Польше, и ороним Karawanken на юге, и там и тут, видимо, иллирийский апеллатив со значением "олень"; сюда же примыкает давнее тождество Daleminze, местность на востоке Германии, и Dalmatia, иллирийская область на адриатическом побережье, и то и другое связано с названием овцы в албанском. Ясно, что это был особый индоевропейский этнос. Славяне, распространяясь с юга, застали его, а не "пустоту", и это отражено в польской письменной и народной традиции в виде таких следов, как Licicaviki, Śrem, Śląsk, Mlądz и др. Нам известно даже, как назывался этот реальный "третий" этнос, иллирийский по языковой принадлежности, длительное время разделявший северную часть славян и германские племена и, по мере сближения германцев и славян, постепенно ассимилированный с двух сторон: это были венеты (в германской огласовке-венеды), см. в целом об этом еще (13, passim). Забывать эти старые вещи не следует; я имею в виду, что З. Голомб последовательно отстаивает внутренне противоречивый тезис о славянстве термина *veneti, хотя и с допущением, что на всех славян он был распространен иноплеменниками-германцами (14, р. 271-272, 416). Говоря о нерешенности проблем "северного фланга", я должен еще специально сказать о судьбе модели Morava на севере, а вернее - о том, что с этим вопросом не справилась немецкая школа (Удольф, его учитель - В.П. Шмид). Концептуальное подчинение польского материала "древнеевропейской"
352
![]()
гидронимической схеме и центральной позиции балтийской гидронимии приглушает как бы интерес этих ученых к гидронимам Morawa, Sawa, Drawa, которые как раз неизвестны в балтийском, но наличествуют в Польше и, как мы видели, реально могут быть объяснены только как импорт дунайского юга.
В свете изложенного кажется поэтому сомнительным убеждение Голомба, что еще около 1000 г. до н.э. праславяне сидели на пространстве от Киевщины до Волыни (14, р. 236, 238, 415). Глубокие сомнения вызывает и постулируемое этим ученым продвижение славян с Востока на Запад в рамках совокупного миграционного движения всех индоевропейцев с Русской равнины в сторону Центра и Запада Европы, но к этому мы еще вернемся.
В моей книге 1991 г. об этногенезе славян, да и в печатном тексте доклада к XI MCC, уделено много места происхождению самоназвания славян *slověne от *slov-/*slu- и переменчивым условиям его употребления, начиная от случаев, когда этот макроэтноним практически не нужен, все и так знают, что они "свои" друг для друга, и кончая стойкой потребностью в его употреблении - на границе с чужими или среди чужих. Я по-прежнему считаю такое толкование наиболее гибким и даже относительно хронологизированным, в отличие от концепции, согласно которой имя *slověne существовало будто бы всегда, "from time immemorial" и сверх того было преобразовано по народной этимологии (?) из *svoběne (14, р. 417). Первоначально этнос, как было замечено, может обходиться и без этнонима. Он и потом, в условиях достаточно замкнутого существования, в "идиотизме сельской жизни" способен почти утрачивать общее самоназвание, которое, как карстовые воды, уходит вниз и течет скрытно. Но эта мнимая утрата, способная обмануть иных, вдруг оживает, рождая иллюзию нового распространения национального имени при национальных и социальных потрясениях, как было с именем Slovenija, Slovenec, slovenski, которое будто "приобрело всеобщее употребление лишь в эпоху революции 1848 года" (15, с. 89), в действительности же существовало задолго до этого, хотя и не всегда.
Следствием того исторического обстоятельства, что вплоть до V в. о славянах молчали, а потом о них "вдруг" заговорили, стала освященная наукой, но в общем наивная притча о "внезапном" появлении славян. Необходимая типологическая широта взгляда помогает и здесь лучшему пониманию. Во-первых, верно замечено, что «для античной историографии все народы появились "внезапно"» (10, S. 349). Во-вторых, в непосредственной близости к "южному флангу" славян нечто подобное повторялось не с одними только славянами, из чего логично заключить, что перед нами довольно типовая ситуация, от которой отнюдь не застрахован также народ-автохтон. Например, длительное неупоминание в истории ("исчезновение") румын, количественно самого крупного народа на Балканах, как и
353
![]()
балканских автохтонов-албанцев, не может ни в малейшей степени служить аргументом в пользу их отсутствия. Специалисты, в общем, давно пришли к пониманию, что причина этого - неучастие в крупных этнических событиях, передвижениях, войнах (16, 8, 415), иными словами, - культурная стадия.
Исторические сведения о приходе славян когда-либо и откуда-либо на Дунай красноречиво отсутствуют, и забывать об этом не следует. Те же историки VI в. (Иордан, Прокопий), которые констатируют пребывание славян на Дунае, ничего не говорят об их прибытии из других мест, то есть практически трактуют их как старожилов Подунавья. Даже "авары, прибывая на Паннонскую низменность, всюду заставали уже славян" (17, с. 151, 156). Последнее особенно значительно, если иметь в виду, как привычно эксплуатировалась да и, по большей части, конструировалась тема прихода славян под началом аварского войска в Дунайскую котловину. И в этом плане приход славян с Днепра также теряет свою логичность и убедительность.
До тех пор, пока сохраняет свое преобладание традиционная научная концепция прихода славян на Дунай (неважно, в конце концов, откуда - с Днепра или с Вислы и Одера), можно продолжать довольствоваться современной данностью, что к югу от Дуная распространены южные славяне. Напротив, принимая тезис о Подунавье как исходном плацдарме всех славян, мы не можем уклоняться от ответа на вопрос, - насколько реальны следы пребывания там также неюжных славян. Речь при этом не идет о проблеме средневекового "словацкого юга" на территориях южнее нынешней Словакии или о встречающихся до настоящего времени живых реликтах словообразования и лексики "севернославянского" типа в южнославянских языках на диалектном уровне, ср. достаточно разрозненные изоглоссы вроде случаев приставки *vy- при стандартно южнославянском *jьz-. Речь скорее может идти об остатках, следах компактных очагов, или зародышевых зон, того, что много позже консолидировалось как "западнославянский" и "восточнославянский". Разумеется, полный объем этих понятий, как и позднейшего "южнославянского", явился результатом длительных конвергенций и дивергенций, и датировать безоговорочно, скажем, двумя тысячелетиями некий прямолинейный процесс распада праславянского на "южнославянский", "западнославянский" и "восточнославянский" или видеть с полной серьезностью это славянское тройственное деление уже в склавенах, венедах и антах Иордана сейчас просто неинтересно. Реальные процессы протекали несравненно противоречивее, вспомним о "растворении" народа мораван. И все же мысль о празападнославянских задатках части древнеславянских диалектов Подунавья, которые можно назвать паннонскославянскими, не заслуживает огульно скептического отношения. Критерий - формально-семантический и ареальный, хотя древние ареалы могут не иметь ничего
354
![]()
общего с привычными нынешними представлениями. Но последнее больше относится, пожалуй, к правосточнославянским реликтам (о них - ниже).
Несколько празападнославянских фактов, которые мы можем назвать, - это, кажется, (lacus) Pelsonis (Плиний, I в. н.э.), о плесе Балатона, ср. слвц. pleso как название озера в Татрах (4, с. 128); далее, эпиграфическое Dobrati (дат.п. ед.ч.), имя доброго божества, из Нижней Паннонии, на Дунае (II-III вв., ср. праслав. диал. *dobrotь 'доброта, добро', только в западнославянских языках (4, с. 100— 101)); stravam (Jord. Get.) 'погребальный пир' < праслав. *jьztrava, с преобладающим значением 'пища, еда', также 'поминальная еда' именно в западнославянском, а также с возможной ранней западнославянской фонетической рефлексацией strava < *jьztrava (ЭССЯ 9, с. 80-81; 4, с. 81; более подробные рассуждения - в докладе к XI MCC).
Несмотря на сомнения некоторых славистов, есть основания говорить о ранних контактах славян на их южном фланге с балканскоиндоевропейскими языками. Эти контакты заметнее отложились в южнославянских языках, что позволяет судить о вероятной локализации именно "праюжнославянского" на южном фланге праславянства: соответствия вроде сербохорв. jȁ-pād 'тенистое место' ~ lаpodes, самое западное иллирийское племя, сербохорв. Med-bara, местность на Саве, - античное Metubarris. Помимо названных элементов главным образом западнобалканского, иллирийского происхождения (подробнее - в предыдущем печатном тексте к XI MCC) и других, в основном топонимов и гидронимов, наличествуют - еще дальше на юг и восток - заимствования уже из восточнобалканско-индоевропейского. Из них назовем здесь только *vьrtъpъ/*vъrtopъ, красноречиво отсутствующее у славян к северу от Албании. Надежные соответствия этому названию пещеры, воронки, водовороты в местном индоевропейском субстрате (Burdapa, Фракия и др.) говорят о том, что мы имеем здесь фракийское слово. Выявляемый при этом структурно тождественный гидроним Vir̃t-upė (Литва) целесообразно, по-видимому, прямо соотносить не с болг. въртóп, ст.-сл. врътопъ, а с лежащим в их основе фракийским. Я думаю, один этот, впрочем, очень весомый пример дает основание для серьезных уточнений к концепции непосредственных болгаро-балтийских контактов, предложенной в свое время В.М. Иллич-Свитычем и поддержанной С.Б. Бернштейном, см., с литературой и добавлением также моих материалов (18, с. 190). Сейчас представляется, что у нас нет достаточных оснований поддерживать дальше эту идею непосредственного соседства восточной части древнеюжнославянских и балтийских диалектов, которое по ряду соображений утратило правдоподобие. Болгарские (и некоторые другие южнославянские) "балтизмы" суть в немалой степени не что иное, как вторичное отражение (заимствование) соответствующих элементов субстратной фракийской лексики.
355
![]()
Единственно реальной представляется древняя (III-II тыс. до н.э.) контактная близость дакофракийского и балтийского с той пикантной деталью, что в этом последнем эпизоде, разворачивавшемся на востоке, славяне вовсе не участвовали. Соображения, вытекающие из изучения южного фланга древнейшего славянства, как кажется, непротиворечиво подтверждают это.
Примерно в это же древнее время славяне сидели западнее и принимали участие в совершенно иных контактах - с древнеиталийскими племенами до ухода последних на юг, в Италию. Мысль эту, опирающуюся в немалой степени на собственную словарноэтимологическую практику, я уже высказывал и обосновывал раньше (4, с. 22-23). Тогда были привлечены соответствия слав. *gospodь - лат. hospes/hospitis, слав. *gověti - лат. favēre (обе пары - из социальной сферы), слав. *strojiti - лат. struere, если из *stroi̯-u̯- (домостроительство), слав. *pola voda - лат. pal-ūdes (равнинная среда обитания, с половодьями и заболачиванием), слав. *pojьmo, русск. поймо 'горсть колосьев' - лат. pōmum 'плод, фрукт' < *po-emom 'снятое, сорванное' (сельское хозяйство). Потом сюда добавилось соответствие слав. *manъ/*mana 'призрак мертвого, предка' - лат. mānēs 'души умерших' (культ предков), см. (4, с. 215-217). Сведения по словам *gospodь, *gověti, *mana/*manъ можно найти в предшествующих выпусках ЭССЯ. Уже в самое последнее время, в процессе работы над рукописью вып. 23 ЭССЯ окончательно оформилось еще одно немаловажное этимологическое наблюдение, апеллирующее к наметкам в вып. 1 ЭССЯ и открывающее, кажется, перспективу реконструкции архаической славяно-латинской религиозно-этической общности (помимо того, что сюда уже отнесено на примерах *gověti - favēre, *manъ/*mana - mānēs) и, в определенном приближении, индоевропейского диалектного текстового фрагмента. Я имею в виду довольно простую реконструкцию на базе кашубскословинского ńébws 'непорядочный человек, негодяй' и русск. диал. небаский, небаской 'некрасивый, неказистый; грубый' праславянской диалектной формы и значения *nebasъ, практически во всем тождественных лат. ne-fās 'неправедное дело, грех' и продолжающих еще и.-е. диал. *ne-bhās (est), соотносительное с утвердительным *bhās (est), откуда, в свою очередь, утвердительная латинская формула fās est 'правильно, дозволено (религией)', fās 'божественный закон', к которому отнесено в ЭССЯ 1 праслав. диал. *bas- 'красота' (русские диалектные данные, с суффиксацией). Перед нами исключительное славяно-италийское соответствие большой культурной значимости (сфера нравственных норм, древний синкретизм права и религии) и одновременно - случай, лежавший почти на поверхности, мимо которого, однако, прошла классическая индоевропеистика. Естественно спросить, видит ли уважаемый проф. Маньчак и в этих групповых соответствиях всего лишь "mnóstwo hipotez" Трубачева и скорее дело вкуса, чем объективную аргументацию. Доверяющий только статистике
356
![]()
больших чисел, сохранности чего наивно было бы ожидать от языковых контактов, прекратившихся - по самым приблизительным подсчетам - почти три тысячи лет назад, а скорее - намного раньше, проф. Маньчак отказывается верить в длительное и близкое соседство славян и италиков, "skoro w ich języku nie pozostał po tym ślad" (19, c. 277). След все же, как видим, остался, и можно только удивляться его значительности.
З. Голомб в своей новой книге о происхождении славян, уже называвшейся выше, в общем положительно воспринимает мои соображения о ранней славяно-италийской диалектной близости и говорит в связи с этим о потребности пересмотра традиционных взглядов о тяготении славянского к восточным индоевропейским диалектам. Вместе с тем развиваемая им версия об общем движении индоевропейских племен из Восточной Европы на запад и юго-запад, в ходе которого праиталики, задержавшись в бассейне Одера и Вислы, были настигнуты праславянами и полностью (?) поглощены последними (14, р. 113 и сл., 124), коренным образом разнится от моих представлений.
Два слова об этом "общем доисторическом движении индоевропейских племен" по Голомбу. Польско-американский исследователь реконструирует его направление - от максимума гидронимических слоев на Востоке (на Правобережной Украине - четыре или пять: "древнеевропейский", балтийский, иллиро-фракийский, славянский, иранский) в сторону их минимума на Западе (во Франции и Западной Германии - два: "древнеевропейский" и кельтский, на Востоке Германии еще германский) (14, р. 226). Но не говоря уже об уязвимости (неполноте) этой методики слишком суммарного подсчета подобных слоев, мы можем, в принципе, допустить альтернативное решение. Суть его в том, что как раз максимум разнообразных явлений (здесь: гидронимических слоев) может наблюдаться (оседать, сохраняться) на периферии ареала, и Восток - в нашем, по крайней мере, представлении - классическая центробежная периферия, тогда как относительная (исходная) центральность противопоставленных ему областей Средней Европы обладает нивелирующим эффектом, и здесь не имеет смысла ожидать многочисленных слоев. Я думаю, что именно где-то здесь заключается разгадка отношений "древнеевропейской" гидронимии и славянской прародины. Г. Краэ в свое время высказался отрицательно по вопросу о вхождении праславянского в ареал "древнеевропейской" гидронимии. Исследователями следующего поколения, в том числе и автором этих строк, были предприняты попытки оспорить этот тезис Краэ, в результате чего назывались отдельные "древнеевропейские" гидронимы также со славянских территорий или славянские корни к отдельным "древнеевропейским" гидронимам. Но именно нивеллированность как смысл "древнеевропейской" гидронимии в целом как нельзя лучше подходила к славянскому материалу, к его неяркому тесту "древнеевропейской"
357
![]()
гидронимией. Если мыслить исходный центр праславянского ареала в Подунавье, то наши славянские находки соответствий "древнеевропейским" гидронимам локализуются как правило на перифериях этого ареала - на Правобережной Украине (Трубачев), в Польше (Удольф). Праславянский ареал при этом с наименьшими противоречиями локализуется именно в Центральной Европе, и лишний раз становится ясно, что скопление древне(индо)европейских гидронимов в Прибалтике не более чем периферия (к вопросу об уязвимости тезиса В.П. Шмида о "балто-центричности" "древнеевропейской" гидронимии). Обращаю также внимание на карту в (4, с. 83) и предшествующие там ей комментарии. Впрочем, нельзя не сказать о том, что именно со Средним Подунавьем связаны такие названия одного типа, как Marus, Savus и Dravus латинской античной традиции. Показательна неудача попыток приписать их какой-то одной индоевропейской языковой традиции - иллирийской, фракийской и даже германской. Вместе с тем их инновационность, а равно и этот их выразительно наддиалектный индоевропейский характер позволяют нам зачислить эти названия в "древнеевропейскую" гидронимию с таким атрибутом, как центральность (инновационность!) именно этих ее образований. Внимательное изучение прежде всего отношений древнего Marus и славянского Morava, которым мы интересуемся столь пристально, дает нам право увидеть в Morava не "славянизацию" "иноязычного"(?) Marus, а непрерывное эволюционное развитие, преемственную связь и.-е. Marus и слав. Morava в духе того словообразовательно-фонетического способа продления (здесь: -u- > -av-), на который уже обращалось внимание выше (подробно см. еще: 4, с. 242 и сл.). В силу чрезвычайной, как представляется мне, важности этой аргументации я не побоюсь повторить здесь свое резюме, что древний гидронимический ареал Morava в Среднем Подунавье и древний этнический ареал славян, вероятно, совпадают.
Для нашего вопроса показательны также древние культурно-языковые отношения славян и кельтов, хотя их выявляемость сулит еще большие трудности, чем исследования славяно-италийских контактов. Сюда относится уже затронутая выше проблема волохов Повести временных лет, возможно, бросающая свет на место локализации этих контактов. Л. Мошинский, занимающийся изучением сакральных древностей славян, поднял интересный вопрос о кельтских влияниях на древнеславянскую теонимию, впрочем, следы кельт. Borvo, Taranis и *veles (*u̯el-et-s) он, похоже, ограничивает западнославянским, см. (20, с. 171 и сл.; 21, с. 105-106). К кельтам я отношу и невров Геродота и вынужден не согласиться с Голомбом, этимологизирующим Νευροί как слав. *nervi 'люди, мужи', якобы "первое" письменное упоминание о славянах (14, р. 184, 285, 415). Кельтизм невров все же очевиден из варианта Nervi у Аммиана Марцеллина, тождественного с названием племени Nervii в собственно
358
![]()
Галлии; к тому же, ничего похожего в славянской этнонимии мы не знаем (4, с. 44). Есть и другая довольно крепкая связь между волохами-вольками и неврами, при всей внешней огромности временной дистанции между Геродотом (V в. до н.э.) и Повестью временных лет. Я имею в виду, с одной стороны, этимологию 'волки' имени волохов-вольков и "волчью" этническую традицию - сезонное превращение в волков у невров (Herod. IV, 105), о чем я также уже писал раньше (4, с. 44—45). Эти предания могли сформироваться в Подунавье (если не раньше), где неподалеку от кельтских пришельцев-вольков обитали автохтонные даки, имя которых этимологически значит 'волки'. Если добавить сюда румын с их верой в волков-оборотней, то вырисовывается подобие придунайско-северобалканского ареала этно-мифологической ликантропии, к которой как-то оказались причастны и вольки-волохи, и невры. К числу отголосков этого этнокультурного ареала относится, наверное, уникум позднеантичной Tabula Peutingeriana - этноним Lupiones Sarmate, ввиду отсутствия аналогий неправомочно эмендируемый большинством авторов в Lugiones, далее связываемый с ареалом лужицкой культуры и т.д. (всю проблематику см. упоминавшийся "Свод...", с. 78). Однако стоит считаться с расположением в оригинале названия Lupiones на север от излучины Дуная с пунктами Bersovia и Tierna, то есть в Дакии или в непосредственной близости от нее. Лат. *lupio, род. п. *lupionis, мн. *lupiones на апеллативном уровне как будто не засвидетельствовано, хотя производит впечатление грамматически правильного образования от lupus 'волк'. Экзотичность для Рима культа оборотня, человека-волка, могла вызвать к жизни этот эфемерный неологизм Lupiones 'люди-волки?' для обозначения местных племен с таким верованием (даков? вольков? невров?).
Я позволил себе задержаться на этих соображениях, потому что утверждение Голомба о том, что предки италиков и кельтов занимали будто бы до протославян - во II тыс. до н.э. - культурную область Триполья, на запад от Днепра (14, р. 184), выглядит неприемлемым. И для тех, и для других, по-моему, это исключено. По данным эпиграфики, археологии и ономастики инфильтрация кельтов и кельтской культуры имела место в некоторых размерах на территории Правобережной Украины на исходе I тыс. до н.э. и притом, разумеется, в направлении с запада на восток. Ничего подобного мы не можем утверждать об италиках.
Из наших "схождений" со Збигневом Голомбом назову его положительную оценку моей идеи о древнем "центрально-европейском культурном районе", включая то обстоятельство, что балты остаются в стороне (14, р. 125-126). Конечно, при этом надо постоянно помнить, что, по Голомбу, все задействованные индоевропейцы пришли издалека, с Востока, тогда как я исхожу из их автохтонного обитания и развития. Есть и другие нюансы, но - лучше предоставить слово самому Голомбу: "... Трубачев открыл несколько очень
359
![]()
интересных древних лексических соответствий между славянским и
западноевропейскими языками (германским, италийским и кельтским) в технической
терминологии, которые не охватывают балтийский" (14, р. 164). И далее
(14, р.
173): «Среди северо-западной индоевропейской лексики (в понятие "СЗ и.-е." автор
включает балто-славянский [так!], германский, италийский, кельтский, см. также
с. 171. - О. Т.) мы имеем несколько древних сельскохозяйственных терминов
(II? 11?), очень мало социальных терминов (5), полное отсутствие религиозных терминов
(sic!) и много технических терминов». Понятно, что после того, что выше нами
было специально сказано о наличии как раз исключительных архаических
религиозно-этических соответствий между италийским и славянским на примерах *gověti,
*manъ/*mana, *basъ ~ *nebasъ, лингвистическая и
культурная картина обретает иной облик.
Эта древняя культурная картина, выявляемая совместными усилиями, заслуживает того, чтобы о ней сказать подробнее. У славян было три названия главных земледельческих орудий - соха, рало, плуг, имелись и сами обозначаемые ими предметы, иллюстрируя собой как бы историю славянского земледелия: при ограниченном земледелии можно пробавляться сохой и ралом, более совершенное орудие быстро ломается из-за обилия корней в лесу или камней, выход на широкие черноземные поля требует плуга (22, р. 107-108). Признано, что плуг - относительно южное изобретение, связываемое с приальпийским и паннонским регионом (14, р. 311, 167), причем исконность праслав. *plugъ как названия рала на колесах у славян Подунавья около середины I тыс. н.э. (4, с. 171, 211-212) весьма вероятна; балтийский остался в стороне от этой центральноевропейской культурной инновации.
Но культурная картина языка - и древняя в том числе - соотносится весьма непросто с естественным фоном и природой. Здесь нет той прямолинейности отношения и отражения, которую обычно предполагают и, если уточняют, то, как правило, в сторону дальнейшей прямолинейности. Классический случай - названия деревьев. Принято считать, что праславянский находился вне ареалов так называемых "западных" деревьев (бук, лиственница, тис) и что именно этим обстоятельством объясняется заимствованный характер их названий в праславянском. Наиболее типичный и яркий представитель этих "западных" деревьев - бук Fagus sylvatica, устойчиво распространенный на запад от известной линии Калининград - Одесса, побуждал ряд ученых искать прародину славян только к востоку от букового ареала по простой логической схеме: славяне знают только заимствованное название дерева *bukъ, следовательно, сами они жили в стороне от европейского ареала дерева - где-нибудь в Полесье или на Волыни. Так и сейчас на основе трудов Ростафинского и К. Мошинского и с учетом ареалов деревьев и их названий рассуждает З. Голомб (14, р. 273 и сл.). Ареалы деревьев - вещь неоспоримая,
360
![]()
см. еще (23, passim), но и они не уполномочивают нас забывать о культурной стадии, суть которой, говоря попросту, состоит в том, что можно жить под сенью буков, лиственниц и тисов и не питать к ним особого интереса. Названия деревьев - это семантически достаточно зыбкий материал, ведь до сих пор неясно, было ли и.-е. *deru̯- названием дерева вообще или по преимуществу - дуба, главного дерева индоевропейской культуры. Относительно менее важных деревьев зыбкости в названиях было никак не меньше. Если на определенной культурной стадии внимание славян привлекло использование соседями-германцами древесины (палочек) бука как культовых, рунических, архаических письменных знаков, то из этого вовсе не следует, что они до того не знали, не видали бука, жили от этого дерева вдалеке. Остается фактом лишь культурное заимствование герм. *bōkō в праслав. *buky/-ъve в упомянутом специальном и других значениях, с обобщением его или побочной формы *bukъ в роли названия дерева (далее см. ЭССЯ 3, с. 90, 91-92). В принципе по той же культурной схеме развивалась история названия дерева Taxus baccata. Славянское название тиса заимствовано, тисом были богаты Карпаты, но это отнюдь не означает, что славянскую прародину нельзя даже искать внутри Карпатской дуги. На названии тиса у славян (может быть, на выборе "нового" названия) сказалась, видимо, популярность его применения для качественных тесовых поделок у других соседей славян. Таково, пожалуй, мое нынешнее дополнение к предложенной мной фракийской этимологии слова *tisъ в печатном докладе к XI MCC. Ее более полная формальная развертка: и.-е. *tok̑so-, имя с корневым -o-, производное от *tek̑s- 'тесать', дало лат. taxus, которое отражает ударение производного имени *tok̑só-, причем безударное о > лат. а (ступень -о- сохранена в греч. τόξον), ступень продления -ō-/-ā- в *tōk̑so- со словообразовательной функцией производности была представлена, по-видимому, в восточнобалканско-индоевропейском с местными рефлексами а > е > i, о чем уже писалось подробнее в печатном докладе к XI MCC. Долгота ī в дакофракийском прототипе, видимо, сохранялась к моменту заимствования в славянский, о чем говорит ее отражение в сербохорв. tȉs. 'Тисовый', таким образом, значило примерно то же, что 'тесовый', а *tisъ, тис - 'дерево, идущее на тесовые работы, поделки', как бы вопреки сомнениям Шахматова (24, S. 195-196).
Таким образом, и здесь, в этом конкретном эпизоде фактического согласования мнимо несогласованных ареалов "западных" деревьев и праславянского этнического ареала, видится некий аналог культурной стадии якобы "внезапного" появления прежде "отсутствовавших" автохтонов (албанцев, румын, славян), которые "появились" там, где были и прежде, в меру нарастания потребности к культурному контакту. Поучительный урок "южного фланга"... А вероятное совершенство южных поделок из древесины тиса надолго осталось в памяти славян и упоминалось в самых престижных
361
![]()
контекстах спустя столетия, как, напр., великий князь киевский Святослав "на кровати тисовѣ" в Слове о полку Игореве. Лесистость карпатско-балканского региона, наличие там названий типа Bersovia, Transylwania и других, ориентированных на эту лесистость, невольно побуждает задаться вопросом, нет ли связи между названием реки Тиса и названием дерева тис (обычно гидроним толкуют иначе).
Но центр внимания неизменно сохраняется за главной рекой региона - Дунаем. Элементарно невозможно согласиться с мнением, будто слав. *dunajь - это апеллятив, обозначавший вообще водное пространство, потом - сперва 'Днепр' и лишь после всего - 'Дунай', и при этом "не имеет ничего общего с кельт. *Danovios" (14, р. 223, 239). Как тогда быть с южнославянским вариантом *Dunavь, который безусловно тесно связан с севернославянским *Dunajь? (см. 4, с. 11). Я понимаю, что в польской науке укоренились суждения о том, что не только Dunaj, но и Wisła были первоначально апеллативами (вопрос об исконнославянском происхождении Wisła здесь опускаем). Но с макрогидронимами чаще дело обстоит наоборот, распространена их вторичная апеллативизация. До сих пор мне памятен случай, как маленький литовский мальчик, привезенный из Литвы к нам в семью (дело было на Украине), смотрит на потоки дождевой воды на улице и кричит: "Nẽmunas! Nẽmunas!" ('Неман').
Поскольку мы исходим из постулата полидиалектности праславянского, дилемма славянского языкознания - изначальность или вторичность "южнославянского единства" - в значительной степени теряет для нас свою актуальность, как и попытки обосновать приход предков южных славян откуда-то (например, Голомб считает, что предки южных славян "начали кристаллизоваться" на Верхнем Днестре, в Украинском Прикарпатье, причем он делает этот вывод, опираясь на гидронимические исследования Трубачева 1968 г. (14, р. 251, 304-305). Спрашивается, однако, дают ли для этого однозначные основания тогдашние мои констатации гидронимов южнославянского типа на украинских территориях? Вероятность проникновения их в обратном направлении из славянского Подунавья представляется сейчас гораздо более реальной. Точно то же самое можно повторить и об аргументах так называемой "карпатской миграции славян" (лексика южнославянского типа в украинских диалектах и т.д.).
Сейчас настала необходимость в радикальной переформулировке проблем и задач, принципиально допускающей потенциально более емкое понимание объема дунайскославянского. То обстоятельство, что паннонскославянский (о нем кратко выше) и дакославянский (ниже) "не вписываются" в "южнославянское единство", не оправдывает неучета имеющихся о них данных. Так, в новой книге Л.В. Куркиной (25) исследовательская процедура сводится к солидному обзору внеюжнославянских лексических изоглосс южнославянского,
362
![]()
понятого как изначальное единство. Участие северных, в том числе восточных, славян в южнославянской языковой жизни как включение извне (Рамовш, Безлай) в книге отвергается как очевидное огрубление проблемы. Однако одним умолчанием проблема паннонскославянских и дакославянских языковых (лексических) древностей не может быть снята. Целиком обойдена крупная проблема крашованского (карашевского) диалекта внутри южнославянского, имеющая свой лексический аспект, дакославянскую привязку и соответствующую литературу вопроса. Это можно оправдать лишь отчасти тем, что в книге сербохорватская проблематика освещена в меньшей степени, чем словенская. В целом книга, написанная бесспорно в русле хороших старых традиций, оставляет слишком много вопросов и прежде всего - об адекватности и дальнейшей перспективности упоминавшихся умолчаний и невключений. Все же трудно на этом пути ожидать новых принципиальных решений, когда на пороге стоит проблема "южнославянского" ареала как ареала всех славянских групп.
Надлежит скрупулезно учесть все следы инославянского населения на Среднем Дунае; к их числу, вероятно, принадлежит племенное название *sěver᾽ane на левом, по средневековой традиции - 'северном', берегу Дуная (ср. "Descriptio" Баварского географа-анонима), территориально - в Банате. Несмотря на утверждения, что "дакийские славяне не имели особого языка или диалекта, отличного от тех славян-склавинов, которые поселились в восточной части Балканского полуострова" (26, с. 23), в науке за последние десятилетия уже накопился определенный материал, значительно ослабляющий силу подобных негативных утверждений.
Диалект крашован, или карашевцев, монографически исследованный прежде всего румынским славистом Эмилем Петровичем (27), сразу задал непомерно много загадок всем славистам. Этот диалект, на котором говорит католическое население нескольких сел в румынском Банате, на юго-западе Румынии, относят к сербохорватским, сербским диалектам торлакской группы ("тимочко-лужнички дијалекат", см. 28, с. 73), предполагая его переселение оттуда в средние века. Но вместе с тем признается невозможность точнее установить его происхождение и время прихода, а главное, быть может, это то, что "крашоване не сохранили никакого предания о своем приходе в Банат с Балканского полуострова" (27, с. 16, 18). Дальше - больше. Крашованский диалект считают южнославянским, но ему совершенно неизвестна одна из восьми главных южнославянских инноваций - окончание тв. п. ед. ч. о-основ на -omъ; вместо этого, в крашованском регулярно представлено -am (s kórinam, kámęnam, plúgam, človẹ́kam, ókam) (27, с. 4-5, 147, 149), которое соответствует севернославянскому (то есть западно- и восточнославянскому) инструменталю на -ъmь и никак иначе объяснено быть не может (29, S. 44). Как уже сказано, крашованский числят сербохорватским
363
![]()
диалектом, даже - самым архаичным из них, но при этом констатируется, что только он один из всех не знает количественных и интонационных различий (30, S. Ш, 279). (Не случайно, возможно, поэтому делались попытки определить крашованский как болгарский диалект.) Из других фундаментальных отличий крашованского достаточно назвать сохранение праславянского "ятя" (ě), мягких зубных ť, ď, группы согласных čr, архаичных окончании множественного числа - нулевого в род. мн., -m в дат. мн., -mi в тв. мн. [см. 30, passim] (говоря иначе, крашованское именное склонение больше похоже на склонение в русском, польском, чем на сербохорватское). Неудивительно, что последовали попытки глубже осмыслить эту самобытность крашованского. В результате были акцентированы два момента: восточнославянские особенности карашевского (крашованского) и его автохтонизм, а также то, что следует говорить не о переселении из Сербии, а о вторичной югославизации этого древнего местного восточнославянского диалекта (29, S. 44, 46). Понятно, что эти тезисы звучали (а для многих и сейчас звучат) утрированно в условиях старой доброй этноязыковой концепции. Думается, сейчас кое-что меняется. Правда, и тогда, тридцать лет назад это все-таки уже не было экстравагантностью одного автора - Ивана Поповича. За этим уже стояли очень свежие также и для нашего времени размышления Гюнтера Райхенкрона, который впервые, опираясь на данные румынского лингвистического атласа, заговорил о существовании особого дакославянского слоя в Семиградье (Западная Румыния), к чему его подтолкнуло наличие в румынской лексике славянских элементов с трудноопределимым источником (мы еще вернемся к этому ниже); Райхенкрон считал уже тогда дакославянский связующим звеном между восточно- и южнославянским (31, S. 159 и сл.). Не менее актуально звучат и слова Секстила Пушкарю, сказанные почти тогда же о севернодунайских славянах (эквивалент дакославян Райхенкрона), образовывавших как бы переход между южными и северными славянами; именно от них, кроме специфической лексики и семантики, дакорумынский перенял также это смягчение зубных перед е, i польско-словацкого типа, неизвестное, например, южным славянам, а из восточных - украинцам (16, S. 366). И все это так гармонировало с фактами и было настолько свободно от миграционной идеи и традиционной схемы (восточные славяне - автохтоны Придунавья!), что готов позавидовать пишущий эти строки реставратор теории дунайской прародины славян. Разгадать в сербизированном диалекте Западной Румынии маленький реликт прежде гораздо более обширного дакославянского - это заслуга перед наукой, и давно уже покойный И. Попович имел право гордиться этим:
"...все еще существующий в наши дни сербский карашевский говор, который я идентифицировал с райхенкроновским дакославянским... Эта идентификация следует, на мой взгляд, из факта, что карашевцы имеют в своем говоре, с одной стороны, севернославянские
364
![]()
элементы (тв. ед. -о- основ на *-ъmъ), с другой стороны - важные архаизмы, свидетельствующие о том, что они живут исстари здесь, на периферии сербохорватского (и южнославянского вообще)..." (29, S. 137).
Лексический аспект дакославянского довольно поучителен, причем восточнославянские связи этих реликтов - в основном слов славянского происхождения, осевших в румынском языке и его западных диалектах, - могут считаться в ряде случаев даже более однозначными, чем это представлялось нашим предшественникам. Об этом уже сказано в печатном тексте доклада к XI MCC. Кратко - это
- рум. zăpádă 'снег', соотнесенное мной с русск. диал., с.-в.-р. запáд тропы 'занесение тропы снегом' (шенкурское, архангельское), ср. и ударение запáд, в отличие от зáпад;
- рум. nisip 'песок', ср. русск. диал., с.-в.-р. нáсыпь 'скопление прибрежного песка';
- Ohaba, Ohabiţa, местные названия в Западной Румынии, ближе всего к др.-русск. охабити 'оставить, покинуть';
- рум. lapă 'рука' - сопоставимо только с севернославянскими названиями 'лапы' (см. о них ЭССЯ 14, с. 27);
- рум. mînji 'мазать' с вероятием происхождения из "незасвидетельствованного слав. диал. *mǫz- целесообразно соотнести с гнездом русск. диал. музюкать (Словарь русских народных говоров 18, с. 338, вслед за Далем, дает только значение 'сосать' и переносные);
- рум. диал., зап. zapor 'корь, скарлатина' Райхенкрон объясняет из дакославянского *zaporъ (31, S. 160), ср. русские названия разных болезней - русск. диал. зáпор 'болезненное состояние рук или ног, сильно остуженных или во время отогревания' (Словарь русских народных говоров 10, с. 344: новг.), более отдаленно - русск. литер. запóр 'затрудненное опорожнение кишечника'.
Таким образом, ареал древних славян на Дунае можно было бы себе представить как земли, населенные предками всех славян и охватывающие Венгерскую низменность, на востоке - часть Трансильвании и Баната, на западе - часть Нижней Австрии, на юге - полосой - какую-то часть позднейших южнославянских территорий.
Если иметь в виду "южный фланг" славян, то дальнейшее главное направление миграций там устремлялось со Среднего Дуная на юг по долине Вардара, и это подтверждалось неоднократно, ср. и (32, с. 206).
По упрощенным схемам дальнейшее славянское освоение балканского Юга осуществлялось силами южных славян. При этом охотно указывали на действительно большое там количество новой славянской топонимии с болгарскими языковыми чертами. Но старая славистика в сущности отказывалась дать полное объяснение парадоксальному факту заметного присутствия в ославяненной Греции также неюжнославянских, а точнее - западно- и восточнославянских, топонимов вроде Κονίσπολις, Ὄζερος, Ζγκάρι, Τολπίτσα, Μπαλαμοὐτι, Πολοβίτσα, подробнее о них - в печатном докладе к XI MCC. Поучительный пример того, как старая упрощенная
365
![]()
схема переставала работать. Конечно, образ пестроты и многокомпонентности состава таких миграционных потоков приходит в голову, так сказать, в первую очередь. Но как понять эту славянскую пестроту в Греции в ту неблизкую эпоху? В печатном докладе к XI MCC я оперирую давним своим сравнением - аналогией пестроты русского освоения Сибири. Это, по-видимому, далеко не вся правда. Толковать наличие западно- и восточнославизмов в топонимии Греции как след прямого участия в ее освоении пришельцев из Западной и Восточной Славии в теперешнем представлении было бы наивно и анахронично для середины I тысячелетия н.э. Остается принять простое решение об исходе всех славянских участников со Среднего Дуная, населенного не одними только южными, но и паннонскими, и дакскими славянами - предтечами будущих западных и восточных славян. И в этом заключается, может быть, наиболее важный урок "южного" фланга древнего славянства в Среднем Подунавье.
Задача, в каком-то смысле и на будущее, формулируется так: достижимая реконструкция конфигурации праславянства. Как ее возможный результат предположимо иное расположение зародышевых диалектных групп славянства уже около середины I тысячелетия до н.э. И опять - изучение "южного фланга" дает возможность более осмысленно вернуться к пониманию динамики славянского "северного фланга". В 1967 г. я опубликовал свою работу "Из славяно-иранских лексических отношений" ("Этимология. 1965". М., 1967, с. 3-81), в которой на материале лексических иранизмов в славянских языках постарался обосновать ряд довольно далеко идущих выводов о степени диалектной расчлененности и о взаиморасположении частей славянства в скифскую эпоху. Нетривиальность полученных результатов состояла еще в том, что по показаниям славяно-иранских контактов выходило, что наиболее архаичная часть иранизмов представлена в западнославянском, даже специально в польском (Polono-iranica), а восточнославянские языки, "исторически наиболее восточные из всех славянских", в итоге иранского теста оказываются отнюдь не "самыми восточными". Не могу сказать, что это не вызвало интереса, но отдельные солидные слависты встретили еретически звучавшие выводы сдержанно. Во всяком случае Ф. Славский рекомендовал мою работу "использовать осторожно", а В. Кипарский в личном разговоре при встрече со мной в Хельсинки в 1976 г., то есть спустя несколько лет после публикации, заметил: "Вы поставили все с ног на голову..." Да так оно, наверное, и выглядело - в смысле смены привычных представлений на проблематичные. Я не тешу себя излишней уверенностью, что сейчас славистическая научная общественность полностью с ними смирилась (ср. хотя бы реакцию Ю. Речека [33]). Время более спокойных оценок в этой трудной области славянского языкознания еще впереди. Сейчас мой коллега Збигнев Голомб отзывается о моих polono-
366
![]()
iranica с одобрением: "The credit for having called attention to such prehistorical Iranian loanwords in West Slavic (*gъpanъ, *ob-ačiti, *patriti, *šatriti. - О.Т.) belongs to Trubačev" (14, р. 323). Правда, остается неясным, как в таком случае многоуважаемый коллега увязывает этот мой "польско-иранский" тезис и всю свою довольно оригинальную концепцию, по которой вторжение скифов около 700 г. до н.э. в Среднее Поднепровье разорвало связь праславян с прабалтами, после чего первые двинулись на запад, на Вислу и Одер... (14, р. 88). Очевидно, наш коллега по-прежнему мыслит этнические передвижения славян одним цельным монолитом, но, боюсь, и на этом пути мы вряд ли получим ответ на сложные вопросы праистории славянства. Когда целых тридцать лет назад писалась та моя работа "Из славяно-иранских лексических отношений", я строил тезис "polono-iranica" исключительно на лингвистических аргументах, что давало определенную объективность, но и - сулило захватывающий риск, тем паче, что "объективность" порой оборачивалась недостатком знаний молодого ученого... Так, например, тогда я еще не знал и страшно обрадовался, узнав позже, что мои "чисто лингвистические" polono-iranica непротиворечиво накладываются на вторжение скифов на запад, вплоть до Нижней Лужицы (тамошний клад скифских вещей V в. до н.э. в Феттерсфельде), под давлением скифского похода Дария в 512 г. до н.э. (4, с. 46). Празападнославянские племена первыми столкнулись со скифами-иранцами к северу от Карпат, потому что первыми из славян начали переваливать через Карпаты. Ляхами (то есть 'новоселами-целинниками') прозвали сначала прапольское население Малопольши, согласно еще Малэцкому у Ростафинского (22, р. 110), хотя сам Ростафинский мыслил прародину славян в центральной России. Устойчивость древних представлений об ареалах порой удивительна, и русская летопись оставляет Святополка Окаянного пробежать всю польскую землю, прежде чем достичь "ляхов" и там, "межю Чахы и Ляхы", окончить "живот свой". Таким образом, не сразу воссоздалась непротиворечивая историческая картина миграции прапольских славян через Карпаты, с юга на север, повторяю, - непротиворечивая уже с точки зрения ряда дисциплин. А что же восточные славяне, или их предки? Благодаря коллективным "Vorarbeiten" славистов разных стран, результаты которых были осмыслены автором этих строк тоже далеко не сразу, можно постепенно подойти к ответу и на этот вопрос. Лишь сейчас я мог бы утверждать с определенной вероятностью, что наши протопредки, прежде чем стать для письменной истории "самыми восточными", долго медлили, эта медлительность так и осталась, видно, у них в крови. Уже празападные славяне давно излились из Паннонии на север, а их более восточные родичи, похоже, все медлили в своем пребывании в Семиградье и Банате. Часть из них уже начала просачиваться через Дунай на юг (см. выше), часть оставалась на насиженных местах, как это совершенно естественно бывает в жизни,
367
![]()
а основная масса потом все-таки поднялась и была вовлечена в свой поход на восток, и, казалось, не было предела этому походу. Мы и не пойдем до крайних пределов этой восточной русской миграции, которая задевает уже новое время. Мы остановим свое изложение на Дону, откуда - с Верхнего Дона (?) - отправил праславян в гипотетическую миграцию на запад за два с половиной тысячелетия до н.э. Збигнев Голомб (14, р. 297, 298, 415). "Единственным слабым местом в этой гипотезе, включающей бассейн Верхнего Дона в прародину славян, - полагает Голомб (14, р. 298), - является гидронимия этого региона. Насколько мне известно, до сих пор нет этимологических исследований названий рек бассейна Верхнего Дона..." (приводит, далее, оттуда ряд гидронимов, претендующих, по его мнению, на праславянскую принадлежность: Красивая Меча, Быстрая Сосна, Воронеж, Тихая Сосна, Осеред, Битюг, Черная Калитва, Хопер, Медведица, Иловля). За вычетом отдельных неудачных примеров (Битюг), Голомб совершенно справедливо обратил внимание на праславянскость значительной части донской гидронимии. В одном с ним придется решительно разойтись: такое количество славянских названий-эндемиков древнего вида, как на этом Юго-Востоке Древней Руси (Идолга, Излегоща, Калитва, Меча, Непрядва, Обиток, Плота, Толотый) едва ли можно было ожидать от центра или начального ареала экспансии. Дело в том, что перед нами периферия и притом периферия сугубая: это устойчивый ранний рубеж, куда русские славяне и славяне вообще уже довольно давно дошли в своем движении на восток [*].
ЛИТЕРАТУРА
1. Thomas H.L. The Indo-European Problem: Complexities of the Archaeological Evidence // The Journal of Indo-European Studies, vol. 20, 1-2, 1992. P. 1.
2. Mańczak W. Krytyka etnogenetycznej koncepcji Ľudovíta Novaka // Z polskich studiów slawistycznych, seria 8 (= Językoznawstwo. Prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratysławie 1993). Warszawa, 1992. S. 148.
3. Мартынов B.B., Широков О.С. [Рец. на кн.:] Откупщиков Ю.В. Догреческий субстрат // Вопросы языкознания 1992. № 1. С. 148.
4. Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
5. Boba I. Conversion of Vladimir and Moraviana in Medieval Sources from Russia // Die Slawischen Sprachen. Bd. 19, 1989. S. 23 (ни Паннония, ни Иллирия не простираются севернее Дуная, поэтому градъ Морава в Житии Мефодия расположен на юг от Дуная).
6. Boba I. In Defense of Emperor Constantine Porphyrogenetus. A Review Article // Die Slavischen Sprachen. Bd. 32. 1993.
*. Этой гидронимии и этих вопросов я касаюсь в своей новой малотиражной книжечке "К истокам Руси (наблюдения лингвиста)" (М., 1993), а также в новом издании книги "В поисках единства (взгляд филолога на проблему истоков Руси"). М, 1997.
368
![]()
7. Birkfellner I. Methodius archiepiscopus Superioris Moraviae oder Anmerkungen über die historisch-geographische Lage Altmährens (Vorläufige Stellungnahme zu jüngsten hyperkritischen Lokalisierungsversuchen) // Leben und Werk der byzantinischen Slavenapostel Melhodios und Kyrillos. Beiträge eines Symposions der Griechisch-deutschen Initiative Würzburg... hrsg. von Evangelos Konstantinou. Münsterschwarzach, 1991. S. 33ff.
8. Popowska-Taborska H. Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka. Wrocław, etc. 1991. S. 6-7.
9. Poulík J. К otázce vzniku předvelkomoravských hradišt // Slovenská archeológia XXXVI-1,1988.
10. Schelesniker H. Slavisch und Indoeuropäisch // Studia Slavica Hung. 36/1, 1990.
11. Schelesniker H. Slavisch und Indogermanisch. Der Weg des Slavischen zur sprachlichen Eigenständigkeit // Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge und kleinere Schriften 48, Innsbruck, 1991.
12. Udolph J. Die Stellung der Gewässernamen Polens innerhalb der alteuropäischen Hydronymie. Heidelberg, 1990.
13. Трубачев O.H. Этногенез и культура древнейших славян // Palaeoslavica I/1993 (Cambridge, Mass.).
14. Gołąb Z. The Origins of the Slavs. A Linguist's View. Columbus, Ohio. 1991 (1992).
15. Bezlaj F. Blišč in beda slovenskega jezika (= F.B. Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1967 [перепеч. в: Die Slawischen Sprachen, Bd. 27, 1991]).
16. Puşcariu S. Die rumänische Sprache. Leipzig, 1943.
17. Tyszkiewicz L.A. Przyczyny i początki pierwszej migracji Słowian nad Dolny Dunaj // Z polskich studiów slawistycznych, seria VIII (= Literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna. Prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratysławie 1993). Warszawa, 1992.
18. Трубачев O.H. О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. (София, сентябрь 1963). М., 1963.
19. Mańczak W. Rzekoma naddunajska praojczyzna Słowian // Sprachund Kulturkontakte im Polnischen. Gesammelte Aufsätze für A. de Vincenz zum 65. Geburtstag, hrsg. von I. Hentschel [et al.] (= Specimina philologiae slavicae. Supplementband 23). München, 1987.
20. Moszyński L. Zagadnienie wpływów celtyckich na starosłowiańską teonimię // Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8. (= Językoznawstwo. Prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratysławie 1993). Warszawa, 1992.
21. Moszyński L. Kierunki zmian semantycznych prasłowiańskich apelatywów określających przedchrześcijańskich czarowników // Philologia slavica. К 70-летию акад. Н.И. Толстого. М., 1993.
22. Rostafiński J. О pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach (Les demeures primitives des Slaves et leur ćconomie rurale dans les temps prehistoriques) // Bulletin de l'Acadćmie des sciences de Cracovie (Résumés), 1908.
23. Friedrich P. Proto-lndo-European Trees. The Arboreal System of a Prehistoric People. Chicago and London, 1970.
24. Schachmatov A. Slavische Wörter für Epheu // Festschrift V. Thomsen zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 25. Januar 1912. Leipzig, 1912.
369
![]()
25. Куркина Л.В. Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики. Ljubljana, 1992.
26. Михаила Г. Изучение старославянско-румынских языковых отношений на современном этапе // Polono-Slavica Varsoviensia. Słowiailsko-niesłowiańskie kontakty językowe. Materiały z I konferencji komisji kontaktów językowych przy Międzynarodowym komitecie slawistów. Warszawa. 12-13. VI. 1990. Red. J. Siatkowski [et al.]. Warszawa, 1992.
27. Petrovici E. Graiul Caraşovenilor. Studiu de dialectologie slavă meridională. Bucureşti, 1935.
28. Ивић П. Српски народ и његов језик. 2 изд. Београд, 1986.
29. Popović I. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.
30. Ivić Р. Die serbokroatischen Dialekte. Ihre Struktur und Entwicklung, 1. Bd. Allgemeines und die Stokavische Dialektgruppe. ᾽s-Gravenhage, 1958.
31. Reichenkron G. Der rumänische Sprachatlas und seine Bedeutung für Slavistik // Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. XVII. H. 1. 1940.
32. Зоговиќ С., Караџоски В. Историски модел на заедничките дејствија на индоевропејците и староседелците во Прилепскиот крај (од III милениум п. н. е. до хеленистичниот период) // 36. Тр. ДНУ (Друштво за наука и уметност) 8. Прилеп, 1990.
33. Reczek Józef. Najstarsze słowiańsko-irańskie stosunki językowe // J. Reczek. Polszczyzna i inne języki w perspektywie porównawczej. Wrocław etc., 1991.
Palaeoslavica V (1997). Р. 5-29
7. SLAVICA DANUBIANA CONTINUATA (ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗЫСКАНИЙ О ДРЕВНИХ СЛАВЯНАХ НА ДУНАЕ)
О среднедунайской прародине славян мне приходится говорить на Среднем Дунае уже в третий раз: в первый раз это было на братиславском съезде славистов 1993 г., во второй - на выездном заседании в Будапеште в октябре 1995 г. и вот теперь, как бы спустившись вниз по Дунаю, но все еще оставаясь в среднем течении великой реки - до Железных ворот, здесь, в гостеприимной Югославии, в братской Сербии (в печатном виде я, правда, уже говорил об этих вещах здесь, хоть и кратко и суммарно: О.Н. Трубачев. Славяне: язык и история - как основа этногенеза. Опыт автореферата. - Јужнословенски филолог LI. Београд, 1995, с. 291-304). Все это настраивает немного на торжественный лад, хотя, помнится, на предложение выступить о дунайской прародине славян в Будапеште на Дунае я отреагировал шуткой, вспомнив изречение древних "Hic Rhodus, hic salta!" (Здесь Родос, здесь прыгай!), то есть применительно к моему случаю это можно было понимать так примерно: "Здесь
370
![]()
Средний Дунай, здесь изволь обосновать, доказать свою теорию о среднедунайской прародине славян"...
Но шутки - шутками, а речь идет о предмете серьезном и достойном внимания, с наличием, как в каждом деле, своих плюсов и минусов. Я продолжаю так думать и после некоторых, порой - неласковых, рецензий. Перед моими рецензентами стояла нелегкая задача, на них давила немалая негативная инерция, накопившаяся в науке по вопросу о славянах на Среднем Дунае. Именно так я мог бы объяснить, почему и у самых доброжелательных рецензентов плюсы оказываются как бы приглушенными, а минусы скорее акцентируются. Несколько слов поэтому - о состоянии вопроса в научной печати.
Некоторое время тому назад мои оппоненты могли, как они считают, высказываться о моей концепции в том духе, что "никто так не думает, он один так думает" [1, с. 31], что, впрочем, не было точно и тогда: не будем забывать о тени великого Шафарика, и те, кто судили о деле адекватнее, называли это возвратом Трубачева к теории Шафарика (при этом, надеюсь, понятно, что "возврат" только тогда имеет свой raison d'etre, когда использованы достижения науки спустя полтора столетия после Славянских древностей П.Й. Шафарика). Однако феномен "одиночества" Трубачева чем-то оказался привлекательным, о нем упоминают рецензенты и те, кто пишет по проблеме. Дуня Брозович-Рончевич в своем отзыве на мою книгу Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования 1991 г. высказывается, например, что "автор ... в своих утверждениях в основном остался одинок" (u svojim uvjerenjima uglavnom ostao osamljen) [12, с. 143]. Словацкий историк Авенариус, констатируя, с одной стороны, что "теория О.Н. Трубачева оживила с лингвистической точки зрения старую автохтонную теорию, сторонники которой искали первоначальные поселения славян в Среднем Подунавье", с другой стороны, говорит о том, что "теория Трубачева не нашла в историографии адекватной реакции и не стала импульсом для возможной попытки по-новому интерпретировать важнейшие исторические данные" [3, с. 27].
Правда, это было напечатано, а тем более - написано уже тричетыре года назад, а за эти последние годы по моим наблюдениям кое-что все же изменилось в обсуждаемом вопросе, в его оценке. Не исключено, что перед нами один из случаев, про которые чехи говорят: to chce čas (приблизительный перевод - "потребуется время, чтобы это пришло"). В течение последнего года я наблюдал примеры того, что такие изменения возможны, притом - на достаточно серьезном уровне. Прошлой осенью в Будапеште после моего затянувшегося доклада председательствовавший проф. Б. Хроповский, бывший директор Археологического института в Нитре (Словакия), сказал мне буквально следующее: "ja som zmenil svoje názory" (я изменил свои взгляды). Насколько я знаю, прежние názory
371
![]()
Хроповского - это добротно традиционная концепция вторичного прихода на Дунай славянства, этноса молодого и позднего, то есть то, с чем я активно спорил все последние годы моей жизни и словарной работы. Другой известный мне пример - книжная новинка, с которой я ознакомился этим летом. Автор, молодой словацкий археолог П. Мачала, выпустил книгу Этногенез славян в археологии [4], в которой прямо сомневается в приходе славян из-за Карпат, а славянскую ручную керамику связывает с эволюцией (упадком) провинциальноримской культуры. Интересно, что в последнем примере говорить о каком-то прямом влиянии моих работ не приходится, их Мачала не приводит (или не знает), дает только, да и то - по Седову, мою карту центральноевропейского культурного района.
На некоторое время отложим обзор рецензий на мою книгу по этногенезу славян для того, чтобы кратко уделить внимание определенной эволюции феномена дунайской прародины в науке 80-90-х годов. От полного отрицания, похоже, перешли к более сложному осмыслению. Для Людовита Новака, например, это "вторая прародина" славян, которые будто бы пришли на Дунай с аварами и под аварским начальством. Настойчивое стремление примирить концепции дунайской прародины и висло-одерской прародины славян демонстрирует нам целый ряд ученых, среди них - уже упомянутый нами Авенариус, как, впрочем, и Мачала. Здесь есть существенные нюансы: для Авенариуса "славянские поселения здесь (в Паннонии. - О.Т.) не автохтонны, но они очень давние, идущие с гуннских времен" [3, с. 39], в то время как Мачала согласен смотреть на остальные теории прародины славян (висло-одерскую и среднеднепровскую) только из дунайской ретроспективы. Определенные варианты притока древних славян в польские земли с дунайского Юга обдумывает польский археолог Парчевский [5]. Остается вспомнить, что покойный польский археолог В. Хенсель высказывал предположение о приходе с Дуная неких "недооформленных праславян" на север от Карпат, где им предстояло "дооформляться", признавая одновременно (уже в начале 80-х годов!) начало возрождения теории дунайской прародины славян и выражая усилия продуктивно объединить это начало с более привычными направлениями и взглядами прежде всего в польской науке. Об этом можно прочесть и в моей книге по этногенезу славян. В целом надо признать, что, несмотря на прежнее пока преобладание сакраментального тезиса "к северу от Карпат" в теориях славянской прародины, именно южный фланг, например, висло-одерской концепции остается наименее продуманным, а следовательно, наиболее уязвимым и открытым уточнениям, в том числе фундаментальным.
Для меня искомая дунайская прародина - это не "вторая прародина" славян, а изначальная славянская родина. К такому убеждению я пришел в течение ряда лет, опираясь, как мне кажется, не на умозрительные выводы (хотя умозрительность в таких вещах до
372
![]()
конца исключать нельзя), а на материал - этимологии, изоглоссы, лингвистическую географию. К положениям и наблюдениям, уже опубликованным ранее, я добавил некоторые новые факты и соображения, сосредоточившись на некоторых тезисах, по моему мнению, доказательных для предлагаемой теории.
Я начну с того, что я называю "аргументом Моравы". В моих глазах этот аргумент необычайно нагляден, красноречив и безукоризнен в плане лингвистической географии. Дело в том, что среднедунайский гидроним Morava ярко эндемичен: он распространен, в сущности, только здесь. Я имею в виду левобережный дунайский приток Morava, по которому сейчас пролегает граница между Чешской и Словацкой республиками, и южную Мораву, впадающую в Дунай справа уже в Сербии. Все остальные случаи Morava (а они есть в Польше, на юг - вплоть до Албании) происходят со Среднего Дуная и только отсюда. Вряд ли один этот единственный аргумент, наглядно говорящий о славянском исходе с Дуная, смогли бы правдоподобно истолковать противники дунайской теории славянского этногенеза. Со Средним Дунаем неразрывно связывают славянское Morava его эволюционные, преемственные отношения к индоевропейскому Marus, засвидетельствованной с античных времен форме названия той же самой реки (на явно вторичной древней форме названия южной Моравы - Margus - здесь не будем останавливаться). Распространение речного названия Morava к северу от Карпат с его бесспорно южным, дунайским происхождением совершенно очевидно не может объяснить новейшая немецкая ономастическая школа (В.П. Шмид, Ю. Удольф в Геттингене): об этом гидрониме, который нельзя объяснить из балтийского, эти ученые предпочитают умалчивать. Такие контрольные в моем представлении случаи, как Morava, тем паче не способна адекватно объяснить и концепция миграции славян на Запад с Востока, с Русской равнины, развернутая Збигневом Голомбом в ряде публикаций и в большой книге [6]. Динамику внутри дунайского ареала - я имею в виду отношения чешско-словацкой Моравы и Моравы сербской на юге - помогает прояснить употребление названия Великая Моравия, Μεγάλη Μοραβία у Константина Багрянородного. Византийский император не только впервые приводит это выражение, но и совершенно точно называет местоположение Великой Моравии - к югу от "турков" (так он именует в X веке венгров!). Тут двух мнений быть не может: ясно, что была (она есть и теперь) страна, область Morava, Моравия, одноименная реке, на дунайском левобережье (детали здесь опускаю, это можно прочесть у меня в книге Этногенез...), и другая - Великая - Моравия на славянском Юге. Здесь много сделал для прояснения американский историк-славист Имре Боба, опирающийся на правильное прочтение Константина Багрянородного, и мы должны быть признательны ему за этот филологически корректный вклад. Правда, в дальнейшем моя интерпретация
373
![]()
Великой Моравии расходится с Имре Бобой - не "ранняя, первоначальная", а 'вторично освоенная' Моравия, ибо тут, как я считаю, находит выражение лингвистическая типология называния (аналогии: Великая Греция, Великороссия, Wielkopolska, Великобритания, и я достаточно писал об этом, чтобы тут не повторяться). Важна для нас, повторяю, внутридунайская динамика: из Моравии чешско-словацкой славянами была, по-видимому, колонизована Великая Моравия в Славонии, междуречье Савы и Дравы и Среме. Культурно-исторически важные факты, имеющие сюда прямое отношение и, по-видимому, ложно ассоциировавшиеся научной традицией с чешской Моравией (св. Мефодий как преемник св. Андроника, сремского епископа, и др.) критически уже интерпретировал И. Боба. Их отношение, их значение для решения еще шафариковской проблемы происхождения и родины глаголитизма, для понимания "темных веков" зарождения письменности у сербов и хорватов трудно переоценить. И если другой мой рецензент, Хенрик Бирнбаум, продолжает не верить в Великую Моравию на юге, ему можно посочувствовать: он не видит очевидного ни в плане филологии, ни в плане лингвистической типологии [7].
В сущности аналогичную с Моравой ситуацию можно было бы констатировать и в отношении названия реки Дунай, все известные случаи которого во всех ветвях славянства восходят к среднедунайскому прототипу. Иноязычная (кельтско-германская) этимология слав. *Dunajь, *Dunavь известна, но это явно недостаточный резон для того, чтобы считать, что, например, мотив Дуная дошел до восточных славян "posredstvom germanskih susjeda, kao i samo ime" [2, c. 147]. Мы, конечно, не знаем готско-гепидских песен о Дунае, они до нас просто не дошли, но степень интимности образов и мотивов Дуная, характерная для русских народных песен, едва ли вообще сравнима с чем-нибудь аналогичным и едва ли объяснима чужим заимствованием. Достаточно полистать собрание народных песен П.В. Киреевского, где на Дунай ходят по воду, в нем мочат холсты, почтительно величают его на чисто русский манер "по батюшке" Дунай, сын Иванович, более того - смешивают его в своих представлениях с Доном ("За Доном, за Доном, За тихим Дунаем", "С Дону, с Дону..., с-за Дунаю!"), ср. и [8]. Как раз смешение Дуная с Днепром отсутствует, а оно полнее бы подошло для представлений лингвистов и историков об отношениях, скажем, готов и антов, где-то в междуречье Днестра и Днепра первых веков нашей эры. Конечно, Морава и Дунай - несопоставимые гидрообъекты и, если угодно, культурные категории. Это видно и по отражению в этнической памяти, которой по-настоящему удостоился у славян, особенно у русских славян, только Дунай, если не задерживаться на полумифической "Стране Муравии" Александра Твардовского.
Таким образом, нас не может не занимать феномен этнической памяти как весьма стойкого, пусть и преломленного отражения
374
![]()
особо значительных событий в исторической жизни этноса, имея в виду, что временнáя дистанция между вероятной датой события и его фиксацией в этой памяти может смущать наших позитивистски настроенных исследователей. На адекватном, как кажется, осмыслении феномена этнической памяти основана наша реконструкция эпизода древних кельтско-славянских отношений в Подунавье, развивающая мысль Шафарика и основанная на прочтении рассказа о волохах древнерусской Повести временных лет. В этом обычно принято сомневаться, причем апеллируют к более новому значению слова волох и его соответствий в славянских языках, в которых оно обозначает разных романцев - румын или итальянцев, как в польском. Но следует иметь в виду, что это значение слова исторически вторично, непервоначально. Слово восходит к кельтскому племенному названию Volcae (у Цезаря) через германское языковое сито, а в германском его следы засвидетельствованы также в значении 'кельт'; просто кельтов давно не стало в Центральной Европе, и их место заняли романские народы. Но Повесть временных лет хранит память именно о кельтах. Все остальное невероятно и не выдерживает критики - ни филологической, ни исторической. Волохи в Повести временных лет изображаются как большая политическая и военная сила; они "нашли" на славян и "насилили" им. Таких римскославянских конфликтов ни история, ни археология не знает, поэтому идентификация волохов и римлян неосновательна. Совершенно невозможно представить в роли летописных волохов исторических волохов, восточных романцев, которые бродили горными пастушескими тропами Балкан и Карпат и со славянами, земледельцами и жителями долин, практически не пересекались, не говоря уж о нашествии, насилии и вытеснении славян. И последнее, что уж никак не может быть всерьез принято, это понимание волохов ПВЛ как "попов-латинян" (!), предложенное автором еще одной, надо сказать, трудолюбивой рецензии на мою книгу [9, с. 216]. Трудно себе представить в то отдаленное время таких "латинских попов", от которых дунайские славяне в массовом порядке бежали на Вислу... А Повесть временных лет упоминает миграцию славян именно в этом направлении, и она ни с чем другим не связывается сколько-нибудь вероятно, кроме как с исторически достоверной экспансией кельтов еще до Рождества Христова. Культурные кельтизмы проникли вслед за уходящими славянами и в Южную Польшу, и на Правобережную Украину. Все это запомнилось. Таким образом, был дан толчок славянским миграциям; вполне возможно, что были и другие толчки. Путь этих миграций (если иметь в виду предков западных и восточных славян) пролег на Север (на Вислу) и далее на Восток, то есть иначе, чем представляют это обычно. Дальше мы еще коснемся некоторых других древних следов этих миграций. Здесь же еще только два слова о том, как кельтизм вольков-волохов преобразовался в кельтизм невров (нервов), которые, прежде чем раствориться
375
![]()
без остатка в карпатской зоне, передали ей свой культ волка (или их тотемный культ, ср. этноним Volcae, приложился к туземным восточнокарпатским культам вурдалачества, ликантропии, применительно к неврам это культ, живописуемый Геродотом, далее, сюда же некие местные Lupiones Sarmate в "Tabula Peutingeriana", неудачно эмендируемые ученой мыслью в Lugiones, и так далее, вплоть до современных румынских суеверий вокруг волка).
Первоначальный придунайский ареал все же постепенно уточняется, причем делается
это современными научными способами выявления характерных славянских языковых,
фонетических особенностей. Одновременно немаловажно отметить, что эти
особенности зафиксированы не в центре предполагаемого славянского дунайского
ареала, а как бы на его перифериях. Об одном таком важном случае трактовки
местного иноязычного ō как славянского а не только в др.-русск. нарци
Повести временных лет (Нарци еже суть словѣне), но и в племенном названии Sclavus Nara, которое передает средствами праславянского вокализма
неславянское этническое название, дошедшее до нас в латинской форме Noricum
и упрямо отсылает нас к местным норикским славянам, я уже писал [10, с. 4-5]. Noricum - область, примыкающая к Паннонии с запада, говоря современным
языком, - к западу от Вены. В плане хронологии эпитафия VI в., где упомянут Sclavus Nara, повествует о событиях IV в., что само по себе немаловажно для
абсолютных датировок местного славянства. В научной литературе справедливо
указывалось, что выявление случаев подобной славянской трактовки представляет
даже бóльшую важность, чем прямые свидетельства так называемой "славянской
ономастики" (как, например, в нашем случае отражения праславянского *konotopъ
в венгерском Kanyapta или передача с помощью слав. *boltьnъ /
венг. Balaton иноязычного, иллирийского Pannona). Дальнейшее
изучение таких структурных преобразований в славянском духе местного
неславянского языкового материала возможно и для других частей интересующего нас
ареала, ср. местные названия Sisopa и Sor-opa (эмендировано из Soroga) в античной номенклатуре междуречья Савы и Дравы (Птолемей, П век
н.э.), второй компонент которых -ора убедительно объясняется из местного
(субстратного или адстратного) *ара 'вода', но только при наличии
стадии славянской (праславянской) обработки а > о, возможно, уже в I в. н.э.
[11,
II, с. 4 и сл.]. К форме Sisopa и ее полному прочтению мы обратимся
специально ниже. Что же касается римской провинции Норик, то ее отнесение к
прародине славян дебатируется теперь даже историком [3,
с. 31], при всей
характерной в первую очередь для историков позитивистской склонности держаться
рамок написанного в источниках.
Недостаточное внимание древних к этническим различиям населявших римский лимес народов, породившее иллюзию "внезапного" появления, прихода славян, нуждается в компетентной критике со
376
![]()
стороны типологически ориентированной науки. Еще Шафарик правильно оценил недостаточность аргумента "молчания" древних источников о славянах. Этот случай вообще отнюдь не единичен: еще дольше источники, например, молчали о таких несомненных автохтонах Балкан, как албанцы и румыны. Достаточно гибкое исследование вправе прислушиваться к косвенным доводам противного, каково, в частности, отсутствие четких сведений (преданий, традиций) о приходе славян на Дунай извне, ср., впрочем, довольно противоречиво [12].
Оппозиция центра и периферии ареала, бегло затронутая выше, будет занимать нас и в дальнейшем. Принадлежа к арсеналу категорий современной науки в различных ее разделах (здесь достаточно назвать лингвистическую географию и типологию), эта оппозиция облегчает понимание специфики славянского развития, в частности - обстоятельств возникновения самоназвания славяне, *slověne, его этимологию как 'понятно говорящие'. Объективно понять возникновение такого названия именно на периферии славянского ареала и притом - названия несомненно исконного, эндогенного оказывается затруднительным для лингвистов, привыкших мыслить старыми категориями, греша одновременно явной нехваткой элементарного историзма. Примеры первоначальной периферийности самоназвания славяне в общем достаточно известны (альпийские словенцы, прибалтийские словинцы, новгородские словене, так называемые "Склавинии" северных окраин Византийской империи), к ним могут быть добавлены относительно менее известные, ср. сюда Sclavania на Майне ранних средних веков (см. о ней [13]). Самоназвание и ареал словаков на первый взгляд не вызывают сомнений или, напротив, способны заронить сомнение в том, что утверждалось нами о периферийности имени *slověne, к которому имя словак, словаки точно восходит: ведь ареал словацкого языка и народа является выразительно срединным. Но эта срединность словацкого ареала вторична, и в данном примере, как и в других известных, имя *slověne означало изначальную порубежность местных славян по отношению к территориям севернее Карпат. Как можно было бы сказать в духе древних историков: hic finis Slaviae. Зато к дунайскому, прежде этнически славянскому, югу словацкий ареал как бы открыт, напоминая амфитеатр, сбегающий от Карпат к Дунаю (этим образом амфитеатра я обязан одной из бесед с Антонином Габовштяком).
Карпаты долгое время могли сохранять значение границы славянского ареала - к югу - и неславянского - к северу. Судя по географической номенклатуре, к северу от Карпат обитали не какие-то безликие индоевропейцы, а особые индоевропейские племена иллиро-венетской принадлежности, известные в науке еще под условным названием "третий этнос" (этническая прослойка, отделявшая одно время славян от германцев, а позднее исчезнувшая, ассимилированная,
377
![]()
в результате чего германцы сблизились теснее со славянами, распространив на последних свой вариант названия венетов, ср. нем. Weneden, Wenden, Winden). Следы особого венетского этноса сохранились как с немецкой стороны (Daleminze, ср. Delmatae латинских источников), так и со славянской (Śrem, Licicaviki). Скепсис в отношении дославянской древности этих следов, например, на польской территории, малоуместен.
Новая (или обновленная) теория древнего славянского ареала на Дунае несет в себе определенный вызов или призыв (в смысле английского challenge) к модернизации наших научных представлений. Достаточно назвать проблему реальной древнедиалектной сложности этого исходного славянского пространства. Исповедоваемый нами постулат диалектной сложности любого праязыка в данном случае до некоторой степени дополняется следами наличия разных диалектных славянских групп, еще различимыми сейчас и предположительно относимыми к тому отдаленному времени. В частности, мы считаем вполне допустимым прибегнуть к дебатировавшимся одно время в науке понятиям паннонско-славянский и дакославянский. Возможно, еще сохраняются резервы реконструкции конкретного языкового наполнения обоих этих понятий. Говоря несколько упрощенно, имеется в виду выявление следов древнего пребывания в дунайском регионе также неюжных славян. При этом кажется оправданным некоторое отождествление паннонскославянских элементов как празападнославянских. Примеры: античное название Большого Балатона (кстати, плесообразно вытянутого) Pelso (lacus Pelsonis, Плиний, другие написания менее авторитетны), ср. словацкое (татранское) ples, pleso в названиях озер; эпиграфическое (первых веков н.э.) deo Dobrati, посвящение "богу доброты" в античном городе Intercisa (на Дунае), к которому мы еще рассчитываем потом вернуться, ср. только западнославянский морфологический вариант *dobrotь (можно справиться в нашем Этимологическом словаре славянских языков, s.v.), при инославянском *dobrota; stravarn (Иордан. Getica), о поминках по Аттиле, скорее всего продолжает западнославянское *jьztrava 'корм(ление)', а некоторые хронологические возражения и сомнения [14, с. 166] могут быть ослаблены соображениями межъязыковой передачи, о чем я уже писал в другом месте. В свою очередь, дакославянский на востоке изучаемого пространства все больше вызывает ассоциации с правосточнославянским. К нему может быть возведен ряд лексических "окаменелостей", не имеющих базы в южнославянском и осевших в румынском языке и его диалектах, о чем я уже писал, отчасти опираясь на предшественников, в своем докладе на братиславском съезде славистов. Также уже относительно давно обращено внимание на особый, дакославянский с восточнославянскими связями, языковой статус островного говора крашован (карашевцев) в румынском Банате.
378
![]()
Таким образом, складывается вероятная картина наличия древних совокупных славян на Дунае от Нижней Австрии до Трансильвании и Баната. И по-прежнему остается неопределенной южная граница славянского дунайского ареала, к чему мы еще будем, по-видимому, возвращаться. А, может быть, этой южной границы в настоящем смысле не было? (Тем более, что вообще вряд ли верно переносить в древность современное стереотипное понимание границы как таковой).
Что же касается диалектной сложности исходного славянского ареала на Среднем Дунае, представляется целесообразным настаивать на совершенной новизне этой проблемы в науке, как и на том, что с ее постановкой открываются новые возможности объяснения неюжнославянских топонимов Греции, до сих пор попросту отсутствовавшие. Я имею в виду реальность истолкования топонимов частично западнославянского, частично - восточнославянского вида Κονίσπολις, Ὄζερος, Ζγκάρι, Τολπίτσα, Μπαλαμούτι, Πολοβίτσα [15, passim] как принесенных с Дуная, при всех возможных уточнениях критики, ср., напр., указание Александра Ломы на соответствие греч. Κονίσπολις, помимо польск. Koniecpol, также в южнославянском - старосербском названии жупы в восточной Герцеговине Конац-поље [9, с. 220].
Разумеется, эти новшества несут с собой дальнейшие детализации и усложнения во взглядах на изучаемый предмет. Не удовлетворяясь общей констатацией вторичного распространения славянского элемента к северу от Карпат, мы вправе стремиться получить ответ на вопрос о том, как это было, я имею в виду стратификацию или относительную (релятивную) хронологизацию центробежных славянских отселений (миграций) с Дуная. Возможно, празападнославянские племена первыми начали переваливать через Карпаты на север. Следствием этого был не только упомянутый выше их этноязыковой контакт с (иллиро)венетами висло-одерского бассейна, но и сохраняющее в наших глазах датирующее значение общение с иранцами-скифами. В археологии реконструируется глубокий рейд скифов на территорию Лужицы на основе находки там клада скифских вещей как следствие похода персидского царя Дария против скифов в Северное Причерноморье в 512 г. до н.э., каковым временем и хронологизируют обычно скифские находки в Лужице. Сейчас можно думать, что скифское вторжение (или отступление) на будущую западнославянскую территорию было более значительным и протяженным во времени и пространстве. Во всяком случае никак иначе нельзя было бы объяснить лингвистический феномен, с которым я столкнулся как этимолог еще 30 лет назад, когда, между прочим, еще не знал о существовании скифского клада в Феттерсфельде, Лужица. Я обнаружил, как считаю и сейчас, целый ряд весьма древних лексических иранизмов, распространение которых ограничивалось исключительно (или почти исключительно) западнославянским
379
![]()
или даже только польским, почему я назвал эти элементы polono-iranica. До сих пор традиционно считалось, что иранские (скифские) влияния, распространяясь с востока на запад, прежде всего сказывались на восточной части славянства, то есть на восточнославянском. Очевидно, что пришло время рассмотреть такую диспозицию славяно-иранских отношений, когда восточнославянский еще не распространился в своих пределах. Мои лингвистически (этимологически) вполне корректные построения почему-то встретили довольно ревнивую реакцию со стороны польской этимологической школы, ср. хотя бы предостережение Ф. Славского, что якобы результаты моего исследования необходимо "использовать осторожно", далее - в том же духе отчасти - целую диссертацию Ю. Речека о древнейших славяно-иранских языковых отношениях [16, особенно с. 68 и сл.]. Правда, другая, тоже диссертационная, работа на ту же тему - словенки Вари Цветко-Орешник - оценивает мой вклад по части polono-iranica вполне положительно. Но необходимую широту взгляда в оценке этих этимологий проявил польскоамериканский славист Збигнев Голомб, ср. [6, с. 323]: "The credit for having called attention to such prehistorical Iranian loanwords in West Slavic belongs to Trubačev". Я намеренно не обременяю изложение подробностями этимологизации праслав. диал. (зап.-слав.) *gъpanъ, *obačiti, *patriti, *šatriti и других polono-iranica. Для меня, повторяю, самое важное здесь - это их датирующая сила, непротиворечиво, насколько я могу судить, согласующаяся с другими свидетельствами, вроде нижеследующего. Именно часть празападнославянских племен, будущих вислян и полян, то есть поляков, похоже, за свое первенство не только в преодолении Карпатских гор, но и в продолжении занятий привычным славянам земледелием на новом, необжитом месте получила прозвище *lędjane 'новоселы, целинники' от *lęda 'ляда, целинная, непаханная земля'. Древний, праславянский возраст этого обозначения удостоверяют хронология и семантика таких косвенных его продолжений, как запись Λενζανηνοι, Λενζενίνοι еще в середине X в. у Константина Багрянородного [17, с. 44, 156] и венг. lengyel 'поляк, польский'. От этого *lędjane, никогда, кстати, поляками, о самих себе не употреблявшегося, произведено экспрессивное *lęxъ, (др.-)русск. лях, лит. leñkas 'поляк'. После изложенных выше данных, которые, как мне кажется, трудно правдоподобно объяснить каким-то другим способом, можно предположить, что правосточнославянские племена стали распространяться к северу и северо-востоку позже, хотя, по-видимому, тоже давно. Обычно (восточно)славянская колонизация Восточной Европы датируется временем не ранее середины I тысячелетия н.э., но сейчас имеются данные, позволяющие говорить и о более глубоком, и о более раннем проникновении первых волн этого этноса, ср., напр., обнаружение нашими археологами именьковской культуры первых веков нашей эры в Среднем Поволжье, с вещами провинциально-
380
![]()
римского происхождения, с признаками явно западного происхождения всей культуры в целом, с характерным отсутствием сарматских влияний [18, с. 309, 313, 314].
Тем самым становится ясной актуальность проблемы углубления (удревнения) традиционных славянских датировок. Тезис о VI в. как terminus post quem появления славян не может быть спасен, как явствует по крайней мере из вышеизложенного, ни ссылками на "правила профессионализма" (? как если бы соблюдение таких правил налагало запрет на новые факты, новые мысли...), ни датировками археологической пражской культуры, ни твердой верой в абсолютность дат первых письменных упоминаний (Иордан, Прокопий), ни позитивистски прямолинейным принятием на веру духа и буквы этих римско-византийских рассказов, разумеется, враждебных и, как минимум, пристрастных. В спорах нашего времени о месте славян в Европе и об уровне славянской культуры оживленно дебатируется отношение той же пражской культуры и провинциальноримских культур. Коллеги-археологи из разных теоретических побуждений видят в относительной бедности и невысоком материальном уровне славянской культуры либо следствие кризиса социальных структур в Европе (Римской империи) с III в. н.э. (Мачала), либо вообще - zubożenie, обнищание (Годловский). Как все это мне лично напоминает старые уже взгляды Мейе на славянскую культуру как обнищавший вариант индоевропейской культуры. А может быть, на небогатую славянскую культуру разумнее посмотреть как на архаичный вариант индоевропейской культуры? [19, с. 321-322]. Кажется, что это уберегло бы от риска идти по следу ложносконструированной эволюции.
Отстаиваемую здесь теорию дунайской прародины славян делает современной то существенное обстоятельство, что эта теория основана на рядах лингвистических соответствий, изоглосс. Поэтому, когда автор самой обстоятельной и большой по объему рецензии на мою книгу Этногенез... [9] в сущности не коснулся индоевропейско-славянских изоглосс, на которых она построена (славяно-иранских/индоарийских, славяно-балтийских, славяно-италийских), это произвело впечатление парадокса. Работая с изоглоссами (а работа эта имеет немалую предысторию, включающую - как минимум - весь период подготовки Этимологического словаря славянских языков), я старался эшелонировать их хронологически, а также по характеру их свидетельств для славянского этно- и глоттогенеза. Так постепенно сложились представления о довольно высокой регулярности как бы "несоответствий", контр-изоглосс как характерной для славяно-балтийских отношений, с выводом о постэтногенетичности самих этих отношений, с их моделью языкового союза, наложившегося на относительно близкое языковое родство. Славяно-иранские и славяно-индоарийские языковые отношения с их тенденцией одностороннего влияния религиозной и другой лексики на
381
![]()
славянский тоже в общем постэтногенетичны (тип славянского языка уже сложился, однонаправленность языкового влияния прослеживается), и это поучительно в смысле иррелевантности VI в. н. э. с его "пражской культурой": уже около середины V в. до н.э., которым можно примерно датировать начало славяно-иранских контактов, славянский предстает как сложившийся языковой тип. Совсем другой характер носят древнейшие славяно-италийские соответствия (изоглоссы): контакт обеих сторон оказался возможен до II тысячелетия до н.э. (время ухода италийских племен из Центральной Европы на Апеннинский полуостров). Характерные признаки - отсутствие четкой односторонности влияния (заимствования), при несомненности наличия самих изоглосс. Показательна древность и фондовость семантики славяно-италийских изоглосс: информация о природе (широкие разливы воды с заболачиванием, низины), примитивное строительство, сельское хозяйство ('плоды, собранные рукой'), элементарные социальные отношения ('странноприимный хозяин'), элементарные правовые (этические) нормы ('дозволено', 'не дозволено' = 'грешно'), архаичная религия (молчаливое почитание, культ предков), но и начатки торговли. Такова содержательная сторона пар соответствий, формальная сторона которых говорит за себя: *pola voda - palūdem, *volynь - uallis [20, с. 14], *strojiti - struere, *pojьmo - pōmum, *gospodь - hospes/itis, *basъ - fās, *nebasъ - nefās, *gověti - favēre, *man- - mānēs, *věno dati - uendō, -ere, *věniti - ueneō, -īre. Этимологическая достоверность этих соответствий, при замечательном отсутствии признаков заимствования с той или другой стороны делают этот материал весьма показательным в этногенетическом плане, во всяком случае не дают оснований оценивать его, как это счел возможным сделать Бирнбаум, назвав положение о славяно-латинских контактах III тысячелетия до н.э. "странным" и даже "нелепым" только потому, что латынь засвидетельствована только с VIII в. до н.э. в маленькой области на Тибре [7, р. 353]... Если до такой степени отрекаться от реконструкции дописьменных состояний, то лучше уж вообще не браться за проблематику этногенеза.
Обратившие на себя мое внимание перечисленные общеязыковые соответствия отнюдь не претендуют на исчерпанность. Когда я в свое время проводил обследование древней лексики ремесленного производства, там славяно-латинских соответствий оказалось еще больше, в связи с чем я позволю себе процитировать из того исследования заключительный вывод, тем более многозначительный, на мой взгляд, что задолго до того как у меня созрела уверенность в необходимости вернуться к дунайской прародине славян, этот тогдашний вывод констатирует "вероятность древней ориентации славян не на контакты с балтами, а на контакты с более западными индоевропейцами, языковое общение с которыми в области совместного терминотворчества столь велико и столь серьезно, что мы вынуждены допустить древнее существование центральноевропейского
382
![]()
культурного района, охватывавшего древние германские, италийские, славянские диалекты (или их часть) и не включавшего балтийских диалектов, общение с которыми могло наступить позднее" [21, с. 393].
Стойкий интерес к географической (лингвогеографической) проекции исследования при этом понятен. При свойстве именно периферий удерживать архаизмы наше внимание постоянно обращено на них, в том числе на эту южную, может быть, наиболее проблематичную из периферий дунайского ареала. Очевидное древнее наличие здесь неславянского индоевропейского этноса (вероятнее всего - иллирийского) не означает само по себе невозможность достаточно раннего пребывания здесь также славян, ранней инфильтрации их сюда, ранних отражений в местной ономастике, включая проявления двуязычности. Давно уже в основном признается, что туземное сельское население той части Воеводины V в. н.э., которую посетил византиец Приск, записавший здесь и "туземное" слово μέσος, по всей видимости, славянское *medъ 'мед, в том числе хмельной мед' [14, с. 93] - что это здешнее население было к тому времени славянским. В местной ономастике можно встретить элементы, внешне близкие или тождественные славянским, но это трактуется обычно сдержанно, славянство остается недоказанным, и такая сдержанность в основном понятна, можно признать, что она - в интересах науки, во всяком случае - до известного предела. Внешне близкие имена вполне могут оказаться целиком неславянскими и дославянскими, существует положение, которое гласит, что Балканы именно потому быстро и по большей части без следа славянизировались, что дославянское население говорило на близком славянам языке (языках). В самом деле все эти Cerna, Bersa/Berza в составе местной ономастики вызывают, как минимум, мысль об амбивалентности, ведь абсолютно близкие названия черного цвета дерева березы есть и в славянском. То же можно сказать о местном элементе Urb- и его близости к славянскому названию дерева *vьrba. В случаях, когда чисто корневая атрибуция может подвести, целесообразно обратить внимание на оформление корня (словоизменение, словообразование) - по крайней мере в тех случаях, где это, может быть, до сих пор не сделано с должной четкостью. Такой пример у нас - один, но он, возможно, заслуживает повторного обсуждения, не столько в смысле упомянутой амбивалентности корня, сколько в отношении следов флексии, которая могла отличаться у балканских индоевропейцев и славян более существенно, чем корневой репертуар имен. Речь идет о древнем названии значительного притока Савы, зафиксированном Плинием (Plin. NHIII, 25, 148) в виде Urpanus/Urbanus. Сразу отмечу, что считаю вариант Urbanus более авторитетным, чем форму с глухим Urpanus, которая могла бы отражать германскую (готско-гепидскую) передачу (объяснение в комментариях к изданию [14, с. 27] неубедительно). Современная форма названия
383
![]()
реки - Vrbas, и в литературе абсолютно господствует точка зрения о неславянском происхождении названия [22; 23; 24]. Между тем отношение форм Vrbas - Urban- (собственно говоря, Vrban-, так как в живом языке известна форма Vrbańa) носит славянский характер, причем парадигматический: окончание -asъ оформляет местный падеж от основ на -an- (> -an-s-). Речь идет о реликтовой и рецессивной форме loc. pl., которая засвидетельствована как таковая только в старочешском как беспредложное Doľas 'в области долян', предложное v Polas 'у полян, среди полян': в остальных славянских от консонантных основ этого типа на -an- представлено более позднее окончание loc. pl. на -хъ, напр. др.-русск. поляхъ от поляне, ст.-серб. Дѣчахь 'в Дечанах' [25]. Ничего похожего на уверенную этимологизацию в неславянских толкованиях Urbanus/Vrbas я не встретил, притом, что по этому вопросу существует довольно обстоятельная литература. Не убеждает при этом и объяснение элемента -s- в Vrbas (из албанского?). Славянская атрибуция ставит все на свои места, начиная с ономасиологической мотивации (*vьrbane 'жители ивовых низин': *vьrbasъ 'у вербан, среди вербан', модель, вполне ожидаемая в топонимии) и кончая естественностью сохранения морфологического архаизма на периферии. Предлагаемые рассуждения находят косвенную поддержку в воспроизводимости парного отношения *vьrb(j)ane - *vьrb(j)asъ / *vьrb(j)axъ на ономастическом уровне, ср. в словенской топонимии Vrbljene, наряду со стар. Werbliach, Werblach. диал. U̯ȑbľeńe, u̯ U̯ȑbľeńəh, наряду с u̯ Vrbljah [26]. К тому же, отмечается, что *vьrba принадлежит к числу наиболее употребительных славянских топонимических основ.
Вскользь упомянутые нами проявления двуязычности, в частности, на южной периферии древнего славянства, представляются весьма важными в плане изучения пограничных славянско-неславянских отношений, тем более, что известных случаев такого рода здесь на удивление мало. Из литературы припоминается в общем только Mursa / Μοῦρσα, название города у древних писателей, согласно мнению специалистов, - того, который сейчас называется Ósijek. При апеллативном значении последнего 'обрыв, крутой берег', оно могло бы оказаться глоссой, семантической калькой местного туземного - иллирийского - mursa 'яма' (как диалектное адстратное включение дожило до наших дней в греческом языке, в Эпире) [27, с. 891-892]. Правда, неясности остаются и тут, выдвигается значение 'болото' для иллир. mursa, ср. древний контекст lacus/stagnus Mursianus, а калькирование иллир. Mursa с помощью славянского Ósijek оговаривается реконструкцией корня senk- 'иссякать' в последнем [22, Bd. II, S. 81], хотя вокализм славянского имени скорее допускает праформу -sěk-. Я пользуюсь случаем, чтобы обратить здесь внимание на еще один случай древнего славянско-неславянского перевода (калькирования) в топонимии междуречья Савы и Дравы, а именно на местное название Sisopa у Птолемея. Это название
384
![]()
к югу от Савы, в непосредственной близости от Загреба, стало мне известно из работы загребского лингвиста, который толкует древний реликт из и.-е. *su̯ei-/*su̯i- 'шипеть', а все вместе как 'шипучая вода', будто бы обозначавшее местный минеральный источник [11, с. 5]. Я предложил бы, со своей стороны, другое толкование Sisopa - как сатэмный иллирийский рефлекс индоевропейского *k̑is-apā 'по эту сторону реки (расположенный)', ср. родственный первый местоименный компонент в лат. Cis-padanus, oppositum к Trans-padanus, далее, сюда же хеттское Kizz-uu̯atna 'за водой (местность на юг от реки Галис)'. В связи с этим можно поставить вопрос, не является ли славянский топоним Za-greb приблизительной калькой-переводом иллирийского Sis-opa/*Sis-apa. Общая конструкция 'за х (расположенный)' напоминает и, возможно, повторяет изначально смысл местного *Sis-apa, а отличия - greb- с идеей, скорее, дамбы, гребли - понятны, если учесть, что низкий берег Савы со стороны города Загреба подвергался наводнениям. Предложенная мной этимология, кажется, лучше отвечает старой традиции Zagrabia, olim Sisopa, как ее передает, например, Белостенец (цит. по [11, с. 1]).
Если взглянуть на Средний Дунай с юга, то, кроме меридионального "венгерского" участка, значительные его отрезки простираются с запада на восток - так, что левый берег великой реки одновременно оказывается как бы северным. Это наблюдение было сделано до нас, во всяком случае больше тысячи лет назад некий аноним, обычно именуемый Баварским географом, оставил лаконичное, местами темное, но чрезвычайно важное для науки Описание городов по северному берегу Дуная (Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii, мы используем здесь чешское издание историков Б. Горака и Д. Травничека [28]). В этом Описании есть место, которое надо постоянно иметь в виду, занимаясь дунайской проблемой славян:
Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cunctae gentes Sclavorum exortae sint et originem, sicut affirmant, ducant
'Zeriuani - это такая область, из которой будто бы вышли все племена славян и (откуда), как утверждают, они ведут свое начало'.
Наиболее вероятно мнение, что Zeriuani надо отождествлять (по крайней мере - по названию) с северянами древнерусской истории [28, с. 40], а форму Zeriuani допустимо считать испорченной записью, вместо более ясного Zeuirani. Сюда же, видимо, и некие Zuireani, упоминаемые в Descriptio рядом с бужанами - Busani. Нидерле, не веривший в дунайскую прародину славян, локализует Zeriuani в Прикарпатье [28, с. 39], с чем сейчас мы не можем согласиться. Напротив, нас привлекает мнение С. Закшевского, который обращает внимание на то, что сообщение о Zeriuani занимает особое место, в связи с чем и чешские издатели документа весьма внимательно реферируют эту позицию:
"S. Zakrzewski hledá Zeriuani při Dunaji. Uvádí, že v oblasti při hranicích pozdějších Uher, Srbska a Bulharska leželo teritorium známé v uherských dokumentech jako terra Zeurini (vel Banatus Szoereny, albo
385
![]()
terra regalis Severinensis). V dřívějších dobách ... mohlo mít toto teritorium rozsáhlejší hranice. Na jeho území podle Zakrzewského mohlo být centrální území Slovanů ..." [28, с. 39].
Во всяком случае, переходя уже на язык лингвистики и лингвистической географии, для нас ясно, что название Zeu*irani (Zeri*uani), за которым стоит несомненно (пра)славянское *sěver(᾽)ane, - название ориентационное, оно естественнее звучит не в устах самих северян, а в устах тех, кто отселяется от них, углубляясь, скажем, к югу (вспомним негативный принцип топонимики В.А. Никонова). Так что область, которую занимали придунайские славянские *sěver(᾽)ane, отчасти совпадающая с румынским Банатом на среднедунайском левобережье, представляется одним из важных центров славянских миграций с Дуная, которые разнесли имя северян значительно шире, вместе с расширяющимся славянством. Свидетельство о среднедунайских северянах, как минимум на триста лет предшествующее тому, что написано в летописи Нестора, трудно переоценить, не говоря уж о том, что наши сведения о среднедунайской славянской этнонимии очень скудны. После сказанного ясно, что я считаю единственно возможной этимологическую связь племенного имени *sěver(᾽)ane с названием страны света *sěverъ, север, не приемля, таким образом, этимологии З. Голомба от особого (и незасвидетельствованного) *sěvo- < и.е. *k̑oiu̯o- 'член семьи', при собирательном *sěverъ типа četvero, etc. [29]. Наш польско-американский коллега ошибается, отрицая здесь связь с определенной территорией, эта связь как раз очевидна, взять хотя бы эту "повторительную" связь Северской земли с левобережьем Днепра, известную и Голомбу. Но об этом феномене повторительности - чуть ниже.
Вышеизложенный экстракт (или, как я недавно назвал это в другом месте, автореферат) моих продолжающихся занятий дунайскими древностями славян неизбежно мозаичен, поскольку содержит факты разных уровней языка - фонетики, морфологии, словообразования, лексики, а также лингвистической географии, хронологии, изоглосс и - не в последнюю очередь - культурной истории. Кажется, при этом не были забыты возможности современной науки с ее интересом к типологии. При широте и пестроте затронутых (порой - вынужденно бегло) проблем, нельзя отрицать, что все было подчинено одной главной цели. Думаю, что эту пестроту не усугубит еще одна личная информация на тему: в № 6 журнала "Вопросы языкознания" за 1996 г. предположительно появится моя статья О 'рябчике', 'куропатке' и других лингвистических свидетелях славянской прародины и праэкологии, где дана моя полемика с американским славистом X. Андерсеном, который тоже (и там же) публикует свой Взгляд на славянскую прародину. Локализация этой прародины у американского коллеги вполне традиционна - к северу от Карпат, в лесной зоне; он полагает, что ему в этом помогают названия некоторых птиц. Поэтому я тоже решил "разобраться" с некоторыми
386
![]()
названиями птиц, не упустив случая расширить аргументацию в пользу своей концепции о славянах на Дунае и в целом - в относительно более южных широтах. Мой результат разошелся с выводами Андерсена: достаточно сказать, что по крайней мере двумя разносклоняемыми, архаичными основами на -u/ъve в языке праславян были представлены названия ярко выраженных степных (а не лесных!) птиц: кроме куропатки - *kuropъty/ъve, это еще и *dropъty/ъve 'дрофа Otis tarda'.
Мысль о древнем славянском исходе со Среднего Дуная - это великая идея без автора. На ее авторство, строго говоря, не претендуют ни наш Нестор летописец, ни средневековые хронисты, ни Павел Йозеф Шафарик, ни автор этих строк. Можно утверждать с уверенностью, что она уже была до нас, и одно это показывает серьезность дела. Даже отвергая ее, ученое сообщество все время вынуждено возвращаться к ней, и это также присуще великим идеям. Ускользающих доказательств и канонических сомнений вполне достаточно для тех, кто привык не верить, ибо, как сказал поэт, "...ничто по-настоящему достойное доказательства не может быть ни доказано, ни опровергнуто":
For nothing worthy proving can be proved,
Nor уet disproved (Tennyson).
В наших возможностях, в возможностях нашей науки - бесконечно проверять фактологию означенной великой идеи. Больше того, это наш долг. В заключение приведу еще один лингвистический факт или группу таких фактов, обладающих культурно-историческим фоном. Идея городов на Дунае (вспомним уже упоминавшееся Описание городов по северному берегу Дуная IX в.) только на первый и поверхностный взгляд противостоит тому, что знают в науке о древних славянах. Высказывание того же Иордана - Hi paludes silvasque pro civitatibus habent 'y них болота и леса - вместо городов' - не следует воспринимать буквально, что обычно и делают историки-позитивисты. В этом высказывании прежде всего нашел выражение этот презрительный взгляд, бросаемый как бы сверху вниз римлянином или византийцем на славян. Но славяне имели понятие и еще индоевропейское название города. Просто это понятие не было у них так резко противопоставлено окружающей среде, в частности болоту. Ярким примером нейтрализации противопоставления 'болота' и 'города' может служить славянский Блатънъ градъ у Малого Балатона, в Паннонии. Поэтому встает проблема славянских городов на Среднем Дунае и их возможных дальнейших реминисценций. Одна из них реализуется у Владимира Святого, христианизатора Киевской Руси, которому, по летописи, принадлежат слова: "се не добро, еже мало городъ около Кыева" (это нехорошо, что мало городов вокруг Киева). Один из древнейших таких городов, спутников Киева, назывался Вышьгородъ. Он стоял на правом, высоком берегу Днепра, и его древнее название еще сохраняет
387
![]()
свою апеллативную прозрачность - 'более высокий город, замок'. Точно такое же название выступает и в топонимии других славян - Wyszogród, Vyšehrad, Višegrad. Нельзя не вспомнить при этом и Višegrád на высоком дунайском берегу, в Венгрии. Его скорее южнославянские звуковые особенности могут быть вторичным фонетическим продуктом (как и в Блатьнъ градъ?). Главное для нас здесь - его славянская принадлежность и дунайская, видимо, древняя локализация.
Višegrád и Вышьгородъ знают все и полагают, по-видимому, что тут представлен независимый параллелизм называния. Однако не всегда можно все свести к параллелизму. Значительно ниже по Днепру история знает город Пересѣчьнъ. Точно неизвестно, где был этот город. Поскольку это был город племени угличей, окончательно оседших потом в Поднестровье, его искали в Молдавии, но как будто безуспешно. К тому же, летопись, упомянув "единъ градъ именьмь Пересѣчьнъ", очень четко повествует: "Бѣша (же) сѣдяще Угличи по Дънѣпру вънизъ, и по семь преидоша межю Богъ и Дънѣстръ, и сѣдоша тамо". Удостоверившись, таким образом, что Пересечен находился, скорее всего, на Нижнем Днепре, и понимая в общем прозрачную этимологию этого древнерусского названия (от глагола пересѣчи, пересѣкати), мы по-прежнему не знаем его этиологию, причину возникновения. И, конечно, дело тут не в том, что это был "город, пересеченный дорогами" (как думали некоторые), что было бы слишком банально. Поэтому мы обращаем внимание на античное название Intercisa, обозначавшее в начале новой эры, в частности, город на Дунае, на территории современной Венгрии. Латинское название прозрачно и мотивированно: собственно говоря, это отглагольное прилагательное (причастие) intercisa (sc. lic. civitas, urbs) 'перерезанный, пересеченный (город)'. Другая Intercisa, в античной Италии, была точно пересечена туннелем. Какой-то локальной особенностью была наверняка продиктована номинация и в интересующем нас случае Intercisa: быть может, a Dunabe intercisa (civitas) 'пересеченный Дунаем (город)', если иметь в виду заселенность обоих берегов (а, возможно, наличие соответствующей удобной переправы). Остается только думать и гадать, не подсказано ли античное Intercisa на Дунае туземным, предположительно (пра)славянским *persěčьnъ (gordъ), латинской калькой которого оно могло бы оказаться. Сознавая гипотетичность своего предположения, признаем все же, что оно открывало бы путь и к осмыслению днепровского Пересечна, тоже, вполне возможно, получившего название за заселенность обоих берегов, связанных между собой переправой (из побочной для обсуждаемой здесь проблемы литературы, кстати, может быть извлечена полезная информация о существовании в древности одной из удобнейших переправ через Нижний Днепр примерно в низовьях современного Каховского водохранилища, см. [30, с. 17]; не есть ли это искомое местонахождение древнего днепровского
388
![]()

Карта 7. Древние славянские диалекты на Среднем Дунае
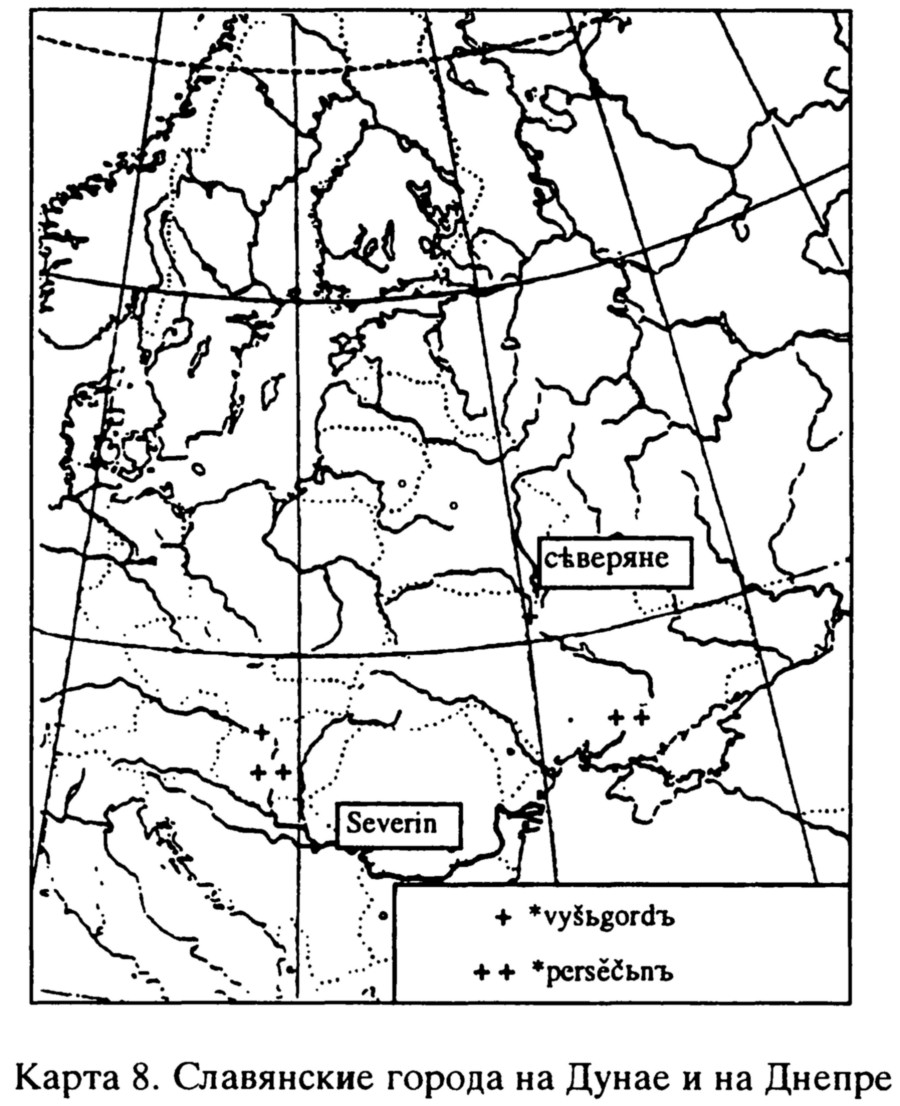
Карта 8. Славянские города на Дунае и на Днепре
389
![]()
Пересечна?). Если мы присовокупим сюда судьбу северян (ср. на Дунае не только этноним, но и название города - Turnu Severin), то динамика всей модели на Днепре, условно - от Вышгорода до Пересечна, обретает смысл как динамика повторительная.
Июнь 1996 г.
ЛИТЕРАТУРА
1. Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян // Palaeoslavica 1. 1993. Cambridge/Mass.
2. Brozović-Rončević D. О Trubačevljevu viđenju etnogeneze Slavena (O.H. Трубачев. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991) // Folia onomastica Croatica. Kn. 3. Zagreb, 1994.
3. Авенариус Л. Ранние славяне в среднем Подунавье: автохтонная теория в свете современных исследований // Славяноведение. 1993. 2. ( http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/SovSlav/Slav-1993-2.pdf )
4. Mačala Р. Etnogenćza Slovanov v archeológii. Košiće, 1995.
5. Parczewski M. Origins of Early Slav culture in Poland // Antiquity. V. 65. N 248, 1991. Р. 676 и сл.
6. Gołąb Z. The origins of the Slavs. A linguist's view. Columbus, Ohio, 1991 (1992).
7. Birnbaum H. On the ethnogenesis and protohome of the Slavs: the linguistic evidence. O.N. Trubačev. Etnogenez i kul'tura ... H. Popowska-Taborska. Wczesne dzieje... Z. Gołąb. The origins of the Slavs ... W. Mailczak. De la préhistoire des peuples i.-e. // Journal of Slavic linguistics. V. I. N 2. 1993. P. 352 и сл., особенно 355.
8. Мачинский Д.А. "Дунай" русского фольклора на фоне восточнославянской истории и мифологии // Русский Север. Проблемы этнографии и фольклора. Л., 1981. С. 110 и сл., особенно с. 137, 160.
9. Loma A. Podunavska prapostojbina Slovena: legenda ili istorijska realnost? Uz knjigu: O.N. Trubačev. Etnogenez i kul'tura drevnejšich Slavjan. Lingvističeskie issledovanija. M., 1991 // Јужнословенски филолог. XLIX. 1993.
10. Трубачев O.H. Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993.
11. Putanec V. Ubikacija klasičnih toponima Sisopa i Soroga u Zagreb i pitanje prisutnosti Slavena na Balkanu u I. st. naše ere. Zagreb, 1992 (izdaje autor).
12. Tyszkiewicz L. Przyczyny i początki pierwszej migracji Słowian nad dolny Dunaj // Z polskich studiów slawistycznych, seria VIII. Warszawa, 1992. C. 151 и сл.
13. Трубачев O.H. SCLAVANIA на Майне в меровингскую и каролингскую эпоху. Реликты языка // Dialectologia slavica. Сборник к 85-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1995. С. 11 и сл., особенно с. 22.
14. Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 (I-VI вв.). Отв. ред. Л.А. Гиндин, Г.Г. Литаврин. М., 1991.
15. Vasmer М. Die Slaven in Griechenland. Zentralantiquariat der DDR. Leipzig, 1970.
16. Reczek Józef. Najstarsze słowiańsko-irańskie stosunki językowe. = Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego nr. 92. Kraków, 1985. Переиздано
390
![]()
в: J. Reczek. Polszczyzna i inne języki w perspektywie porównawczej. Wrocław, etc. 1991.
17. Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарий. Под ред. Г.Г. Литаврина и А.П. Новосельцева. М., 1989.
18. Седов В.В. Славяне в древности. М., 1994.
19. Трубачев О.Н. К отдаленнейшим истокам нашего самосознания. Презентация одной книги // Palaeoslavica II, 1994, Cambridge/Mass.
20. Трубачев О.Н. Мысли о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания // Вопросы языкознания. 1994. № 6; То же: Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. LIV. Heft 1. 1994. S. 18.
21. Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и групповая реконструкция). М., 1966.
22. Mayer А. Die Sprache der alten Illyrier. Bd. 1. Wien, 1957. S. 349-350.
23. Popovic I. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960, S. 149, 173.
24. Dickenmann E. Studien zur Hydronymie des Savesystems II. Heidelberg, 1966. S. 163, s.v. Vrbaška.
25. Vailiant A. Grammaire comparée des langues slaves. Т. II: Morphologie. Première partie: Flexion nominale. Lyon; Paris [s.a.]. P. 188, 217.
26. Bezlaj F. Slovenska vodna imena. II. del. Ljubljana, 1961. С. 315-316.
27. Vasmer M. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin, 1971.
28. Horák B. a Trávníček D. Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii // Rozpravy ČSAV. Ročn. 66. Rada SV. Seš. 2, 1956. С. 2-3.
29. Gołąb Z. Old Bulgarian Sěverъ (?) and Old Russian Sěverjane // Wiener slavistisches Jahrbuch 30. 1984. Р. 9 и след.
30. Шилов Ю.А. Прародина ариев. Киев, 1995.
Сербский лексикограф. Белград. 1996.
8. SCLAVANIA НА МАЙНЕ В МЕРОВИНГСКУЮ И КАРОЛИНГСКУЮ ЭПОХУ. РЕЛИКТЫ ЯЗЫКА
Главным стимулом для нижеследующих наблюдений явилась новая книга немецкого слависта, профессора Йозефа Шютца - J. Schütz. Frankens mainwendische Namen. Geschichte und Gegenwart. München, 1994 (Philologia et litterae slavicae. Bd. II) - далее [Schütz 1994]. Заслуга Шютца состоит в том, что он подверг критическому пересмотру историю, источники и нынешнее состояние филологического изучения остатков языка (в основном - ономастики) так называемых майнских венедов. Лингвистический анализ Шютца пронизан
391
![]()
духом живейшей полемики с двумя другими почтенными немецкими специалистами - Эрнстом Шварцем и Эрнстом Айхлером. Мы не станем вдаваться в детали этого спора, отметим только, что во многом оказался прав Йозеф Шютц. Он прав и тогда, когда упрекает автора настоящих строк в том, что исследования, предпринятые в книге последнего "Этногенез и культура древнейших славян" 1991 г., "не затрагивают ни ареал, ни этническую принадлежность майнских провинций" [Schütz 1994, S. 95], справедливо указывая на как бы "маятниковый, амплитудный характер славянского заселения в древнейшее время в этом районе" [ib., S. 92]. И в целом в книге Шютца ярко сформулирован призыв ко всей славистике выполнить свой долг по отношению к этим «языковым "крохам" майнско-венедской ономастики меровингской эпохи» [Schütz 1994, S. 175], значение которых явно выходит за рамки интересов местных историков и краеведов восточной (Верхней) Франконии и которые до поры до времени не привлекали того внимания, которого они заслуживают в общеславянском плане. С равным правом указывает Шютц и на недостаток внимания со стороны славянской филологии к самому раннему западноевропейскому источнику проблемы - хронике Фредегара, повествующей о событиях начала VII в. в исследуемом регионе. Присовокупляя к этому также другие источники, а главное - лингвистическую реконструкцию, которая уводит в дописьменную древность, мы начинаем лучше понимать, что перед нами - языковая периферия со своими неповторимыми, своеобразными чертами и собственным отношением к остальному (исходному) славянскому ареалу.
Возможность высказать свое понимание проблемы и свою интерпретацию ряда позиций из числа собранного Шютцем материала побудила меня откликнуться на этот общеславистический призыв немецкого коллеги. Начну с восполнения явных дезидерат, отсутствие которых в труде Шютца очевидно. Это в первую очередь - возможно полный алфавитный индекс условно праславянских реконструкций ономастических остатков языка местных венедов-славян, со временем растворившихся в немецком населении восточных районов Франкской империи, исторической Аустрии или Аустразии. В книге Шютца содержатся алфавитные указатели соответствующих старых и новых немецких форм топонимов и гидронимов [S. 191-200], что лишь повышает потребность собственно славянского индекса, который мы и приводим ниже (с некоторыми, здесь не оговариваемыми, отклонениями в деталях от авторской реконструкции):
|
*borica *borovišče *brěziny *brъvica |
*bъzьnica *bьrlica *črětьcь *čьmelь |
*čьrnedь *čьrnidlo *čьrnъ *dobica |
392
![]()
|
*dobra *dobrina *dobrotinъ *dobr- *dobrъ *dobьna *dolica *dorěža? *dorica *dragomyslъ *drebica *drěvesa *droga *drožьn- *družina *dymica *galaz-? (xalaz-?) *gnojica *godica *godomyslъ *godьci *godьcь *godьn- *golišče *gonicě *grabъ *gužь *gybica *xlěvъ *xvoja *iz-gari *iz-žari *jamica *kamenicě *klenьcь *klětьca *kľučь *klody *kopanь *koryto *kridlica *krivica *kruzi *krynica |
*kurъ *kyslica *laziny *lěsъ *lěvica *ľuboradjь *ľužьnica/lužьnica *lomišče *lovьči lovъ *lub- *lubina *med- *močidlo *močьn- *mъdьl- *nil- *niziny *nyrišče *obьcina *obžari *obžarišče *olьšica *olьšьnica *osěkъ *oslupi *ǫž- *pasěka *plesъ *po(d)myslъ *podolja vьsь *polica *poľanica *poltьno (paltena) *poostrožьje *porěčьje *požarišče *požog- *prěčьnъ *prěkosъ *prěmyslъ *prěsěkъ *pridrožьje *pustyrь *rěčica |
*rьdrica *sedlišče *sědьbišče *sikora *slama *slatina *slop- *smoljanica *snъvьcь *sny/*snъve *stopa *stъrm- *strmica *stьržišče *sъpišče *sъžarišče *ščapьcь *ščavьcь *ščebina *ščeglica *ščurъka *tisъ *topidlišče *topina *trěbenь *ulica *vališče *velimyslъ *velьpodь *voldpodь *vonьcь *vysěk- *vьlčьnica *vьrba *vьrbьnьc- *zelenica *xvěrinьcь *želb- *ži(d)lišče *žirъk- *žirьn- *živulica *žiža *žьlčь |
393
![]()
Следующее desideratum, которое я счел нужным выполнить, это составление также отсутствующей в книге Шютца карты примерного распространения и взаиморасположения перечисленных почти полутора сотен названий (см. выше). Географическая проекция майнсковенедских ономастических следов достаточно красноречива и показывает их самостоятельную позицию не только в отношении чешского языкового ареала и пограничного горно-лесного массива Чешского леса, который стал "чешским" уже в относительно более позднее время, но и в отношении соседящего на севере и северо-востоке ареала продвижения серболужицких славян, которым обычно приписывается значительная роль в освоении этих центральногерманских пространств, ср. [1]. Эти примыкающие инославянские зоны экспансии никак не обозначены на нашей схематичной карте, что отнюдь не означает недооценку с нашей стороны западнославянских влияний и проникновений на верхнем Майне. Достаточно сказать, что отмеченная выше "условность" реконструкции майнсковенедских форм, в которой мы в основном следуем книге Шютца, выражается по большей части в преобладании послеметатезного состояния сочетаний с плавными, в том числе - однозначно лехитского вида (*brěziny, *črětъcъ, *dragomyslъ, *drěvesa, *droga, *drožьn-, *klody, *prěčьnъ, *prěkosъ, *prěmyslъ, *prěsěkъ, *pridrožьje, * slama, *slatina, *trěbenь). Но, как в отношении многих других явлений, так и в отношении славянской метатезы плавных, преобладающий цифровой итог вполне может оказаться вторичным продуктом, и дометатезные состояния хорошо известны на периферии лехитского языкового ареала. Тот же Фредегар сохранил нам такой древний пример, как имя вождя племени сербов - дометатезное Dervanus dux gente Surbiorum [Fred. Chron. IV, 68 (21)], собственно, апеллатив '(полабский) древлянин, дравен'. Вполне допустимо считать, что волна метатезных инноваций пришла к майнским венедам вторично извне и что собственную майнсковенедскую древность логичнее ассоциировать с немногими, но действительно древними примерами "до метатезы плавных", говоря упрощенно. Сюда относятся: *zělb- на крайнем северо-востоке (см. карту), немецкая форма гидронима - Selb, которую Шютц не решается соотнести с известным славянским названием жолоба - ст. чеш. žleb, н.-луж. źłob как раз по причине отсутствия метатезы плавных в майнсковенедском примере: "ожидалось бы *žlěb-" [Schütz 1994, S. 144]. Вместе с этим нашего автора не удивляет чисто дометатезное состояние одного несомненно майнсковенедского примера в поземельной описи XII в. (так называемый "Banzer Reichsurbar") лесного района Банц на верхнем Майне. Речь там о подати, взимаемой "платьями из шерсти", причем последнее глоссируется туземным словом paltena, очевидный славянский плюраль от славянского же *poltьno-*poltьna. Это позволяет датировать заимствование слова из местного славянского в древневерхненемецкий первой половиной VII в.; в соседних западнославянских
394
![]()
формах этого названия полотна история застала уже метатезированное состояние: н.-луж. płotno, чеш. plátno [Schütz 1994, S. 89-90]. Но самый замечательный и весомый пример дометатезного состояния зафиксирован в слове, которое одновременно может считаться драгоценным вкладом скудных остатков майнсковенедского языка в общеславянский словарный состав, - это местный праславянский лексический диалектизм *voldpodь, которым мы еще займемся ниже и который реконструируется на основе обозначения туземной знати, приравненной к имперскому комесу ("графу"). Это, во-первых, waltpoto по имени Immo, участник (testis 'свидетель') Бамбергского синода 1059 г.; во-вторых, этот сан четко обозначен как "туземный, народный" в королевской грамоте относительно позднего времени (1139): ...quisquam..., qui vulgo waltpodo vocatur (см. [Schütz 1994, S. 161-162], там же совершенно справедливо отведена попытка немецкого историка истолковать этот несомненно знатный туземный сан как нем. Gewaltbote - что-то вроде 'судебного исполнителя'!).
Дальнейшая историкофонетическая характеристика майнсковенедских реликтов выглядит в общих чертах следующим образом. Следов носовых гласных в записях франкской имперской канцелярии почти не сохранилось, ср. *krug-, мн. *kruzi (нем. Creussen), если из праслав. *krǫgъ [Schütz 1994, S. 131]; *guž- (нем. стар. Gusibah in Sclavis, 810-832 гг.), если из *gǫž- [Schütz 1994, S. 158]; но ср. сохраненное *ǫž- (нем. стар. Bunselesdorf, ок. 800 г. [ib., S. 159]). Что касается чистых гласных, их фиксация в условиях местного славянско-немецкого двуязычия немецкой канцелярией, о которой Шютц отзывается похвально, допускала, видимо, двусмысленные решения, напр. нем. топоним Schlömen как отражение слав. *slama/*sloma или *slemę/mene [Schütz 1994, S. 120], чем приходится существенно оговорить однозначно лехитские (см. выше) или иные славянские сближения.
Чешско-словацко-верхнелужицкого перехода g > h язык майнских венедов, по-видимому, не знал. Об этом свидетельствует, с одной стороны, надежное наличие примеров на g в начале и внутри слов (*dragomyslъ, *droga, *grojica, и др., см. список выше), а с другой стороны - абсолютная ненадежность и изолированность авторского прочтения немецкого топонима Hallstadt, стар. Halazestat, 741 г., как майнсковенедского *gălāz-/*gălěz- 'freies, offenes Fischwehr' [Schütz 1994, S. 155], чем и вызвано у нас, выше, допущение вариантной реконструкции *xalaz-? Проблема сохранения и отражения сочетания согласных dl при ближайшем рассмотрении выглядит не столь однозначно, как это видится немецкому исследователю, который уверенно заключает о названиях типа *sedlišče на основе нем. Zettlitz: "Названия на dl имеют типичную западнославянскую фонетическую форму" [Schütz 1994, S. 117]. В самом деле наличие dl как праславянский периферийный
395
![]()
архаизм можно констатировать в случаях *kridlica [Schütz 1994, S. 84]: *krydlica, при нем. Creidlitz, *čьrnidlo (нем. Schirnaidl), *močidlo (нем. Motschiedel), *topidliišče (нем. Toupetlilz). Но есть вещи, также имеющие сюда отношение, хотя и менее заметные в силу своей региональности, чем объясняется то, что слависты мимо них обычно проходят. В книге Шютца дважды представлено майнсковенедское, славянское *žilišče, реконструированное один раз на основе нем. Zeilitzheim, другой раз - нем. Seylitz [Schütz 1994, S. 104, 118]. В правдоподобности реконструкции майнсковенедского *žilišče (у нас на карте оба случая локализуются между Швайнфуртом и Бамбергом, неподалеку от реки Майн) вряд ли нужно сомневаться. Наша поправка выражается в уточнении праславянской формы - не *žilišče? a *židlišče, как о том свидетельствует польск. стар. żydło ср. р. 'жизнь' [2, t. 8, s. 732], а также, до известной степени, консонантная репродукция в укр. житло 'жильё', на что было уже давно обращено внимание [3]. Кажется, это ослабляет западнославянский тезис Шютца (выше) или, во всяком случае, позволяет нащупать диалектную сложность языка майнских венедов, допускающую не только западнославянские ассоциации. Существенно поэтому то, как в майнсковенедском языковом пространстве манифестируется известнейшая изоглосса iz- (jьz-) ~ vy-, довольно четко разделяющая в огромном большинстве случаев славянский юг (iz-) и славянский запад (vy-). Так, на примере *vyšek- (нем. Weyssig) в книге Шютца делается важный вывод, что по изоглоссе iz-/vy- майнсковенедский имеет западнославянский характер [Schütz 1994, S. 104]. Однако при этом автор забывает о наличии в собственном же материале двух случаев с префиксом iz-: *iz-žari (нем. Isaar, Iser) и *iz-gari (нем. Issigau, стар. Ysgir) [Schütz 1994, S. 84]. Известно, что этимологические случаи *iz-žar- (точнее *jьz-žar-) и *iz-gar- (*jьz-gar-) получают в западнославянском иную фонетическую трактовку, ср. чеш. Žďár [4, s. 139; 5, вып. 9, с. 103]. А также отличие сербохорв. izgár от кашубскословинского zgara [5, вып. 9, с. 27]. В нашем случае с *iz-gar- и *iz-zar- оба примера, находясь на крайнем северо-востоке майнсковенедского языкового пространства (см. карту), то есть на аванпостах древней серболужицкой зоны экспансии, ведут себя как южнославянские рефлексы. Кстати сказать, выдающуюся древность майнсковенедских реликтов способна показать относительная хронология соответствующих немецко-славянских языковых контактов, конкретно - один поучительный случай, специально разбираемый Шютцем [Schütz 1994, S. 93], причем не только в этой книге. Этим случаем уместно завершить наши наблюдения по исторической фонетике майнсковенедского. Современный немецкий топоним Herreth, особенно стар. Horwida (в междуречье реки Итц и верхнего течения Майна, см. нашу карту) Шютц расшифровывает как майнсковенедское (слав.) *koryto, замечательное архаизмом отражения слав. k >
396
![]()
нем. kh, h (древневерхненемецкое передвижение согласных) и фиксацией дифтонгического характера слав. у = wi (ui).
В отношении словообразования, которое, как всегда, трудно отграничить от лексики (см. о ней ниже у нас), замечательно присутствие в майнсковенедских реликтах нерасширенной формы *med-, в составе немецкого топонима Med-bach [Schütz 1994, S. 58]. Шютц в принципе правильно связал этот случай со слав. *med-ja 'межа, граница' (на нашей карте это один из самых южных майнсковенедских топонимов). Однако, если быть точным, следует обратить внимание на специальную близость майнсковенедского *med- форме предлога med 'между' в западной части южнославянских языков (словенский, кайкавский, диалектно-сербохорватский), в то время как в остальных славянских распространено расширенное *medju, *medje-, ср. [6]. В функциональном отношении случай Medbach, кажется, наиболее близок словенскому топониму Medvode (объясняемому из *medvodjane, см. [7], правда, последний автор не уловил архаической сущности формы med-). Еще один пример нерасширенной архаичной формы: в майнсковенедских остатках встречается (в связанном виде) один случай velь- и нет совсем суффиксального velikъ. Речь идет, кстати, о лексическом уникуме *velьpodь/*velьpotъ, выделяемом на базе нем. Wölbattendorf [Schütz 1994, S. 167], ср. второй компонент майнсковенедского *vold-podь и слав. *gospodь, а также первый компонент *velьmoža (см. северо-восточный сектор нашей карты).
Знакомство с майнсковенедской лексикой, получившей косвенное отражение в ономастических реликтах майнсковенедского, поучительно и на фоне собственного опыта по составлению Этимологического словаря славянских языков. Так, случай *bъrlica ([Schütz 1994, S. 111-112], на базе нем. Wurlitz, стар. Borlitz, северо-восточный сектор нашей карты) Шютц предпочитает прямо сравнивать с лит. burlas 'грязь' (о балтийских и особо понимаемых венедских предпочтениях Шютца я рассчитываю сказать далее). Правильнее было бы, по-видимому, говорить о форме слав. *bьrloga/ъ; *bьrlica, между прочим, засвидетельствована в славянской ономастике Германии, ср. Berlitz-, Börlitz, Prölitzsch, отмеченные в книге Удольфа [8], не попавшей на этот раз в поле зрения нашего автора.
Даже тот скудный лексический материал, который дошел до нас непрямым, не всегда очевидным образом, дает иногда возможность говорить о наличии лексикосемантических изоглосс внутри майнсковенедской области. Так, Шютц обратил внимание на тот факт, что в номенклатуре, первоначально связанной, вероятно, с обозначением хороших сельскохозяйственных угодий, производные с корнем *god- на запад от реки Регниц не встречаются (там выступают производные от *dobr-), место последних - в восточной части региона: *godica (нем. Goditz, Koditz), *godьn- (нем. Ködnitz), *godьci, см. [Schütz 1994, S. 127 и след.]. Именно эти
397
![]()
последние он считает более инновационными, сравнительно с гнездом *dob(r)-, хотя речь идет о достаточно архаичных производных, к сожалению, не отмеченных или слабо отмеченных в нашем ЭССЯ.
Несмотря на то что Шютц очень внимателен ко всем проявлениям "переклички" между майнсковенедской и восточнославянской (русской, северновеликорусской) топонимическими зонами, с полным основанием рассматривая ту и другую как языковые периферии и поэтому - хранилища архаизмов (см. специально [Schütz 1994, S. 113]), вполне возможно, что и в этом отношении выявлено далеко не все. Так, проблематичная славянская реконструкция *dorěža (у нас в списке со знаком вопроса, см. также на карте к северу от Майна) на базе темной немецкой формы Theres, стар. Tharissa (986 г., [Schütz 1994, S. 136]), по автору - из *do-rěža (?!), якобы сложения, ср. русск. реж 'решетина', вызывает у нас в памяти, скорее, др.русск. деряждье ср. р. 'завал из хвороста, кустарника (?)' (Ипат. Лет. Под 1251 г. [9, вып. 4, с. 213]).
Одной из замечательных локальных особенностей репертуара майнсковенедских лексем, пока не обнаружившей соответствий ни в западной Славии, ни где-либо еще, кроме восточнославянского, оказывается генетически речное название архаического вида (основа на -ū-) с индоевропейским корнем *sny/*snьve (нем. Schney, стар. Znuwia, Cenewe, Cenewa, XI в., на правопобережье верхнего Майна, см. карту). Шютц точно определил "величайший славистический интерес", представляемый этим гидронимом, в том числе - по причине несохранения исходного апеллатива - от и.-е. *sneu̯- 'плыть, течь'. Столь же бесспорна идентификация Шютцем майнсковенедского *Sny/*snъvь и восточнославянского Снов(ь) в бассейне Десны, точно проэтимологизированного в свое время Розвадовским в упомянутом выше индоевропейском смысле [10, s. 197 и сл.]. Однако знаменитому ученому тогда еще не был известен другой случай *sny/*snъve - на западной периферии славянства. Можно понять Шютца, когда он элегически восклицает: "Если бы Розвадовский знал франконскую Schney в ее письменных вариантах!..." [Schütz 1994, S. 76]. Любопытно, что в самых верховьях Майна (см. карту) находится еще производное от того же корня *snъvьcь (нем. Schnebes) [Schütz 1994, S. 119].
К сожалению, Шютц никак не комментирует кратко упоминаемое им водное название Plez в записи конца XVI - начала XVII века [Schütz 1994, S. 139], у нас в списке - в форме *plesъ. Гидрографический термин и гидроним слав. *plesъ, *pleso представлен у славян довольно широко, но с характерными лакунами: во всех восточнославянских языках, из западнославянских прежде всего - в чешском и словацком, причем особенно в качестве названия озера, что позволяет вернуться к вопросу о паннонско-славянской природе античного названия Балатона - lacus Pelso(nis), см. [11, с. 128 и след.]; в верхнелужицком слово неизвестно [12, S. 1106], известен старый пример
398
![]()
из нижнелужицкого, несколько польских диалектных свидетельств, либо тяготеющих к карпатскому ареалу, либо сомнительных, см. подробнее [8, S. 381 и след.]. Можно думать, что в случае с *plesъ майнсковенедский тяготел скорее к паннонскославянскому.
Не столь ярко, но все же проявилось, кажется, тяготение майнсковенедского к наиболее древней форме славянского названия дерева 'граб Carpinus betulus' и соответственно - к срединным частям славянского языкового ареала. Здесь майнсковенедский, как явствует из отраженного названием старинного округа Grabfeld(gau) VIII-IX вв. между Фульдой, средним Майном и верхним течением Верры (северный сектор нашей карты, см. также [Schütz 1994, S. 105], с указанием тождества Grabfeld = герм.-лат. Buchonia = слав. grab), оказывается в одной группе с другими славянскими языками, сохранившими наиболее архаичное слав. *grabъ. С востока, на чешской территории, рано установилась инновационная форма harb, Harb [4, s. 111], аналогичная форма, что интересно, отмечается на крайнем западе старой серболужицкой экспансии - Gabritz в районе Иены [13], при преобладании на собственно серболужицкой и польской территории формы *grabъ. Интересное в лингвогеографическом отношении славянское название этого дерева особенно богато вариантами на славянском Юге, где представлены *grabъ, *grabrъ и *gabrъ, причем как центр югославянской территории, так и центр Паннонии характеризуются топонимией с корнем *grab- [14].
Тесное и постоянное общение с лесом майнских венедов в этой, очевидно, лесной, особенно тринадцать столетий назад, зоне проявляется многократно даже в не очень многочисленной майнсковенедской ономастике. Это и *lěsъ [Schütz 1994, S. 130] и - примерно в том же значении общего термина - *krǫgъ, откуда немецкий топоним Creußen [Schütz 1994, S. 131]. Сохранился и след от плюраля *drěvesa от *drěvo (нем. Trevesen, ib., S. 132). На вопрос о важности лесосеки для хозяйственной деятельности майнских венедов возможен уверенный утвердительный ответ, основанный на богатстве сложений глагольного корня sěk- с приставками, ср. в нашем списке *osěkъ (нем. Ossich), близкое, очевидно, скорее не сербо-хорв. Osijek, по Фасмеру - 'крутой обрыв' в соответствии с эпирским (иллирийским) μουρσα 'яма' [15], а др.-русск. осѣкъ 'завал, засека; изгородь' [9, вып. 13, с. 83]; далее, сюда майнсковенед. *pasěka, *prěsěkъ, *vysěk-. Ту же реальную семантику выражают отчасти уже обсужденные нами майнсковенедские образования *izgari, *izžari, *obžari, *obžarišče, *požarišče, *požog- (реконструкция Щютца), *sъžarišče, *trěbenь (см. наш список, выше). Историку культуры эти названия говорят яснее, чем письменные документы, что местное славянское население - это не кочевая орда, живущая случайной добычей и охотой (хотя есть и ономастические свидетельства об охоте майнских венедов - *lovьči lovъ нашего списка - топоним Luzelowa, nemus Lovecilowe, 1195 г. - [Schütz 1994, S. 89-90], а земледельцы, ведущие обычное
399
![]()
для эпохи экстенсивное, подсечно-огневое земледелие. Их весьма раннюю оседлость справедливо подчеркивает и Шютц, в противном случае мы просто не сможем понять наличие майнсковенедских терминов *xlěvъ, вероятно, 'жилая землянка', также 'хлев для скотины' (нем. Kleb-hof в округе Бамберга) и *klětьca 'легкая постройка' (нем. Kleetz-höfe в северо-восточной Баварии, и то, и другое - [Schütz 1994, S. 65, 67], а также на нашей карте). Мы не уполномочены, наверное, судить о наличии у майнских венедов "городов"; но постоянные поселения, села у них объективно трудно отрицать. Так, аргументом для реконструкции майнсковенедского *vьsь 'село, селение' Шютцу служит его прочтение *podilja vьsь на базе нем. стар. Botolfes-stat, 788 г. [Schütz 1994, S. 80-81], причем ему приходится полемизировать с Э. Шварцем, считавшем, что слав. *vьsь 'Dorf' для майнсковенедского не свойственно. Социально-исторически весома реконструкций майнсковенедского *obьcina, видимо, что-то вроде '(сельской) общины', предпринимаемая на основе немецкого топонима becen-dorf [Schütz 1994, S. 91]. Этими общинниками, которые вырубали леса для получения хороших земель под пашню (*dob-, god- и производные, см. выше), занимались ремеслами, во всяком случае достоверно платили подати кусками и изделиями из полотна и шерсти (*poltьno, выше), причем мерили свои и привозные изделия какой-то, видимо, привычной для себя, как и для других, впрочем, славян, 'стопой', ср. ostar-stuopha, "secundum illorum lingua", то есть "на их языке" (очевидно негерманское название "восточной меры", как понимает это Шютц [Schütz 1994, S. 46], который решительно выступает против упрощенного немецкого чтения "Osterstufe" этого места в современном документе, но и явно славянского чтения *stopa, у нас - в списке, не дает и не соотносит этого понятия с аналогами у других славян, см. о них [16; 17; 18]), - этими славянскими общинниками, судя по всему, правили "лучшие люди" племени, обозначавшиеся весьма самобытными терминами, уже кратко названными выше: *velьpodь и *voldpodь. Их самобытность и относительно высокий социальный статус очевидны и практически не требуют специального обоснования. В случае с первым термином к социальной терминологии, в сущности, принадлежат оба компонента сложения - *potъ, представленное еще в особом *potъ-běga, о разведенной жене, и vel- в другом названии знатного человека - *velьmoža, см. еще о них [19]. То же самое, в общем, можно сказать и о компонентах термина *vold-podь, ценного как еще одна встречаемость реликтового корня *potь в славянском ([Schütz 1994, S. 163]: "...название сана, впервые встречающееся как узко региональный случай именно на верхнем Майне..."), пока что не ставшая достоянием словарей и грамматик, что лишний раз подчеркивает заслугу Шютца и правильность в данном случае его этимологической атрибуции *vold-podь к ст.-слав. господь, лит. vieš-pats 'господин, господь' и слав. *volděti, лит. valdýti 'владеть' ([Schütz 1994, S. 165, 166]: семантическое
400
![]()
сближение *vold-podь и др.-в.-нем. *walt-hêrro 'владетельный господин').
Но в интересах верного суждения о самобытности прежде всего *voldpodь как социального термина полезно задуматься, так сказать, о политической ситуации тех далеких времен. Не поднявшиеся до собственной государственности, майнские венеды, лесные и сельские жители, хотя и вынужденные волей судьбы сосуществовать с франкскими меровингами и еще более грозными каролингами, в силу сознаваемого различия социальных стадий просто не могли перенести на себя, в свою племенную практику, франкскую терминологию, обозначавшую владетельных господ и государей. Вот еще одна причина (более важная, чем пресловутая скудость майнсковенедских реликтов!) - причина того, что майнские венеды не знали германизмов *kor(o)lь и *kъnęzь, распространившихся со временем у всех славян, а употребляли применительно к собственному быту "доморощенное" *voldpodь. Последнее составилось из исконно славянских корней и, как кажется, было ориентировано на связи не с западными славянами, а с ближайшими из южных, или, точнее сказать для той эпохи, паннонских и дунайских славян. Все это дает нам повод для того, чтобы вспомнить одно место из хроники Фредегара, на которое, кстати сказать, давно обратила внимание старая славистика. Речь идет о других местах и событиях того же далекого VII в. - область Marca Vinedorum, на сей раз венедов не майнских, а паннонских, собственно словенцев, как предположил Миккола, вычленивший в фредегаровском контексте cum Wallucum, ducem Winedorum глоссу Walluco=dux, то есть, по мнению Микколы, древнесловенское, паннонскославянское название вождя, владыки [20], а по нашему мнению - очень архаическое (не только до метатезы плавных, но и до изменения ū > y [21]) название, действительно приуроченное к Паннонии [22, т. 1, с. 327]. Слово *voldyka имеет небезынтересную географию: ст.-слав. владыка δεσπὁτης, ἡγεμών (Супр.), у восточных славян распространена эта книжная, церковная форма, народная форма отсутствует, из южных славянских ср. еще серб, владика, далее - чеш. vládyka. У остальных западных славян, кроме польск. włodyka, деградировавшего в социальном отношении [16, s. 625], слово, по сути, неизвестно. Паннонскославянские связи должны быть акцентированы, в частности и для майнсковенед. *vold-podь : паннонскославян. *voldyka.
Мимо паннонскославянской ориентации не может пройти и Шютц, когда он характеризует хороним Sclavania в Бамбергском кодексе, служащий для обозначения славянских территорий, подвластных Восточнофранкскому королевству, причем, если вариант Sclavinia (Мюнхенский кодекс) отражает византийскогреческую огласовку Σκλαβην-, форма Sclavania отражает паннонскославянский узус, ср. чеш. Slovany мн. 'земля славян', Slované мн. 'славяне' и др.в.-нем. Sklăvān- как отражение подобной формы [Schütz 1994,
401
![]()
S. 170-171]. Процитирую и заключение Шютца (там же): "Однако здесь имеются в виду явно, а не только внешне... в особенности паннонские славяне". Что касается еще одного - внутреннего - смысла Sclavania как обозначения всякий раз порубежных славян, то он не составляет никакого секрета и обсуждался нами неоднократно на примере разных случаев *slověne.
Таким образом, если для историка больше интереса представит, возможно, социально-экономический портрет майнсковенедского общества, извлекаемый из ономастики и преломленной в ней лексической семантики, то для языкознания (а в конечном счете - и для Истории, как хотелось бы верить) наиболее актуальна картина реконструкции лингвистической географии и изоглоссных связей, их возможный суммарный однозначный итог. В целях объективности этого последнего напомним ряд предшествующих наблюдений.
Группа рассмотренных выше майнсковенедских топонимов, гидронимов и антропонимов обнаруживает черты самобытности, в том числе периферийные архаизмы в виде ряда примеров "дометатезного" состояния сочетаний с плавными, сохранения взрывного g и изначальных групп dl, а также (что особенно характерно) ряд "незападнославянских" языковых особенностей: случаи перехода dl > l (*žilišče 2х), префикса iz- (2х), нерасширенного префикса med-, незападнославянского гидронима *sny/*snъve, преимущественно центральнославянские формы *plesъ, grabъ и совершенно уникальные социальные термины *velьpodь и *vold-podь, второй из которых также имеет не западнославянские, а паннонскославянские связи.
Истории в самом общем смысле слова это может касаться постольку, поскольку становится все же вероятным, что в долины рек с "древнеевропейскими" названиями Moenus (Main) и Radantia (нем. Regnitz, Rednitz) будущие майнские венеды пришли с юга и юго-востока, из придунайских стран.
На этом наши наблюдения над майнсковенедскими остатками языка не кончаются, поскольку накопился также некоторый материал для отдельных этюдов, в том числе показывающих значение майнсковенедского для решения общеславистических проблем.
*MYSLЪ '[МУЖ] МУДРО СЛЕДЯЩИЙ'
В.Н. Топоров более тридцати лет назад на основе сочетания внутренних и внешних аргументов практически доказал родство слав. *myslь 'mens, cogitatio' и и.-е. *men- с тем же значением; его итогом явилась реконструкция суффиксального отглагольного производного *monslĭ, ср. лит. maşlus 'вдумчивый, мыслящий, понятливый', и общее резюме: "Нужно думать, что на этом этапе анализа данные, которые можно извлечь из славянского материала, следует считать исчерпанными" [23]. Такое положение, действительно, сохранялось,
402
![]()
пока нам не оставалось ничего другого, кроме как констатировать странную настойчивость повтора - myslъ в славянских именах мужчин Dobromyslъ, Miromyslъ, Prěmyslъ и т.д. Положение, кажется, несколько изменилось с вводом в научный оборот майнсковенедских данных, причем имело место не столько количественное изменение, что вряд ли привнесло бы в исследование что-то существенно новое, кроме некоторого числа новых или подтверждения старых примеров: майнсковенед. *dobromyslъ, *drogomyslъ, *godomyslъ, *po(d)myslъ, *velimyslъ, *primyslъ (см. [Schütz 1994, S. 152] и наш список). Наметилась возможность некоторых качественных изменений в подходе к этому материалу, и эту новую возможность - что ценно - подсказывают контексты и контекстные варианты, наличествующие в книге Шютца либо им самим отчасти удачно реконструируемые (неоправданных сомнений Шютца в связи личных имен на -myslъ с семантикой 'mens, cogitatio' здесь не касаемся, потому что отклоняем их, как и его неверную попытку проэтимологизировать domyslъ, promyslъ отдельно от myslъ). К числу авторских удач, напротив, относим сопоставление Dragomyslъ (mola Dragamuzilas, в районе Нюрнберга, после 800 г.) с др.-в.-нем. *sintman, sinthêrre 'mit Wegeaufgaben Vertrauter', говоря буквальнее - 'дорожный муж'; весьма перспективна и комбинаторика, подсказываемая авторским соотнесением паннонскославянского Dragamosus (810) с проведенным словенским ǫ > о, то есть *drago-mǫžь, с вышеназванным * dragomyslъ [Schütz 1994, S. 152]. Замечательна в этом же смысле вариация, оставленная, правда, Шютцем в тексте без комментария [Schütz 1994, S. 149], которая позволяет попросту наблюдать, как более древнее название Godemuzelsdorf (Ансбах, ХII в.) позднее сменяется как бы глоссирующим его немецким Gottmannsdorf. При всей скудости данных, напрашивается догадка о существовании (и значении) майнсковенедского апеллятива *myslъ 'муж, мужчина', что соответственно было понято и переводилось франконскими немцами с помощью 'Mann'. Этому как будто не противоречит этнографическая информация из северо-восточной Баварии, то есть с территории майнской Склавании, о дожившем почти до современности обычае пляски ряженых мальчиков под рождество, причем сохранилось и название этого - Pommwizel Tanz [Schütz 1994, S. 149]. Шютц не очень убедительно толкует реконструируемое при этом pod-myslъ как сложение с pod- 'Grund', видя здесь обозначение какого-то земельного специалиста или надзирателя (?), тогда как, не насилуя этнографический контекст (пляска ряженых мальчиков, выше), уместно предположить лишь что-то вроде *pod-myslъ = "под-муж". Здесь коренится какая-то нейтрализация "ментальной" номинации мужчины и мужской природы обозначения самой этой ментальности. Немногие, но откровенные контексты употребления майнсковенедского *myslъ 'муж, мужчина', похоже, помогают это понять применительно к общеславянским масштабам проблемы, не особенно
403
![]()
вдаваясь здесь в детали (словосложение, даже первоначально, возможно, словосочетание *mon-, см. выше, и глагола движения *sl-/*s(ъ)l- (или его каузатива)? Не слогораздел, а словораздел *mon-sl-, что упростило бы вопрос трактовки конечного on > y, ср. аналогию действительных причастий?). Решение этимологии *myslъ 'муж' как атрибутивного двучлена можно опереть на другие индоевропейские обозначения 'мужа' как 'разумного' в чистом виде ср. и.-е. manu- (примеры известны), так и еще одного двучлена, каковым следует, видимо, считать слав. *mǫžь, если оно из сложения *mon g(u̯)i- 'разумно ходящий', вместо обычно приписываемой последнему суффиксальной версии, не очень убедительной ни в фонетическом, ни в морфологическом ее варианте. Имеется в виду - в первом случае - мало свойственное славянскому фонетическое развитие группы -nu̯ > ngu̯-, предполагаемое Вайяном [24], и во втором случае - происхождение слав. *mǫžь от и.-е. manu- 'мужчина, человек' в соединении с суффиксом -g-i̯o- или -gi̯u̯- [5, вып. 20, с. 160]. Натянутость последнего толкования (неясность функции и проблематичность самого суффикса -g-) неплохо контролируется случаем с лит. žmogus, попытка разложить который на žmo-g-us, якобы с -g-суффиксальным [25], столь же неудовлетворительна и бесперспективна, тогда как этимология из žmo-gu-s 'по земле ходящий', ср. [26, Bd. II, S. 1318-1319], превосходно решающая проблему всего слова и поддерживаемая другими свежими аналогиями на и.-е. *gus из области атрибутивов-эпитетов мужчины-человека (напр. лит. manda-gus 'вежливый, учтивый, милый', ср., возможно, сюда др.-инд. manda-ga- 'медленно передвигающийся'?), позволяет вновь вернуться к концепции *mǫžь как двучлена и аналогичной проблеме *myslъ/ь. Возвращаясь к корню *men/*mon-, мы не можем не видеть, сколь основательно он задействован в обозначениях мужчины и мужских признаков, ср. этимологию слав. *mǫdo 'testiculus' < *men- 'думать' [5, вып. 20, с. 125]. Архаический синкретизм 'мыслящего' и 'мужского' начал позволяет несколько по-новому взглянуть на иерархию форм, на их тесную, вплоть до неразличения, связь. Скажем, морфологически мужской вариант *myslъ, куда принадлежат (помимо майнсковенедского *myslъ, выше) ст.-польск. Mysł, личное имя собственное (1265), русск. диал. мысел, род. п. -сла, м.р. 'нрав, норов', мысл то же, скорее морфологически (и типологически) первичен по отношению к -i-основе слав. *myslь, которое логично понимать как эманацию некоего обозначаемого словом *myslъ (иначе, традиционно см. [5, вып. 21, с. 49]). Очень любопытно своеобразное нагнетание мужской этимологической семантики, наблюдаемое в псковском диалектном речении ни по нраву, ни по мыслу (цит. по [5, вып. 21, с. 49]), если при этом учесть, помимо того, что уже сказано выше о *myslъ < *monsl- как мужском атрибутиве, еще и то, что относится к этимологии народного здесь, несмотря на формулу TRAT, продолжения праслав. *norvъ, генетически мужского обозначения
404
![]()
норова, характера, как о том говорят древние связи с названием мужа, мужчины - др.-инд. nar-, авест. nar-, греч. ανήρ. Исследователи (Топоров, Варбот [5, вып. 21, s. v.] и др.) приводят в качестве неславянского соответствия слова *myslъ 'mens, cogitatio' литовское mąslùs 'вдумчивый, мыслящий'. Иерархической точности ради следует заметить, что это единственное практически полное и.-е. соответствие прежде всего для славянской основы не на -i- *myslъ 'mens virilis' - 'vir venator'. Собственно основа на -i- *myslь будет тогда уже славянской инновацией. Говоря об охотничьих коннотациях славянского названия мужа - *myslъ, естественно вспомнить о прилагательном *myslivъjь, которое, по крайней мере в двух славянских языках (ст.-чеш., польск.), выражает значение 'охотничий, охотник' [5, вып. 21, с. 46]. Конечно, можно попытаться свести все к первоначальному 'способный думать, умный', что обычно и делается, ср. формальную отглагольную производность с суффиксом -iv- от глагола на -iti *mysliti. Но секрет значения производных порой в том, что формально вторичные, они способны хранить первичную семантику.
BEFULCI (FRED. CHRON. IV, 48) = МАЙНСКОВЕНЕДСКОЕ *BE(Z)PЪLКЪ
Это слово в означенном месте Хроники Фредегара имеет репутацию "непонятного". Такую его репутацию не могли развеять ни старинная адидеация befulci и dublicem (= duplicem 'двояко') в фредегаровской латыни, восходящая еще к Фредегару, ни новейшая германская этимология befulci как прилагательного от глагола др.-в.нем. bifelhan, нем. befehlen 'повелевать, препоручать' ([27]; прочие приводимые автором разноголосые тблкования - то ли от слав. *byvilici 'погонщики буйволов', то ли к нем. Beivolk 'вспомогательный контингент (?)' - обсуждать здесь не будем). В согласии со своей этимологией цитируемый нами немецкий исследователь понимает герм. (?) befulci как 'Schutzanbefohlene, подзащитные, подопечные'. Однако думается, что слово это было не германским, а туземным (франкской передачей туземного), а также, что его значение, реальный смысл были далеки от какой-либо "защиты" или "опеки" этого контингента, каким были венеды для аваров, поскольку контекст хроники повествует о весьма специфическом взаимодействии венедов и аваров в боевых условиях. Вот это место, удобно воспроизведенное в [Schütz 1994, S. 202]:
Winidi befulci Chunis fuerant iam ab antiquito, ut, cum Chuni in exercitu contra gentem qualibet adgrediebant, Chuni pro castra adunatum stabant exercitum, Winidi vero pugnabant: si ad vincendum prevalebant, tunc Chuni predas capiendum adgrediebant; sin autem Winidi superabantur, Chunorum auxilio fulti virebus resumebant. Idco befulci vocabantur a Chunis, eo quad dublicem in congressione certamine vestila priliae facientes, ante Chunis precederint.
В своем русском
405
![]()
переводе мы следуем за немецким переводом в [Schütz 1994, S. 203], воздержавшись лишь от авторской передачи befulci как 'Schutzanbefohlene':
Венеды были уже с давних времен для гуннов befulci, так что, когда гунны ополчались против какого-либо племени, они стояли сплоченным строем перед своим лагерем, венеды же сражались, (и) если они одолевали, тогда гунны выступали вперед, чтобы завладеть добычей; если же венедов одолевали, то они собирались с силами под прикрытием гуннов. Они потому звались befulci у гуннов, что выступали двояко, сражаясь перед гуннами.
Венеды, таким образом, играли роль нестроевых застрельщиков битвы, устремлявшихся на врага летучей толпой; все очень похоже на "скифскую" тактику боя древних славян, которыми венеды, собственно, и были. Об этом - чуть далее, а здесь важно лишь отметить, что ни о какой "защите" со стороны гуннов, под литературным именем коих скрываются, естественно, авары, текст Фредегара объективно не свидетельствует. Весь смысл - в противопоставлении нестройной толпы одних и стоящих "сплоченным строем" других. Именно за это первые названы были befulci, и, сняв в порядке реконструкции налет германизации в устах франка (p > f) мы имеем основание допустить славянский характер проблематичного имени - *be(z)pъlkъ/*be(z)pu̯lk-, прилагательное на базе предложного словосочетания *bez pъlka 'вне военного строя (аваров)'. Буквального подтверждения сочетания *bez pъlka в этом или близком значении в справочной литературе, правда, найти не удалось, ср. аналогии вроде русск.-цслав. вне полка ἔξω τῆς παρεμβολῆς, extra castra - 'вне боевого расположения' [Исх XIV, 19]; [28, т. 2, стлб. 1749].
Остается привести в некоторое соответствие этнические термины и суждения о них. Совершенно очевидно, что Фредегар не отличал славян от венедов. В его рассказе (там же, выше [Schütz 1994]) "человек по имени Само, родом франк" "отправился в страну славян по прозванию венедов" (in Sclavos coinomento Wienedos). Это так же недвусмысленно точно, как и аналогичное выражение (там же, далее) об аварах "по прозванию гуннах" (contra Avaris coinomento Chunis). И, вопреки тому, что Шютц не одобряет отождествления понятий Winidi и Sclavi у Фредегара [27, S. 50], тождество очевидно. Оно является полным и ниже, где Фредегар рассказывает о насилиях гуннов (аваров), чинимых в отношении славянских жен и дочерей, повторяя это же с заменой на венедских жен и дочерей. Перед нами литературные упражнения средневекового ученого, состоявшие, в обыкновении переносить на нынешних жителей имена более древних обитателей тех же мест: 'гунны' - 'авары', 'венеды' - 'славяне'. Необходимо согласиться с Фредегаром в том смысле, что раньше на восток от германцев простирались полосой с севера на юг особые племена венетов. Позднее сюда продвинулись славяне, на которых германцы по привычке перенесли имя прежних обитателей -
406
![]()
венетов, возможно, известных под этим названием еще Плинию и Тациту (I-II вв. н.э.). Считать, что и в VI - начале VII в. эти "поздние венеты" "еще не являются славянами" [27, S. 53], все же нет оснований. Преувеличением отдает и мнение, что «венеды эпохи Фредегара, по всей видимости, по "крови и языку" не являются славянами» [ib.]. Все, что мы знаем (в немалой степени - благодаря труду Шютца) о майнских венедах меровингской эпохи, то есть эпохи Фредегара, говорит нам о них как о славянах. Конечно, отметать все начисто, не разобравшись, не стоит. И в местном славянском материале могли бы сохраниться факты, изоглоссы, заслуживающие более тонкого наблюдения и выявления. Как например этот след особого привативного be- 'без, вне', не характерного для славянского, обобщившего форму *bez-. Поэтому у нас открывается возможность либо признать *be- 'без, вне' майнсковенедским эквивалентом общеслав. *bez и крупным местным праславянским лексическим (лексико-словообразовательным) диалектизмом и принять соответственно реконструкцию майнсковенедского be-pъlkъ, мн. *bepъlci, максимально приближенную к засвидетельствованному befulci, либо, сохраняя эту реконструкцию, поставить вопрос о заимствовании майнсковенедского *be- из венетского *be- в той же функции, образующего изоглоссу от балт. (лит.) be- 'без' до лигурийского bo- 'без', которое мы пытались выявить в лигурийск. Bodincus 'По' [11, с. 25].
*GOSTЬ 'ВСТУПИВШИЙ ВО ВЛАДЕНИЕ'
Это слово, пожалуй, дальше других отстоит от майнсковенедской темы нынешних заметок: достаточно сказать, что его нет ни в собственно майнсковенедских материалах разбираемой здесь книги Шютца 1994 г., ни в нашем алфавитном индексе (выше). Дело в том, что на небольшом пространстве Верхней Франконии отмечена дюжина топонимов на -gast, но их прямолинейная славянская атрибуция, скажем, Radegast как слав. rad- + gostъ, сильно затруднена неменьшей близостью к др.-франк. Ratgast и др., к чему нельзя не прислушаться (см. [Schütz 1994, S. 40]). Имена на -gast : gost- распространены и в славянской, и в германской Европе, а в местах соприкосновения обоих этносов (одним из таких мест была восточная (Верхняя) Франкония) они могли относиться к небольшому фонду общей взаимопонятной лексики контактирующих родственных племен. Усиленно апеллировать при решении вопроса местного gost- к какомуто третьему этносу (или этносам) и каким-то "негостевым" элементам значения, как это делает автор заинтересовавшей нас книги, вряд ли нужно, хотя можно согласиться с тем, что над реконструкцией -gost еще надо работать. Первоначальная связь имен на -gast с землею ("auf Grund und Boden" [Schütz 1994, S. 21]) не кажется очевидной, она явно опосредована через лиц с именами на -gast, -gost. Препятствием не может служить и морфология, а именно -i-основа исходного
407
![]()
gostь, hostis, которая есть не что иное, как развитие, расширение первоначального консонантного исхода, о чем нередко забывают, как, впрочем, и о способности также -i-основ образовывать производные на -j-: *tьstь - *tьšča (*tьstja), *gospodь - *gospodja. При склонности нашего автора к балтийской интерпретации "венедского" понятна и его апелляция к др.-прусск. gasto 'угодье, урочище, земельный участок' [Schütz 1994, S. 22], но это все равно, что объяснять проблематичное через еще более неясное. О древнепрусском слове спорят, ср. ([29]: gasto < *gasta 'užgesusi žemė', то есть 'погасшая, выжженная земля'), но, скорее, оно, как и многое другое в древнепрусском, изолированное на балтийском фоне, тяготеет к славянскому, где там же имеются примеры того, что единица земельной площади (русск. погост) восходит к *gostь, гость в его более комплектных древних значениях, см. подробно [30], критику, см. еще в [31]. В конечном счете в основе этой лексики лежит обозначение лица, субъекта, владеющего либо изначально (хозяин), либо приравниваемого к нему (гость), см. специальное указание на отношение приравнивания, равенства на примере лат. hostis [30, с. 17]. Удачным в данном случае может быть признано только такое расширение индоевропейского сравнения, которое помогает раскрыть здесь семантику владения. Вскользь названный Мажюлисом [31] литовский гидроним Gest-upys (ср. еще [32], с совсем другим осмыслением) мог бы, кажется, выполнить эту роль, в особенности же этимологически идентичная ему, по всей видимости, балканскоиндоевропейская форма, показаниями которой незаслуженно пренебрегают, если учесть ее засвидетельствованное апеллативное значение: фрак. Gesti-styrum 'locus possessorum'. Фрак, gest- 'possessor, владетель, владелец', давно и вполне убедительно проэтимологизированное Томашеком от и.-е. *ghed- 'доставать, хватать' [33], ср. еще [34], представляет собой и.-е. *ghestis, вариант к нашему *ghost(i)s, с сохранением исходной семантики 'владелец - вступающий во владение', откуда потом и выросло наше * gostь с его весьма терминологизированным и потому несколько темным значением, которое все же нельзя отрывать от названия глагольного действия и.-е. *ghed-, см. о нем [35], и замыкать на лексике, обозначающей землю. Этими поправками мне показалось уместным дополнить и рассуждения других исследователей, и собственные - о слав. * gostь [5, вып. 7, с. 68].
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956. С. 111.
2. Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiecki W. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900-1935. T. 1-8.
3. Трубачев О.Н. Формирование древнейшей ремесленной терминологии в славянском и некоторых других индоевропейских диалектах // Этимология. М., 1963. С. 39, 41.
408
![]()
4. Šmilauer V. Osídlení Čech ve svetle místních jmen. Praha, 1960.
5. Этимологический словарь славянских языков. М., 1974. Вып. 1.
6. Popović I. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960. S. 133-134.
7. Bezlaj F. Etimološki slovar slovenskega jezika II. Ljubljana, s. 174.
8. Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979, S. 88 (Beiträge zur Namenforschung. NF. Beiheft 17).
9. Словарь русского языка XI-XII вв. M., 1975. Т. 1.
10. Rozwadowski J. Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków, 1948.
11. Трубачев O.H. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
12. Schuster-Sewc Н. Historisch-etymologisches Wörterbuch der oberund niedersorbischen Sprache. Bautzen, 1978-1989.
13. Eichler E. Slawische Ortsnamen zwischen Saale und Neiße. Ein Kompendium. Bd. I: A.-J. Bautzen. S. 122.
14. Гълъбов И. Южнославянските местни имена, образувани с габр- и проблемите, свързани с тях // И. Гълъбов. Избрани трудове по езикознание. София, 1986. С. 488 и след.
15. Vasmer М. Schriften zur Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin; Wiesbaden, 1971. S. 539.
16. Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Wyd. 2. Warszawa, 1970. S. 517: stopa...i o 'miarze'.
17. Gilewicz A. Miary i wagi // Słownik starożytności słowiańskich. T. III. Wrocław, etc., 1967. S. 205: перечисляет различные виды стопы как меры длины в средневековой Европе и у славян (римская, кельнская, или рейнская, немецкая, парижская).
18. Романова Г.Я. Наименование мер длины в русском языке. М., 1975. С. 11, 81, 82: "...неупотребительность меры с таким названием в народно-метрологической практике у восточных славян... заставляет рассматривать метрологическое значение термина стопа как заимствованное из церковнославянского языка".
19. Gołąb Z. The origins of the Slavs. A linguist's view. Columbus, Ohio, 1992. Р. 166-167.
20. Mikkola J.J. Ein altslovenisches Wort in Fredegars Chronik // AfslPh, Bd. 41, 1927. S. 160.
21. Трубачев O.H. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959. С. 186.
22. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Изд. 2, стереотипное. М., 1986. Т. 1.
23. Топоров В.Н. К этимологии слав. *myslь // Этимология. М., 1963. С. 5 и след.
24. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. Т. I: Phonétique. Paris; Lyon, 1950. Р. 96.
25. Grinaveckis V. Ein-Konsonantensuffixe in der litauischen Sprache // Slavia. 1993. Ročn. 62. Seš. 2. С. 175.
26. Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1962-1965. Bd. I—II.
27. Schütz J. Fredegar: Über Wenden und Slawen-Chronicon lib. IV cap. 48 et 68 // Jahrbuch für fränkische Landesforschung. Bd. 52. Jg. 1992. S. 45 и след., особенно 51 и след.
409
![]()
28. Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб., 1893-1903. Т. 1-3.
29. Mažiulis V. Prusų kalbos etimologijos žodynas. I. Vilnius, 1988. С. 329.
30. Топоров В.Н. Прусский язык. Словарь: Е-Н. М., 1979. С. 169 и след.
31. Mažiulis V. Del pr. gasto etimoligijos // Baltistica. XXVIII (I). 1994. Р. 82.
32. Vanagas А. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981. S. 114.
33. Tomaschek W. Die alten Thraker. Wien, 1980 (unveränderter Nachdruck). S. 8-9 (II. Abhandlung).
34. Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. 2. Aufl. Wien, 1976. S. 103.
35. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Worterbuch. Bern, 1949. Bd. I. S. 437-438.
Исследования по славянской диалектологии. Сборник к 85-летию С.Б. Бернштейна. Издат. "Индрик". М., 1995
POSTSCRIPTUM AD "SCLAVANIA НА МАЙНЕ"
Разговор на этом не кончился, я имею в виду то, что касается праслав. диал. *velьpodь, *volpodь, вскрытых, как представилось Й. Шютцу, а за ним - автору этих строк, в означенных языковых реликтах. Такое толкование встретило обстоятельную критику немецких коллег, которые, надо отдать им должное, предприняли все необходимые усилия, чтобы довести до меня свою отличную точку зрения, специально прислав написанное (напечатанное) по этому поводу в провинциально немецких (баварских) изданиях. Проф. Й. Шютц тем временем умер, так что отвечать - мне. Передо мной - статья: Karlheinz Hengst. Die Walpoten - Kritische Betrachtung eines Namens und seiner mainwendischen Deutung // Sonderdruck aus Archiv für Geschichte von Oberfanken, Bd. 80 (Bayreuth, 2000). Из содержания: Автор, лейпцигский ономастславист, выступает против толкования слова Walpot(en) средневековых баварских источников как майнсковенедского (славянского) в значении 'повелитель'. Конкретно имеется в виду форма waltpoto (XI в.), waltpodo (XII в.), которую Й. Шютц якобы возводит к собственной (ре)конструкции *velьpoto, не засвидетельствованной ни в одном славянском языке. Второй компонент слова при этом связывается со вторым компонентом ст.-слав. господь, русск. господин, а первый компонент - с праслав. *volděti (в тексте: "gemeinslawisch *valdeti") 'владеть, господствовать'. Справедливости ради, может быть, стоит уточнить, что покойный автор "Майнсковенедских названий Франконии" дает в качестве праславянских реконструкций формы *velьpodь и *volpodь, а не *veľpoto (?), как у К. Хенгста, далее, также, пожалуй, еще и то, что при объяснении *velьpodь целесообразно иметь в виду не только слав. *velьjь, *velikъ, *velьmoža, но и наличествующее в материалах Й. Шютца на той же ограниченной франкской территории *velimyslъ (см. также у нас, выше). Живо дискутируемый в статье К. Хенгста вопрос, - может ли вообще праславянское диалектное (здесь: майнсковенедское)
410
![]()
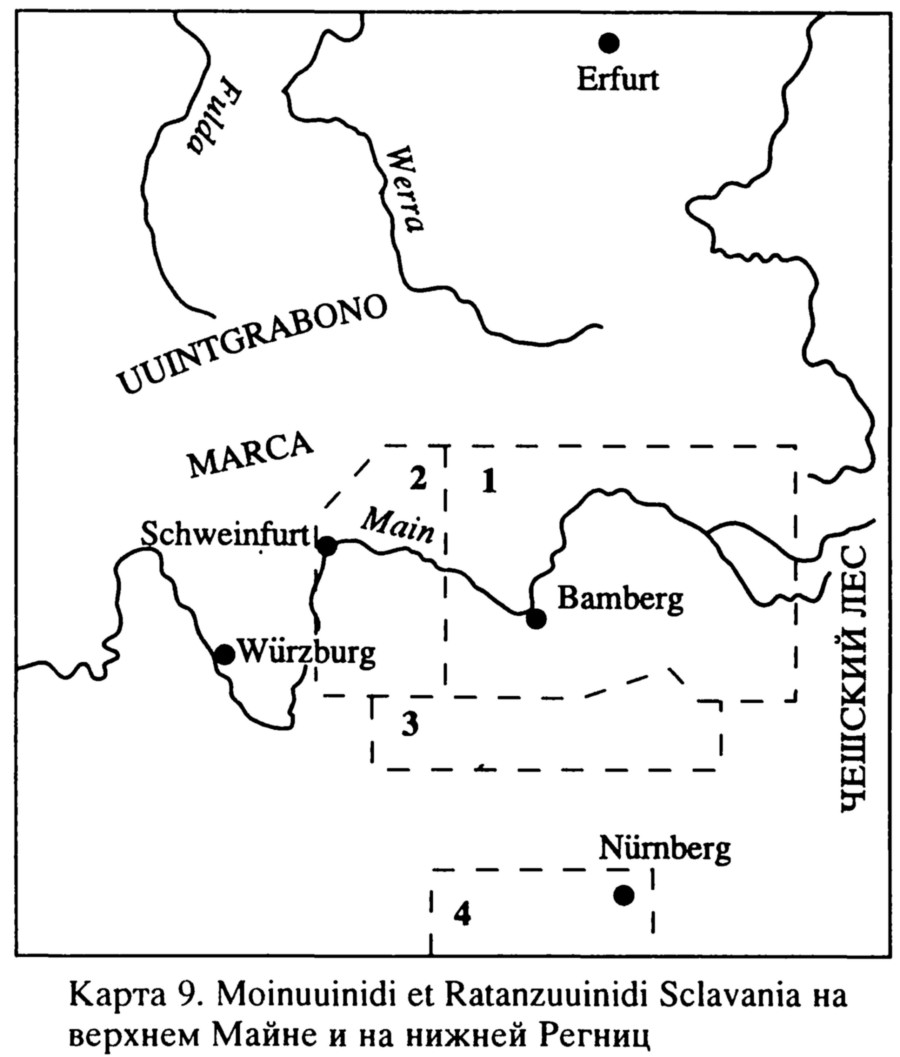
Карта 9. Moinuuinidi et Ratanzuuinidi Sclavania на верхнем Майне и на нижней Регниц
слово быть без соответствий в остальном славянском, позволю себе не обсуждать, ибо высказывался об этом достаточно. Коротко говоря, К. Хенгст возвращается к утверждению, что в Waltpoto мы имеем слово немецкого происхождения. (Попутно замечу, что сторонник германской этимологии не может не интересоваться, точнее - не обратить внимания на удивительную вариативность, неустойчивость того же топонима Wölbattendorf, вар. Welbatten-, Wellbotten-, Welwetten-, Wolbetten-, Welbotendorf. Нормально ли это для исконной формы?) Действительно, формы wal(t)poto представлены в средневековых немецких (кон)текстах очень широко, как отмечает К. Хенгст, но можно ли из них объяснить факты переднеязычной огласовки и на этом основании отрицать всякое предположение о майнсковенедском варианте на *velь-?
Общие мысли К. Хенгста о необходимости дальнейшего историколингвистического контроля и проверки в этой сложной материи споров не вызывают, как и допущение каких-то односторонних решений, даже ошибок у Й. Шютца (см. и у меня, выше), но кажутся нежелательными и общие преимущественно негативные оценки в отношении последнего и его книги, содержащей и материал, и бесспорные удачи, напр. анализ гидронима Schney. Да и вопрос о
411
![]()
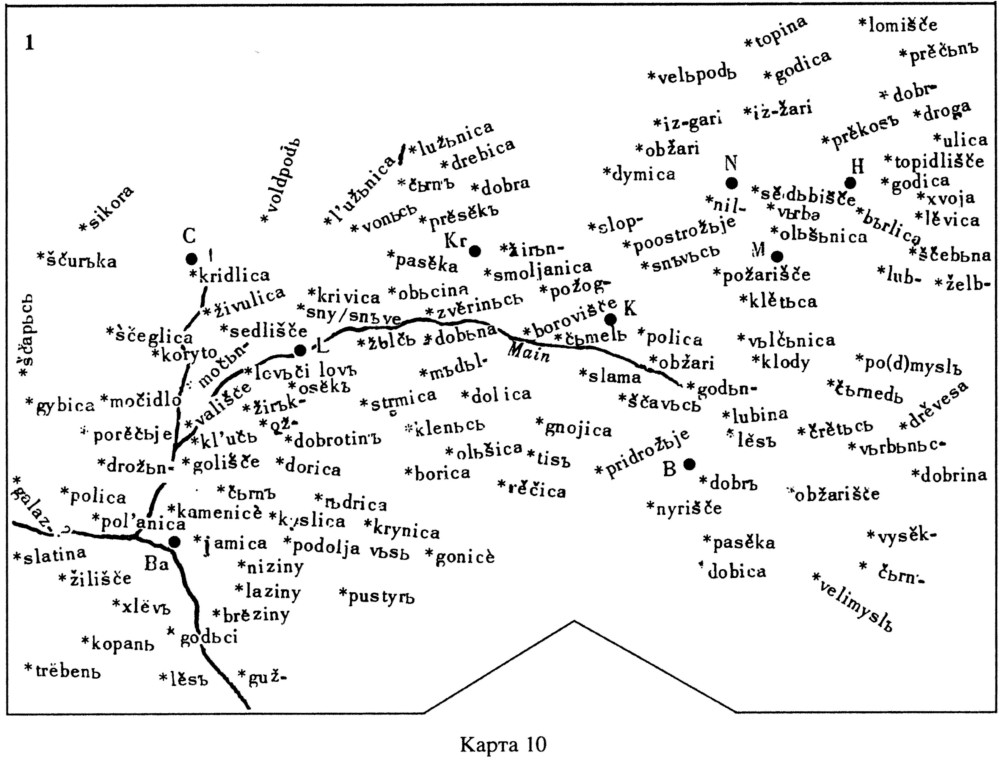
Карта 10
412
![]()
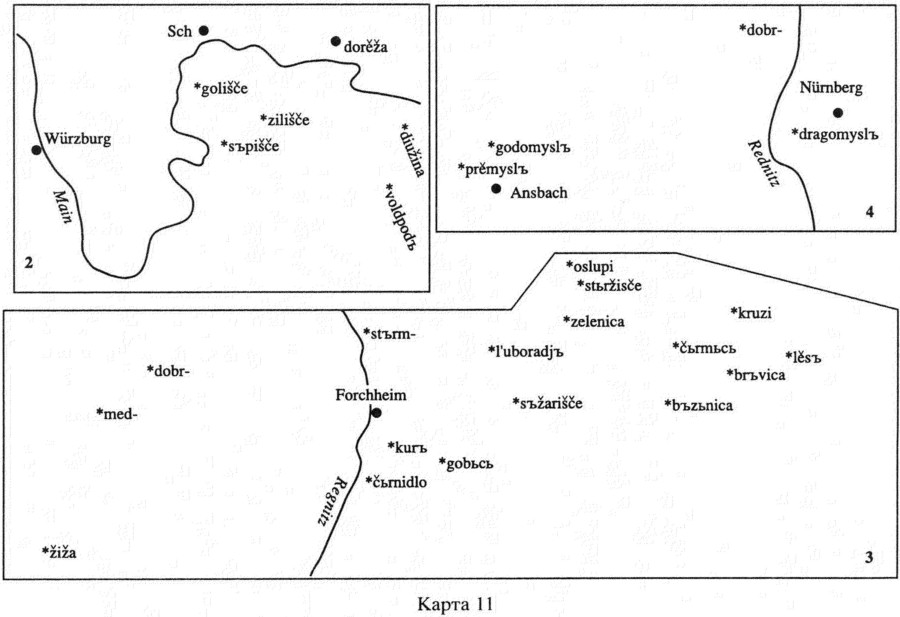
Карта 11
413
![]()
*velьpodь, *voldpodь, *velimyslъ, при всей гипотетичности, заслуживает более спокойной проверки.
Я знал Йозефа Шютца лично, имею представление о его трудном характере, нисколько не идеализирую его, но к попыткам распространить его натянутые личные отношения с лейпцигским центром на всю его последующую научную деятельность отношусь без одобрения, и тот совершенно личный факт, что за воссоединением (Wiedervereinigung) Германии 1989/1990 г. не последовало "воссоединения" его с членами лейпцигской группы я бы не примешивал к исследованию чисто научных вопросов.
9. МЫСЛИ ПО ПОВОДУ НОВОЙ КНИГИ: LESZEK MOSZYŃSKI. DIE VORCHRISTLICHE RELIGION DER SLAVEN IM LICHTE DER SLAVISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT (BÖHLAU VERLAG, KÖLN; WEIMAR; WIEN, 1992 [*])
Известный польский специалист по старославянской письменности, постоянно интересующийся также историей религии и религиозной терминологии, профессор Гданьского университета Лешек Мошинский представил нам в настоящей книге свой вариант праславянской (дохристианской) картины духовного мира. Автор вполне сознает, сколь ответственна его задача - подвести обдуманный современный итог после исследований А. Брюкнера, С. Урбаньчика, X. Ловмянского и др., а также с учетом "новой сравнительной мифологии" школы Дюмезиля. Естественно, что он начинает с постановки вопросов, и первый из них - религия или мифология? Его ответ гласит (не только потому, что источники скудны и представлены неравномерно [**]): "Фактически праславянской мифологии в классическом смысле не было. Так называемая праславянская мифология - это скорее научная фикция..." (с. 2). По мнению Урбаньчика,
*. Статья представляет собой переработанный (переведенный на русский язык) вариант авторского немецкого текста, опубликованного в "Zeitschrift für slavische Philologie" (Bd. 54, 1) под названием "Überlegungen zur christlichen Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft".
**. "Хронография" Малалы, пантеон Владимира Святого, свидетельства прочих летописцев, из которых некоторые поддельны или же, возможно являются вторичными интерполяциями, собственно мифологические зачатки представлены почти исключительно у прибалтийских славян, не без влияния религиозно-политического сопротивления против только еще начинающегося "Drang nach Osten", а кроме этого - применяемое при реконструкциях использование фольклорно-этнографического и тому подобного материала в записях нового времени.
414
![]()
которого автор цитирует, мы обязаны термином "славянская мифология" традиции или же собственной лени (с. 17). Даже если дело не столь однозначно, ясно одно: теория Жоржа Дюмезиля с ее трехчастным миром людей и богов не подходит безоговорочно к представлениям наших предков. При этом изображение может выглядеть интересно и даже красиво, но не без потерь для объективного мнения, в первую очередь - для славянского своеобразия (ср. с. 17).
После некоторых филологических вступительных наблюдений Мошинский занимается тем, что он называет праславянской полидоксией: магия, колдовство (влъхвъ, врачь, балии, диво, чудо), а главным образом - демонологией: праслав. *vъlkod(ь)lakъ 'оборотень', которое автор этимологизирует как *vъlko-kud-ьl-akъ 'похожий на волка' + 'взлохмаченный, кудлатый', далее, *ǫpyrь/*ǫpirь 'привидение', толкуемое Мошинским не совсем вразумительно как 'пернатая плененная душа умершего' (?), тогда как имеется в виду 'revenant, возвращающийся мертвец', который способен покидать свою могилу, то есть 'нечто вылетающее наверх', при этом *ǫ- восходит к и.-е. *ana 'вверх, сверху', в гетеросиллабической позиции -*on- в праслав. *on-utja (русск. онýча 'верхняя обмотка'), с сербохорв. вàмпир 'вампир, упырь' в качестве праславянского словообразовательного варианта *vъnъ-pirь/-pyrь, тоже 'улетающее, ускользающее наружу'. За этими существами апокрифическими следуют праслав. *běsъ и *čыtъ, нашедшие - хотя и неодинаковый - доступ также в христианскую терминологию, особенно *běsъ, главный термин для беса, дьявола. Не удовлетворившись этим вполне, создали для той же цели уже в раннее время еще несколько неологизмов, уклончивых табуистических обозначений: неприязнь, калька с др.-в.-нем. un-holdo, и лѫкaвыи, собственно 'ходящий извилистыми путями', не говоря о синонимах, представляющих собой книжные заимствования из греческого и семитского, но ничего общего с праславянской религией не имеющих (см. о них специально дальше в книге Мошинского).
Дальнейший особый вопрос представляет способ обозначения души в славянском. Христианское учение о бессмертии человеческой души не означает, что в понимании некрещеных славян душа сразу после смерти умирала, что, к тому же, было бы несвойственно анимистическому мировоззрению. Об исконно праславянских терминах *duxъ, *duša, канонизированных христианством, мы еще будем говорить дальше. Здесь отметим лишь, что праслав. *duša, возведенное христианством в ранг универсального термина для 'бессмертной души', ранее, вероятно, употреблялось преимущественно как обозначение 'живой души', что было также в соответствии с этимологией слова *duša (душа живая, дыхание). Уклончивый, табуистический (с христианской точки зрения, суеверный) взгляд на обозначаемое - вот, что было мотивом всех иных названий похождений
415
![]()
души после смерти человека, я имею при этом в виду такие слова, как *navь, *mana и др. Похоже, Мошинский недооценил эту разницу между христианским и дохристианским способом видения. Это сказалось на толковании слов, напр. *navь. Архаическое обозначение мертвеца (ст.-слав. навь, νεκρός, mortuus: род. мн. из навии = отъ мрътвыхъ; Ин. 12:9) имеет достоверное праиндоевропейское происхождение. Для меня остается не вполне понятной мысль Мошинского о вторичном распространении этого слова у восточных славян (буквально: "во время их второго южнославянского влияния?", с. 27). И это притом, что древнейшие записи, а также народные говоры, великорусские и украинские, обнаруживают довольно прочное словарное гнездо: навь, навье, навий, нáвский день 'день поминовения усопших', нàвський (мáвський) великдень, нáвья кость, укр. мавка 'некрещеный ребенок женского пола, после смерти в русалку'. Отсутствие праслав. *navь в польском заслуживает особого объяснения, но не является "неопровержимым" аргументом против принадлежности этого слова к праславянской демонологии (ср. с. 28). С миром душ умерших связано так или иначе слово Велес: некий мифический Велесъ упоминается в "Слове о полку Игореве", еще один veles - в старочешском ругательстве k velesu (что-то вроде 'к черту'). Определенные родственные отношения с лит. vė̃lės мн. 'души умерших', vélnias 'черт', известные с давних пор, не являются, однако, основанием для того, чтобы объяснять вместе с автором славянское слово как заимствование из балтийского (с. 29-30, 43), тем более, что сам Мошинский несколькими страницами дальше, а также в другом месте (1) устойчиво приписывает его влияниям кельтского, хотя и здесь речь скорее идет об индоевропейских родственных связях. Это своеобразное корневое гнездо будет интересовать нас также в дальнейшем. Кроме нескольких германизмов и латинско-романских элементов различного распространения из понятийной сферы мира духов (польск. skrzat и родственные, strzyga, striga, ст.-слав. роȣсалиѩ, откуда русск. русáлка), автор отмечает собственно славянские слова вероятно более позднего образования, главным образом в полной форме (zmora, topielica, południca, dziwożona), подвергая их дальнейшему анализу (см. с. 31), что было бы, возможно, интересно в плане истории слов и понятий (включая отношения христианско-дохристианского взаимодействия), ср. напр., тему беса полуденного (русск.-цслав.) 'daemon meridionalis'.
О возможно праславянском женском божестве *Mokošь, др.русск. (у Мошинского "altostslav") Мокошь автор не может нам сообщить ничего нового (с. 32). Мошинский трактует раздельно вышеупомянутый мир духов (П. Праславянская полидоксия, с. 18-37) и собственно мир богов (III. Праславянская религия, с. 38-113), что, кажется, до некоторой степени противоречит его собственному суждению: "Праславянские демоны не стояли между человеком и богом..." (с. 37). Если развить его логически несколько дальше, это
416
![]()
суждение обрело бы такую формулировку, что праславянские духи обязательно принадлежали к тому же миру, что и праславянские боги, а историко-типологическим основанием для этого явилось то, что понятие 'богов' едва ли было у праславян столь законченно и развито, как в более развитой религии, оно было у них, так сказать, на полпути в этой эволюции. Приблизительно так обстояло дело с варварскими βασιλεῖς, reges в античной и средневековой традиции: это не были цари, короли в собственном смысле слова. Наша попытка ослабить оппозицию 'дух' - 'бог' в праславянской культуре дает также дальнейшую перспективу для суждений о предмете в его истории. Ввиду расплывчатости активного понятия 'бога' мы вправе усомниться, что процесс протекал точно так (как представил его Дитрих у Мошинского, с. 38-39): «и.-е. *dei̯u̯os 'бог - господин ясного неба' - [>] *bhagos > *Bogъ 'бог-податель'». Но, спрашивается, знали ли вообще прежде древние праславяне это *dei̯u̯os 'бог'? Равным образом должно считаться расплывчатым славянское обозначение 'рая' - *rajь. Отсутствие оппозиции 'рай' - 'ад' (не говоря уже о 'чистилище, purgatorium'!) имело своим следствием то, что праслав. *rajь могло означать только 'потусторонний мир' вообще. Сравнение его по-прежнему с иран. Rāy 'богатство, счастье' (Мошинский, с. 39, прим. 159) теряет всякий смысл. Я обсудил эту проблему подробнее в другом месте (2, с. 173-174), сославшись на мнение Мейе о том, что славянское название рая *rajь имеет ярко выраженный народный характер, и, кроме того, указал на то абсолютно игнорируемое обстоятельство, что европейский, международный термин для рая был получен через посредство греч. παράδεισος из совершенно другого иранского источника с исходным значением 'огороженное место, парк'.
В вопросе об иранских этимологиях древнерусских теонимов Хорсъ, Стрибогъ, Сѣмарглъ Л. Мошинский занял сдержанную позицию, следуя в этом Ю. Речеку (с. 47). Тем больше бросается в глаза готовность Мошинского считать, что кельтские влияния простираются до острова Рюген (с. 50). Но современное языкознание отвечает на вопрос о кельтах на берегах Балтийского моря отрицательно (ср. напр. решительную критику подобных рассуждений Шахматова у Фасмера [3]). Во всей зарейнской Германии кельты едва ли продвинулись севернее верховьев Эльбы, что же касается некоторых более северных находок, напр. серебряный котел с изображениями кельтских богов, найденный в Дании, то их можно отнести на счет торгового и военного импорта, ср. (4; с картой). При этом не все и в аргументации Мошинского относится к языкознанию в собственном смысле слова, будь то засвидетельствованное у прибалтийских славян и, по мнению Мошинского - кельтское, почитание лошадей или же многоголовость богов - там же, напр. Triglov у полабских славян, несмотря на то что автор никак не может решить сам, не скрывается ли в этом образ христианской Троицы (с. 59).
417
![]()
Поликефалия (вар.: полимастия 'многососцовость') принадлежит, однако, к распространенным представлениям о божествах, ее пытались связать с родовой организацией (5, с. 8-9), дальнейшие соображения о западнославянских групповых божествах см. (6). Мошинский высказывает предположение, что в имени полабского бога Prove vel Prone (совершенно недостоверном со стороны формы) представлено имя кельтского бога Borvo/Bormo (с. 52), но против этого объективно свидетельствует славянская по виду форма имени, вероятно, того же самого бога Poreuithus, явно образованная с адъективным суффиксом -ov-itъ от pora 'время года, жизненная сила'. Неправдоподобность реконструкции, эмендации *Taran-vitъ (?) из Turupit в древнеисландском источнике (с. 55) означает для нас невозможность говорить о каком-то боге по имени *Taranъ из кельтского Taranis. Далее, автор склонен видеть в слав. Veles заимствование из древнекельтского *u̯el-et-s, откуда древнеирландское fili (им. п.) 'ясновидящий, поэт' (род. п. filed, дат. filid, вин. fileda). Но, насколько уже явствует из исторического имени (возможно, кельтской по происхождению) ясновидящей жрицы - Veleda - у одного германского племени (по Тациту), заимствованное имя ( также в нашем случае) скорее кончалось бы на -t- или -d-, не говоря о прочих сомнениях со стороны формы, а также семантики (в случае со славянским Велесом речь идет о божестве, а не о поэте или ясновидце). Поэтому целесообразно оставить пока кельтское слово в стороне, а имя Велес нам еще потребуется обсудить в более широком контексте.
Но сначала обратимся к главному слову как христианской, так и дохристианской славянской религиозной лексики, - прилагательному *svętъ. Это слово обладает в историческую эпоху во всех славянских языках практически одним единственным значением 'святой', и его охотно воспринимают как христианское и опрокидывают в праславянскую древность. Но это вряд ли имеет что-нибудь общее с семантической реконструкцией. Так, наш автор неоднократно утверждает, что праслав. *svętъ первоначально означало 'светлый, блестящий' (с. 60, 93). Один из богов у северо-западных славян носил имя Svętovitъ. Это имя, с одной стороны, стоит в ряду двухчленных, по большей части княжеских, личных собственных имен, таких, как русск. Святослав, Святополк, ст.-польск. Świętosław, Świętopełk, так же и у других славян, с другой стороны - в ряду производных имен с суффиксом -ovitъ (см. выше), ср. прежде всего древнеполабские теонимы Jarovit, Rujevit, Porevit. Было бы заблуждением реконструировать на их материале существительное *vitъ (с каким бы то ни было значением - 'dominus, potens' или 'бытие', ср., с литературой, Мошинский, с. 61). Не менее нелепой представляется попытка усмотреть в нем чуть ли не "церковного бога лехитских славян" по имени *Vitъ (М. Рудницкий у Мошинского, там же) или, наконец, христианского святого Вита. Эти мифы современной науки отдают чистой народной этимологией и напоминают мне похожий
418
![]()
лингвистический анекдот из области, далматинско-хорватского (рассказанный мне в свое время в Загребе), а именно: апеллатив svetiònik 'маяк', разумеется, из *světiolьnikъ, сюда же русское светильник', некоторые тамошние жители понимали как *svetī Onik (род. п. svetog Onika!) 'святой Оник'... Едва ли удачна еще одна этимология -vitъ в составе имени Svętovit из первоначального *viktъ < и.-е. *u̯ei̯k-t- или *uik-t- с значением корня 'жизненная сила', ср. лат. victima 'жертва' (7, с. 40). Нам кажется более перспективным предполагать в образованиях на -ov-itъ своего рода степень сравнения, ср. там же (7, с. 40) мнение Р. Якобсона о том, что в случаях с Jarovit, Rujevit, Porevit мы имеем дело с обозначениями различных ступеней жизненной силы. Тем самым мы возвращаемся к концепции Svętovit как суффиксального производного. Этому вполне отвечает констатация того, что Svętovit, собственно говоря, является эпитетом (8, с. 421). Этимология и употребление слова *svętъ подсказывает нам несколько иное решение, отличное от первоначального значения 'светлый, блестящий', как у Мошинского, выше. И.-е. *k̑u̯en-to-, откуда слав. *svętъ, обнаруживает исходное значение 'набухший, выросший, усилившийся', ср. (7, с. 17 и passim). Терминологизированный сакральный характер с оттенком внешнего 'сияния' прибавился сюда позже. Мы согласны с Топоровым, что, например, *Svętoslavъ - это «не тот, чья слава "сакральна", но "тот, у кого она возрастает, ширится"» (7, с. 40). Но, может быть, еще явственнее это в случае с именем *Svętopъlkь = 'тот, полк (дружина) которого множится'. Широкоупотребительная по сей день русская пословица: "Свято место пусто не бывает" (которую следует понимать в том смысле, что 'изобильное не бывает пустым') - говорит сама за себя и дышит архаикой. Мы имеем здесь перед собой смысловую оппозицию, едва ли замеченную исследователями, 'святой' - 'пустой' (то есть с чертами досакрального, дохаризматического употребления и при полном отсутствии признаков блеска). Русское пустосвят 'исполнитель внешних обрядов для виду' (словарь Даля) уже показывает дальнейшее семантическое развитие [1]. Одним словом, исследуя старую религиозную терминологию и через нее - более древнее состояние культуры, мы нередко рискуем модернизировать и подгонять под свой собственный (христианский) способ видения многое из исследуемого. Что и случилось с Мошинским, который резюмирует свое исследование таким образом (с. 124): «Праславяне имели только одного Бога, которого они представляли себе как "лучезарного подателя" (svętъ Bogъ)». Даже если посмотреть на дело чисто филологически, оно
1. Примеч. ред.: Смысл пословицы, по-моему, иной. Свято место противопоставлено пустому как 'освященное' (ср. оберег: "Наше место свято!", сопровождающийся творением креста) - 'дикому, лесному' (ср. пустошь, пуща, др.-русск. paustre 'дикое место'; отсылы болезней на пусты лесы (/ - а) в русских оберегах и в (на) пусту гору в болгарских и сербских заговорах. Значение 'порожний, полый' у корня пуст- явилось из 'необработанный, бесплодный (о земле)'. — А. Страхов.
419
![]()
представляется далеко не таким простым и однозначным. Возьмем общеизвестное и цитируемое также Мошинским место из Прокопия (De bello Gothico III 14, 23): θεὸν μεω γὰρ, ἕνα, τὸν τῆς ἀστραπῆς δημιουργὸν ἁπάντων κύριον μόνον αὐτὸν νομίζουσιν εἴναι 'они (славяне. - О. Т.) имеют одного бога, творца молнии, которого они считают единственным господином всего сущего' (так у Мошинского, с. 66). Но было бы небесполезно для всех дальнейших догадок автора о том, имеем ли мы здесь дело с монотеизмом или энотеизмом, уделить внимание тому факту, что лучшая рукопись Прокопия дает именно чтение: θεῶν (не θεὸν! - О. Т.) μεν γὰρ ἕνα ... (и далее по тексту), то есть надо читать 'одного из богов'...; ср. (9). Таким образом, что было чрезвычайно характерно для дохристианской, праславянской религии, так это плюраль *bozi (вин. мн. *bogy; ср. специально русскую начальную летопись о деятельности Владимира в связи с языческим пантеоном и последовавшим затем низвержением богов), а не singulare tantum *Bogъ, столь привычное для христианского мироощущения. Может быть, именно это культурно-исторически вторичное восприятие побудило автора к построению несколько деланной этимологии праслав. *dadjьbogъ как некоей формулы приветствия *dadjь Bogъ 'дай Бог (тебе счастья)', своеобразный эквивалент христианского съпаси Богъ > русск. спасибо (с. 68-69).
Памятуя о подзаголовке книги Мошинского ("...в свете славянского языкознания"), мы с сожалением констатируем, что большинство этимологий, предложенных автором, едва ли можно назвать удачными, будь то *tṛ́no-golvъ ('Христос в терновом венце' (?!) - о языческом боге победы у полабян: на основе Tjarnoglofi древнеисландской традиции, с. 74-75) или дешифровка *potǫga < Podaga, praepotentia которой упоминается в источнике (с. 79), но Podaga (вар.: pogaga) заслуживало бы более естественного объяснения, уже предлагавшегося другими исследователями ранее, что-то вроде 'пожар', чем выражалась мощь бога. К той же семантической сфере могло бы принадлежать божество северо-западных славян Pripegala, если из *Pripěkala, отглагольное имя от *pripěkati 'припекать'. Мошинский смотрит на него иначе, связывая с польск. opieka 'забота, попечение' (с. 81). Но столь резкие семантические различия одного и того же глагольного корня *pekťi 'жечь, печь, жарить' и - 'заботиться' зависят главным образом от префикса.
"До сих пор языкознание едва ли привлекалось в исследованиях по дохристианской славянской религии", - таков приговор, выносимый автором (с. 88), и мы должны на этот раз признать его правоту.
Мошинский придерживается мнения, что слова *duxъ и *duša не принадлежали к праславянской религиозной лексике (с. 97). Выше мы попытались затронуть проблему похождений души после смерти, насколько они (похождения) могли обозначаться с помощью табуистического древнего словарного состава, служить предметом представлений, а также по возможности прослеживаться и вскрываться
420
![]()
лингвистическим путем. То, что до смерти носило название *duša, продолжает, по праславянским представлениям, жить и после смерти, но только - под новыми именами *navь, *mana, *manъ и, возможно, также другими, ср. еще и и.-е. *ăn- откуда не только нем. Ahn 'предок', но и слав. *vъnukъ 'внук', этимологически 'того же рода, что и предок, дед; принадлежащий предку деду' (5, с. 74-75). Существенная деталь: в книге Мошинского я не встретил слова и (понятия) табу ни разу, отчего явно пострадало лингвистическое исследование материала. Равным образом в ряде случаев, кажется, имело место пренебрежение лингвистической типологией. Вот только один пример, который, однако, с тех пор как я его обнаружил, является для меня чудом лингвистической типологии и славянского культурного своеобразия. Тот же самый лексический материал служит предметом обсуждения и у Мошинского в части III, главе 2 "Дохристианская религия славян в свете праславянского словарного состава", параграф с) "Проблема ответственности человека после смерти" (с. 97 и сл.). Там написано совершенно правильно, что «проблема грядущей ответственности была чужда праславянам. Праславянский словарный состав не содержит слова, обозначающего 'ад, преисподнюю'» (с. 97). Таких образом, не было лексико-понятийной оппозиции между 'раем' и 'адом', мимо чего автор проходит молча. Но поскольку упраздняется названная оппозиция, а вместо двух четко очерченных понятий остается одно расплывчатое 'потусторонний мир, тот свет' (см. об этом уже выше), отпадает надобность и в этом разделении на хорошие и плохие души... Этого не позволяет делать элементарный структурализм, отчего в праславянский потусторонний мир (*rajь) переселяются все умершие. Иначе мы получим не реконструкцию праславянского состояния, а скорее иррадиацию собственного христианского сознания на собственные научные представления. Но самыми важными, на мой взгляд, остаются дальнейшие типологические различия. На одной стороне мы констатируем эту славянскую ситуацию с наличием собственного названия 'рая' *rajь, отсутствием заимствования из греч. παράδεισος и с заимствованными названиями 'ада' (адъ, пькълъ). Совершенно противоположную ситуацию мы наблюдаем на другой стороне - у большинства неславянских народов Европы и в их языках. Лат. infernum и его продолжения во всех романских языках, нем. Hölle, англ. hell и т. д. 'ад' показывают нам, что в западном языковом и культурном ареале туземными и дохристианскими были как раз названия 'ада, преисподней', в то время как понятие и название 'рай' там оказалось импортированным извне вместе с христианизацией (10). Нельзя не высказать своего удивления по поводу того, что столь глубокое различие между Востоком и Западом до сих пор, насколько я знаю, не привлекло внимания.
Среди прочих лингвистических и этимологических неудач книги следует, возможно, выделить анализ лексического семейства трѣба
421
![]()
'жертва'. Автор явно пошел по ложному следу, принимая здесь за исходные значения 'чистить', 'корчевать (лес)' (с. 109). Конечно, здесь представлен корень *ter-, расширенный элементом -b- и обладающий основным значением 'тереть, перетирать, истреблять с помощью чего-то острого', но сакральное значение 'жертва' дало не оно. Непосредственно от глагольного значения 'перетирать, истреблять' отпочковалось значение 'острая необходимость, дело' (ср. лит. reĩkia 'надо, нужно', reĩkalas 'дело', этимологически родственные с значением глагола riĩkti 'резать' (11, с. 714)). Праслав. *terba, цслав. трѣба 'victima' < 'necessitas' (сюда же польск. trzeba 'нужно') являются хорошей аналогией этому. Когда Мошинский (там же) толкует слово трѣбище как 'очищенное от деревьев, раскорчеванное место' получается еще одна досадная ошибка. Со стороны языка дело ведь абсолютно ясно и однозначно: трѣбище - это (также в этимологическом смысле) 'место требы, жертвоприношения, locus victimae', в соответствии со словообразовательной моделью на -išče и семанической иерархией. Строго говоря, и ст.-слав. капище - не обязательно 'здание' (к трудному вопросу о храмах), как см. у Мошинского, с. 112, а точнее - 'место того, что называется капь ('идол')'.
Что касается обсуждения книги, мы уже близки к цели. Я, конечно, разделяю мнение, что эта тема сложна, трудна и с лингвистической точки зрения обработана еще в малой степени. Вызывает сожаление, что наш автор трактовал проблему слишком фрагментарно. И его заявленная лингвистическая позиция осталась скорее невыполненным обещанием; у Мошинского, безусловно, хорошего филолога, перевесила склонность к историко-филологическому (по большей части традиционному) взгляду на вещи. Но одной письменной традиции для реконструкции языка и культуры недостаточно. Напрасно также объектом критики и сомнений Мошинского сделалось использование этнографического материала. Но главное, в сущности, то, что в его изображении своеобразие праславянской религии оказалось едва ли затронуто.
Остаются уязвимыми для критики и рассуждения автора о том, что мы должны называть религию праславян не языческой (поганьскъ), а дохристианской (с. 123, 125). Из этого можно было бы сделать явно опрометчивый вывод, будто речь идет только о немногих столетиях, собственно предшествующих введению христианства, то есть об отрезке времени, которым традиционно любят оперировать историки языка, но это не так. Следует говорить о самостоятельном, весьма протяженном периоде, значение которого вряд ли можно было бы переоценить, тем более, что его воздействие сохраняло силу и для последующего христианства (ср. то, что сказано выше о понятийной паре 'рай' - 'ад' в двух культурных регионах Европы). Тем самым ставится вопрос о временной глубине и о том, что она в исследовании Мошинского, по-моему, недостаточна. Так, интерес исследователя простирается не далее середины I тысячелетия
422
![]()
до н.э., или, выражаясь словами самого Мошинского (с. 125):
"Очень древние иранские влияния были не столь существенны... Скандинавские влияния установить не удается. Протоболгарское влияние было лишь поверхностным. Влиянию кельтской религии подверглись прежде всего западные лехиты".
И это все? Как я себе это сейчас представляю, ученый занимается последним периодом развития праславянской языческой религии: уже наличествует понятие бога (богов), не без иранского влияния. Вне поля зрения остался предшествующий период культурной жизни с более примитивным миром духов и характерными нравами и обычаями, но совершенно отличный также по своим языковым и этническим связям, прежде всего славяно-италийским (латинским). Обойти их здесь молчанием было бы едва ли правильно, но тем самым нам придется говорить о другой книге - о моем "Этногенезе и культуре древнейших славян. Лингвистические исследования", вышедшем в 1991 г. (2). После прочтения книги Мошинского я нахожу это даже настоятельно необходимым, тем более, что прошедшие после этого годы помогли здесь кое-что добавить или объяснить.
Для краткости я буду придерживаться своего тогдашнего изложения, будучи при этом, однако, вынужден произвести некоторый отбор проблем в интересах, так сказать, продолжения диалога с Мошинским. Итак, по порядку: кельтов я вижу значительно южнее - южнее, чем германцы последних столетий до н.э., чей отпечаток носит имя волъков/волохов (Volcae > *WaIhōz > праслав. *volsi/*volxy) в их продвижении к славянам в Среднее Подунавье. Значительно дальше на восток и не раньше V в. до н.э. имеют место не только иранско-славянские, но индоарийско-славянские контакты. Это путь к этимологии *Svarogъ из др.-инд. svargá- 'небо'. Иранская этимология терпит естественное фиаско на фоне сохранения этимологического s- в начале слова; невозможность исконно праславянской этимологии очевидна из наличия -r- внутри слова (если от названия солнца, то почему тогда не -l-?); то, что пишет об этом слове Мошинский (с. 53-54, примеч. 226), неубедительно. Наш вышеупомянутый terminus post quem (середина I тысячелетия до н.э.) для контактов с индоарийским ограничивает более глубокую датировку также и для имени "бога солнца" Svarogъ. После критики неестественно высокоразвитой трехклассовой культуры (пра)индоевропейских племен по Дюмезилю, Гамкрелидзе и Иванову я обращаюсь к ключевому (в моем представлении) слову славянской культуры *svojь в контексте родовой идеологии и терминологии, ср. в первую очередь словосочетание *svoj rodъ. С идеологией рода естественно сочетается земледельческая идеология со своими суевериями. Так следует понимать, как мне кажется, русск. колдýн, собственно, праслав. *kъltunъ 'тот, кто спутывает (хлебные колосья - со злым умыслом)'. Памятуя о родовых коннотациях слова *svojь (и.-е. *su̯e-), рассматриваю праслав. *sъ-mъrtь 'смерть' как эквивалент русск. своя
423
![]()
смерть - о естественной смерти - со специфической понятийной нейтрализацией и.-е. *su- II 'suus' и *su- II 'хороший (в нравственном смысле)' - и то, и другое из первоначального *su- 'рождение, род'. 'Тот свет' обозначался просто как 'связанное с (или находящееся за) водой' (своего рода across the river and into the trees / На той стороне реки, в тени деревьев, как у Хемингуэя...), ибо примерно таков этимологический смысл праслав. *rajь (*rōi̯-: *rei̯-), а отсутствие *rajь в гидронимии (с которым связаны сомнения Фасмера) объясняется как сакральный запрет.
Когда в центре картины мира помещается *svojь rodъ (и.-е. *su̯o- g̑eno'свой род'), уместно говорить скорее об антропоцентризме, но не о трехчастной модели мира. Развитые религиозные системы, семья богов, пантеон появляются относительно поздно, во всяком случае вторично, за ними почти можно наблюдать глазами истории, как, например, за реформой Владимира 980 г. Боги появляются вследствие сублимации низших божеств, и собственно праславянская культура была как раз охвачена этим развитием. Многое при этом осталось незавершенным, как бы на полпути, как этот *Perunъ - отчасти бог, а отчасти - чисто нарицательное обозначение грома с молнией, *perunъ. И в этом сама славянская архаика. Божественность того же Стрибога и Дажбога не следует преувеличивать, это культурные инновации послескифского времени, но все же теонимы (а не формула приветствия!), которые, впрочем, оказались возможны только благодаря расцвету определенного антропонимического типа. Ослепленные блеском более развитых религиозных систем, "героического века" их мифологий (в Древней Индии, Риме и др.), исследователи слишком часто упускают из виду то, что вправе считаться (пра)славянской спецификой. Так, например, Родъ, олицетворение человеческого рода, вообще не находит места у Мошинского, но надо признать, что в контексте намеченной выше реконструкции *svojь (*svojь rodъ) и др. это приобрело бы прямой смысл. Похоже, что исследователи религии старшего поколения, навлекшие на себя критику за свою приверженность к этнографии, понимали дело правильнее. Я имею в виду Гейштора, который, правда, идя по стопам Бенвениста и Р. Якобсона, стремился обязательно вставить славянского Рода в классическую индоевропейскую мифологическую систему (12, с. 156). Внутреннесемантические аналогии с римским Quirinus (*co-vir- 'мужское содружество'), умбрским Vofione (*leudh-, ср. слав. *ľudьje), кельтским Teutates (teuta 'род, народ'), может быть, и не лишены интереса. Особенно много занимается Родом Б.А. Рыбаков, ср. целую главу "Род и рожаницы" в его книге о язычестве древних славян (13, с. 438 и сл.), а также его последующую книгу (14, с. 246 и сл.). После специальной работы И.И. Срезневского 1855 г. и исследований А.Н. Веселовского Б.А Рыбаков тоже уделяет внимание так называемым рожаницам русских народных верований, этим 'паркам, стерегущим домашний
424
![]()
очаг', ср. еще специально (15, с. 94 и сл.). Несколько слов об этих существах, поскольку их образ и название все же не вызвали особого интереса со стороны исследователей. Может быть, именно потому, что со стороны языка здесь все кажется таким "понятным" и "прозрачным"? В названии рожаниц, кроме женского характера и преимущественно множественной формы (каковая выразительно связана с родовым коллективом и его идеологией) заслуживает внимания грамматическая сторона и ее отношение к лексической семантике слова. Наш автор Лешек Мошинский тоже занимался праслав. *rodjan-ica в своей статье о славянских названиях чародеев (16, с. 104—105). Но от него ускользнуло своеобразие слова: действительное (активное) лексическое значение при страдательном (пассивном) грамматическом виде, ибо *rodjan-ica принадлежит к пассивной причастной форме прошедшего времени лишь формально. Все говорит за то, что мы здесь имеем, так сказать, функциональный медий (средний залог: пассивная форма + активное значение). И нет никаких оснований для того, чтобы толковать это слово вместе с Мошинским как 'ta, która została urodzona'! Аналогичный медий, как и в рожан-ица, наблюдается в слав. *pьjanъ, русск. пьян, пьян-ица (тоже в основе страдательное причастие с действительным лексическим значением). Нашей задачей было показать здесь высокую архаичность слова рожаницы, которую историки культуры чувствовали, может быть, лучше, чем языковеды.
Вернемся теперь снова к нашей книге об этногенезе и культуре. Периоду более высокой религии и соответственно развитой теонимии (и то, и другое синонимично героическому веку классической древности) совершенно естественно предшествовал период молчаливого поклонения, и пение гимнов героического века - отнюдь не извечная категория. Достаточно сравнить вторичность *pojǫ 'пою, воспеваю' на основе pojǫ 'пою, даю пить' в славянском. Именно этим более архаичным периодом датируется такая выдающаяся эксклюзивная славяно-латинская изоглосса из области древнейшей религиозной практики, как *gověti 'поститься', 'хранить молчание', 'воздерживаться', 'благоприятствовать' -favēre 'быть благосклонным', 'хранить молчание'. Это можно определить как стадию favēre. Так что сначала безмолвное почитание богов или, правильнее сказать, - безымянных сил природы, при полном отсутствии самих имен и терминов. Свидетельство лат. nūmen 'безмолвный знак, кивок; изъявление божественной воли; божество' может тоже считаться красноречивым архаизмом стадии favēre. И только после стадии favēre наступает стадия hávate, обычно столь неумеренно обобщаемая современным исследованием. Реконструкцию в собственном смысле при этом путают с транспозицией. В начале всякой культовой и именотворческой деятельности была неизреченность, табу и различные запреты. Только типологически здравое рассмотрение (пра)славянской культуры как самостоятельного диалектного
425
![]()
варианта способно оградить от потопа дюмезилевской системы славянскую (как и любую другую!) самобытность. Мошинский, правда, не согласен следовать школе Дюмезиля, но то, что мы получили в его книге, это, собственно говоря, дохристианская славянская религия глазами доброго христианина, и это его благочестивое приношение, похоже, уже в силу одного этого сужения поля зрения отвечает не всем требованиям науки.
После предложенного параллельного чтения двух книг о культуре праславян можно выделить еще несколько вопросов, заслуживающих дальнейшего (хотя бы краткого) обсуждения. Для меня это, в первую очередь, славяно-латинские изолексы высокой архаичности, предпочтительно из сферы древнейшей религии. Вслед за уже упоминавшейся парой слов *gověti — favēre назову дальше праслав. *mana (русск. диал., укр. и блр.) 'привидение', *manъ (польск. диал.) 'галлюцинация', (русск. диал.) 'нечистый дух, обитающий в доме или в бане' и лат. mānēs 'духи умерших'. Ср. еще русск. диал. манья́ 'приведение, призрак', укр. диал. манія́, блр. диал. мáнія - с тем же значением и лат. māniae 'призраки мертвых'. Общность форм и значений при этом столь велика, что мы чувствуем себя вправе говорить здесь об общих началах культа предков, культурном событии, совершившемся намного раньше, чем, скажем, тот гораздо более поздний славяно-иранский культурный обмен из эпохи более развитой религии (о чем выше).
Таковы данные моей книги по этногенезу и культуре 1991 г. С того времени были выполнены еще две работы на тему, а именно доклад на съезде славистов в Братиславе (17) и его продолжение. А главное, о чем стоит упомянуть (помимо критики наивной "реконструкции" Лейстом и Леманом первой заповеди праиндоевропейского общества "Тебе надлежит чтить богов" (!!), чему я настойчиво противопоставляю свою версию древнейшей заповеди, а именно *g̑nō- su̯om g̑enom = *znajь svojь rodъ 'знай свой род'...), это, собственно, еще одна эксклюзивная славяно-латинская изолекса, почерпнутая из практики работы над Этимологическим словарем славянских языков, и на этот раз тоже из нравственно-религиозной сферы. Со славянской стороны это *nebasъ (кашубскословинское 'негодяй', русск. диал. 'грубый'), сравниваемое со знаменитой латинской правовой формулой ne-fās 'грех', и образующие с ними обоими пару утвердительное праслав. диал. *bas- (русск. диал. суффиксальные производные со значениями 'хороший, красивый') и лат. fās 'божественный закон'. Славянские лексемы из области религии *gověti, *manъ/а и *basъ/*nebasъ с их латинскими соответствиями следует понимать также как нашу корректуру к заключению Голомба (18, с. 173) о том, что в северозападном индоевропейском лексиконе религиозные термины отсутствуют.
У нас нет желания ввязываться в дискуссию, отвечает ли праславянская духовная культура больше религии, а не мифологии. Для далекоидущих
426
![]()
аналогий с мифологией классического типа как будто нет достаточных оснований. Но и здесь нигилизму все же стоит предпочесть дальнейшую работу по реконструкции. Эта дальнейшая работа могла бы выявить дополнительную информацию о местных божествах. А с другой стороны - пополнить наши сведения о так называемых главных божествах, не претендуя при этом на раскрытие целых "мифов". Лучше оставаться при этом на лексико-семантическом уровне, опираясь, разумеется, на здравые этимологии. Возможности последних далеко еще не исчерпаны, бывает, что и результаты полученные ранее, остаются порой втуне, как та этимология Куриловича: слав. *koščunъ (и родственное) как калька иранского astvant- 'преходящий, бренный', буквально 'костеобразный', ср. (19), и это - о человеческой душе! Выходит, что все это гнездо слов, столь весомое в плане христианских этических норм, - *koščunъ/*koščuna, *koščuniti, русск. кощýнство - следует считать дохристианским праславянским. Что касается малоизвестных местных божеств, то я мог бы указать пока на два примера. Один из них, особенно веский в моих глазах ввиду его локализации на Среднем Дунае предположительно праславянского времени, - это имя из римской эпиграфики Dobrati(s), в надписи II-III вв. н.э. из Нижней Паннонии (Intercisa на Дунае), собственно, праслав. *dobrotь 'добро, доброта', в данном случае персонифицированное (надпись на барельефе с изображением конного божества), см. об этом у меня (2, с. 100-101). Второй из двух моих примеров, возможно, не столь многозначителен, но тоже может быть отнесен к древности. Я имею в виду случаи потенциальной сакрализации праслав. *děva, притяжательное прилагательное *děvinь 'девичий, девственный', засвидетельствованные в топонимии. Это как правило обрывистые скалы, труднодоступные (и, возможно, культовые?) места, в их числе - знаменитый Девин в Словакии, при впадении Моравы в Дунай. В отличие от Л. Мошинского, Б.А. Рыбаков специально пишет о нем, о распространении святых гор с такими именами во всем славянском мире и о прочной связи древних ритуальных традиций с ними (13, с. 285). В качестве параллели можно сослаться на синонимичное греч. Παρθένιον, например, в античном Крыму.
Праславянские имена богов остаются по-прежнему актуальной темой. С апеллативом *bogъ связана вероятно праславянская производная форма *bogytъ, что-то вроде 'место, посвященное богу', образованная с суффиксом -ytъ от *bogъ, засвидетельствовано прежде всего как название горы Богит, в непосредственной близости от места, где был найден знаменитый збручский идол; см. об этом и о раскопках И.П. Русановой там же (14, с. 250, 251, 767). Остается сказать, что, например, А. Вайян ничего не знает об этом архаичном производном на -yt-, ср. (20, с. 700). В свое время оно ускользнуло и от нашего внимания, я имею в виду гнездо *bogъ в нашем Этимологическом словаре славянских языков.
427
![]()
Несмотря на то, что выше мы констатировали нарицательное употребление слова *perunъ 'гром' от праславянского до современности, что, так сказать, ослабляет безусловно божественную природу обозначаемого именем *Perunъ и ставит его под вопрос, все же многое говорит также в пользу еще праславянской народной веры в этого бога. В пользу этого говорит, например, и своеобразная табуизация имени этого бога с помощью народных вариантов вроде paron, parom, а также taron и др., которые, тем самым, вряд ли имеют что-нибудь общее с анатолийскими именами бога грома, как напр. хетт. Tarh̯un-; совершенно излишне также принимать для западнославянского диалектного taron кельтское происхождение, ср. (21). Одной этой табуизации достаточно, чтобы удостоверить божественный статус Перуна. Попытка уравнять заимствованного Сварога с исконным Перуном, а Велеса, так сказать, лишить божеского сана (и то, и другое в вышеназванной книге Л. Мошинского) выглядит все-таки недостаточно обоснованной. Вместо того, чтобы совсем отделять восточнославянский вариант Волос и понимать его как преобразование заимствованного имени Βλάσιος, мы видим в нем в согласии с другими исследователями еще праславянские варианты *velesъ/*velsъ. Следы имени не только Перуна, но и Велеса широко распространены, в том числе к югу от Дуная (6, с. 455). С разных сторон поступают, далее, непротиворечивые указания на то, что, в отличие от Перуна, обитателя скал, возвышенностей, Велес выступает в связи с низинами, ср. (22, passim). Нас здесь интересуют эти "низины", позволяющие увидеть Велеса в более широких связях, а его семантику - в связи с отзвуками различных индоевропейских отношений. Хотя и несколько в тени, но все же не осталась незамеченной исследователями связь имени Velesъ с *Velynъ/*Volynъ и даже Váruna-. Начнем с этого последнего индийского имени бога, которое до настоящего времени "не объяснено убедительно" (23), в немалой степени из-за этой двусмысленности индо-иранского -r-. Р. Якобсону принадлежит идея сравнения имени Váruna- с лит. vė̃lės 'духи умерших', vélnias 'черт', Veliuonà 'богиня духов предков' и, наконец, с др.-русск. Велесъ (там же). Сравнение Велесъ с Váruna-, привлекательное, видимо, ввиду параллелизма мифологических отношений *Perunъ: *Velesъ = Indra-: Váruna-, использовалось и нашими мифологистами, ср. (24). С этой стороны мы получаем отдельные полезные намеки, например, Váruna < *Vol-un-/*Vel-un-, ср., далее, сюда же Волынь < *Vol-ūn- (25), однако, направление и смысл словопроизводства оставались все же неясными. Это допускало так же довольно широкий выбор этимологий, результатом чего явились внешне корректные этимологии, которые не могут нас удовлетворить. Напр., З. Голомб склонен видеть здесь наличие понятия власти, господства, правда, речь при этом сводится к корневой этимологии: польско-американский лингвист исходит из праформы местного названия *Ve/olyn᾽i, которое он прямо связывает с корнем глагола
428
![]()
слав. *velěti, русск. велеть, и.-е. *u̯el-
'хотеть', куда также слав. *velьjь, *velikъ 'большой, великий'
(первоначально 'мощный'). Принимая за исходное значение 'сила, власть',
исследователь толкует топоним др.-русск. Велынь, Волынь как
'подвластная земля', что-то вроде лат. dominium (откуда англ. dominion),
с ссылкой на праслав. *volstь 'власть', откуда, напр. (др.-)русск.
волость и даже чеш. vlast 'родина' (18, с. 237-238). Однако у нас
есть что возразить на это, особенно ввиду близкого параллелизма имени *Perunъ
и родственных форм, из них прежде всего Перынъ культовое место близ
Новгорода. Естественно, здесь нет никакого производного на -yni-:
совершенно очевидно, что речь здесь идет о производном от имени бога Перунъ.
От последнего абсолютно регулярно образовывалось производное с формантом -jь,
засвидетельствованное в летописях в эпоху принятия христианства:
 'Перунова
отмель', в районе днепровских порогов (26, с. 101). Кроме того, можно принять
также более архаичный способ производства с продлением гласного (врдхи), как еще
индоевропейский и вполне оправданный в культовых именах. В чистом виде это
выглядело бы как *Перынъ из *Перунъ. Фактически
засвидетельствованное Перынъ объяснимо как амальгама обеих
словообразовательных моделей, старой и более новой. Другой хороший пример на *Perunъ/*Perynь
представлен в болгарском языковом ареале, в названиях гор Перин, Пирин-планина
(27, с. 174). Таковы показания форм *Perunъ/*Perynъ/*Perynь.
Представляется, что и в случае с *Velynь, *Volynь мы имеем дело с
аналогичным развитием, засвидетельствованным, правда, фрагментарно: *velunъ
→
*velynъ/*velynь. Интересно же то, что это имя связано не с
понятием власти (см. Голомб, выше), а, скорее, с древним миром духов и богов.
Мы, как будто, имеем право говорить о праславянском имени *Velunъ
'божество низин', во многих отношениях (в том числе формальном) парном к
праславянскому *Perunъ (по нашим мифологистам, эта пара богов имеет вид *Perunъ
- *Velesъ), и, что в высшей степени интересно, с индоевропейским
соответствием в уже упомянутом др.-инд. Váruna-. Это открывает перед нами
возможность, во-первых, правильнее охарактеризовать здесь отношение форм слав. -unъ/-ynъ,
чем это делалось до сих пор (Ф. Славский в своем "Очерке праславянского
словообразования" (28, с. 134) оставляет, в сущности, необъясненным отношение
Perunъ : Perynъ : Регупь, во всяком случае его характеристика
формы Perynъ как "postać starsza" лишена всякой вероятности в смысле
славянского развития). Во-вторых, мы как будто вправе принять для праслав. *Velunъ
индоевропейскую праформу, а именно *u̯elu-n-,
далее родственно хетт.
u̯ellu-
'пастбище, луг (умерших)', см. о последнем (29), сюда же е Ἡλύσιον πεδίον,
"Елисейская равнина", потусторонний мир древних, воображавшийся в виде поля,
луга, равнины - πεδίον (30). Кроме последнего приведенного названия,
продолжающего и.-е. *u̯elu-t̯-iom,
сюда же должны быть отнесены славянские слова со
'Перунова
отмель', в районе днепровских порогов (26, с. 101). Кроме того, можно принять
также более архаичный способ производства с продлением гласного (врдхи), как еще
индоевропейский и вполне оправданный в культовых именах. В чистом виде это
выглядело бы как *Перынъ из *Перунъ. Фактически
засвидетельствованное Перынъ объяснимо как амальгама обеих
словообразовательных моделей, старой и более новой. Другой хороший пример на *Perunъ/*Perynь
представлен в болгарском языковом ареале, в названиях гор Перин, Пирин-планина
(27, с. 174). Таковы показания форм *Perunъ/*Perynъ/*Perynь.
Представляется, что и в случае с *Velynь, *Volynь мы имеем дело с
аналогичным развитием, засвидетельствованным, правда, фрагментарно: *velunъ
→
*velynъ/*velynь. Интересно же то, что это имя связано не с
понятием власти (см. Голомб, выше), а, скорее, с древним миром духов и богов.
Мы, как будто, имеем право говорить о праславянском имени *Velunъ
'божество низин', во многих отношениях (в том числе формальном) парном к
праславянскому *Perunъ (по нашим мифологистам, эта пара богов имеет вид *Perunъ
- *Velesъ), и, что в высшей степени интересно, с индоевропейским
соответствием в уже упомянутом др.-инд. Váruna-. Это открывает перед нами
возможность, во-первых, правильнее охарактеризовать здесь отношение форм слав. -unъ/-ynъ,
чем это делалось до сих пор (Ф. Славский в своем "Очерке праславянского
словообразования" (28, с. 134) оставляет, в сущности, необъясненным отношение
Perunъ : Perynъ : Регупь, во всяком случае его характеристика
формы Perynъ как "postać starsza" лишена всякой вероятности в смысле
славянского развития). Во-вторых, мы как будто вправе принять для праслав. *Velunъ
индоевропейскую праформу, а именно *u̯elu-n-,
далее родственно хетт.
u̯ellu-
'пастбище, луг (умерших)', см. о последнем (29), сюда же е Ἡλύσιον πεδίον,
"Елисейская равнина", потусторонний мир древних, воображавшийся в виде поля,
луга, равнины - πεδίον (30). Кроме последнего приведенного названия,
продолжающего и.-е. *u̯elu-t̯-iom,
сюда же должны быть отнесены славянские слова со
429
![]()
значениями 'холм', 'холмистая равнина' - *ǫ-vьlь (польск. Wawel), *ǫ -valъ (русск. увáл) - все с чертами архаики. В качестве славянских названий долины лучше известны *dolъ (с производными) и *dъbrь. Возможно, более архаично название долины, равнины, восходящее к и.-е. *u̯el-n-, откуда, с одной стороны, лат. valles, vallis, а с другой стороны - своеобразная форма в слав. *volynъ/ь, куда относятся, кроме др.-русск. Велынь/Волынь, практически только западнославянские формы - Volyně в Чехии и польск. Wolin (стар. Wollin) на Балтийском море. Исключительный характер латинско-славянской встречи vallis и *Volynь здесь тоже для меня не лишен интереса как еще одно указание на Среднее Подунавье. При этом и семантическое содержание, и словообразование могут порой носить отпечаток вторичности. К числу вторичных можно, вероятно, отнести и отдельные сакральные значения. Вполне возможно, что при этом удается этимологически разоблачить соответствующее обозначение духов или бога как табу: '(дух или божество) из (той) долины', что подошло бы для лит. vė̃lės, vélnias, но и для праслав. *Velunъ, *Velesъ, в чем, возможно, заключается причина того, почему это индоевропейское название долины на апеллятивном уровне в славянском постепенно пришло в забвение.
В общем и целом я чувствую себя, к сожалению, обязанным высказать скорее отрицательное мнение о книге Мошинского. Хороший замысел автора - представить дохристианскую религию славян в свете славянского языкознания - остался по большей части неосуществленным, и об этом стоит пожалеть, если мы серьезно думаем раскрыть религию и идеологию праславян и прежде всего - ее своеобразие. Будучи поставлены перед дилеммой - внешнее сравнение (в данном случае - метод Дюмезиля) или внутренняя реконструкция, - мы выберем, естественно, последнее.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Moszyński L. Zagadnienie wpływów celtyckich na starosłowiaiiską teonimię // Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8. Językoznawstwo. Prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratysławie 1993. Warszawa, 1992. C. 176.
2. Трубачев O.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
3. Vasmer М. Kritisches und Antikritisches zur neueren slavischen Etymologie. V. // Rocznik slawistyczny 6, 1913, c. 172 и сл. = Vasmer M. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde, herausg. von H. Bräuer. I. Bd. Berlin, 1971. C. 3 и сл.
4. U(ntermann) J. Kelten // Der Kleine Pauly. Bd. 5. München, 1979, стлб. 1612 и сл.
5. Трубачев О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
6. Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. М., 1988. С. 450 и сл., 454.
430
![]()
7. Топоров В.Н. Язык и культура: об одном слове-символе // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988.
8. Иванов В.В., Топоров В.Н. Свентовит // Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. М., 1988.
9. Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I (I-VI вв.). Отв. ред. Л.А. Гиндин, Г.Г. Литаврин. М., 1991. С. 12, 182.
10. Трубачев О.Н. В поисках единства. М., 1992. С. 40-41.
11. Fraenkel Е. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I-II. Heidelberg, 1962.
12. Giejsztor A. Mitologia Słowian. Warszawa, 1982.
13. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.
14. Рыбаков Б А. Язычество Древней Руси. М., 1987.
15. Черепанова O.A. Материалы по славянскому язычеству и мифологии в трудах И.И. Срезневского // Славянские языки, письменность и культура. Сборник научных трудов. Отв. ред. В.В. Колесов. Киев, 1993.
16. Moszyński L. Kierunki zmian semantycznych prasłowiańskich apelatywów określających przedchrześcijańskich czarowników // Philologia slavica. К 70-летию акад. Н.И. Толстого. М., 1993.
17. Трубачев О.Н. Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 3 и сл.
18. Gołąb Z. The origins of the Slavs. A Linguist's View. Slavica Publishers, Columbus, Ohio, 1992.
19. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 11. Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1984. С. 169.
20. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. Т. IV. La formation des noms. Paris, 1974.
21. Николаев СЛ., Страхов А.Б. К названию бога-громовержца в индоевропейских языках. Балто-славянские исследования. 1985. М., 1987. С. 149 и сл.
22. Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974 (особенно гл. 2: Восточнославянские Velesъ/Volosъ и проблема реконструкции имени и атрибутов противника бога грозы).
23. Mayrhofer М. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. III. Heidelberg, 1976. S. 151-152.
24. Топоров В.Н. Еще раз о Велесе-Волосе в контексте "основного" мифа // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов второй балто-славянской конференции. М., 1983. С. 50 и сл.
25. Топоров В.Н. Праславянская культура в зеркале собственных имен (элемент *mir-) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993, с. 112, примеч. 122.
26. Етимологічний словник літописних гeoгpaфiчниx назв Південної Pyci. Відповщальний редактор О. С. Стрижак. Київ, 1985.
27. Миков В. Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. София, 1943.
28. Słownik prasłowiański. Т. I. Pod red. F. Sławskiego. Wrocław, etc., 1974.
431
![]()
29. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. II. Тбилиси, 1984, с. 823, 824.
30. Wa(chsmuth) D. Elysion // Der Kleine Pauly. Band 5. München, 1979, стлб. 1596.
Palaeoslavica III (1995), pp. 211-229.
10. ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПРАРОДИНЫ СЛАВЯН (ПАРАДОКСЫ НАУКИ И ПАРАДОКСЫ ЖИЗНИ)
Прежде чем изложить свой "Взгляд на проблему...", я воспользуюсь прекрасным случаем - славным девяностолетием нашего юбиляра, чтобы добавить по этому поводу несколько слов также от себя, поскольку крупность и нестандартность Рыбакова-ученого, дружелюбие и отзывчивость Рыбакова-человека давно и непосредственно коснулись также меня, на моем жизненном и научном пути. Мне всегда импонировала эта сила, эта оптимистическая приподнятость над дрязгами, над группами и групповщиной "временных лет", эта нестандартность интересов (а ничего перечисленного у нас, как правило, не прощают). Мне немало помогла эта дружелюбно-доброжелательная внимательность к несколько иному взгляду, эта всегдашняя готовность к конструктивному диалогу, эта открытость, которую я бы, не без умысла, уподобил открытости южных пределов пшеворской культуры со стороны Среднего Подунавья... Мне немало помог, в свое время, и этот острый интерес юбиляра к древнеиндийским элементам в трипольской культуре, но я назвал здесь лишь кратко и лишь немногое из того многого, что заслуживало бы упоминания. Этот человек-эпоха в нашей культуре. У нас всегда найдутся охотники предпочесть солидное эпигонство этой увлеченности и увлекаемости, охотники разменять любые достоинства на искомые недостатки и слабости, а я, в ответ этим недобрым желателям, могу лишь с чистым сердцем повторить слова, сказанные - в свое время и о своем поколении ученых-Ньютоном: " Мы видели далеко, потому что стояли на плечах у гигантов!" Борису Александровичу Рыбакову я посвящаю сегодня эти свои мысли и чувства.
* * *
Тема прародины (или этногенеза) славян сохраняет свою актуальность. Разумеется, при опросах (анкетировании) разные лица дают различные ответы на вопрос об актуальных проблемах славянской филологии, но ответ о важности проблемы этногенеза славянских
432
![]()
народов занимает среди них свое твердое место [1]. В другом месте и в другой связи уже говорилось, что самыми захватывающими остаются такие вечные вопросы славянской исторической филологии, как происхождение славянской письменности и этногенез славян. Еще великий наш летописец Нестор запрограммировал на много столетий вперед равновеликость этих проблем, поставив вопрос, "откуда есть пошла Русская земля", отождествив русское со славянским и увязав со всем этим комплексом славянскую грамоту.
Имя Нестора памятно и в связи с самой старой народно-литературной традицией о славянах как выходцах со Среднего Дуная. Ее истоки старше нашей - тоже уже более чем тысячелетней - письменности, что оправдывает взгляд на эту традицию как на традицию народную, несомненно, еще донесторовскую, судя по дошедшим до нас ее отголоскам в раннесредневековой латинской письменности - у анонимного Баварского географа IX в., с цитируемым у него, многозначительным для нас "королевством Zeriuani" (эмендация: Zeuirani) на левом ("северном") берегу Дуная, "откуда якобы ведут начало все племена славян", а также у некоего еще более раннего Равеннского анонима, который в своей "Космографии" помещал места, "откуда вышел род славян", "в шестом часу ночи", к западу от сарматов и карпов, которые (карпы) обитали "в седьмом часу ночи" и притом к югу от Карпат, то есть в Дунайском бассейне.
Острокритический разум Копитара не помешал ему в начале XIX в. заявить о том, что именно на Дунае, где-то ниже Вены, было в древности место, где словаки и словенцы, а точнее их предки, "подавали друг другу руки", - место древнего проживания славян. Впрочем, и для него это оставалось "старой традицией", а свои рассуждения он облек в ироническую форму "Патриотических фантазий одного славянина", но устами этого славянина уже говорил ученый-славист нового времени. Прошло еще не одно десятилетие, прежде чем идею автохтонности славян в Центральной Европе и прежде всего - на Среднем, паннонском, Дунае попытался систематически обосновать Шафарик, бывший не только великим ученым, но и трезвым документалистом, которого меньше всего можно упрекнуть в фантазии. Однако наступал век критики, входил в силу позитивизм с его подчеркнутой верой только наблюдаемому факту. Кажется, именно позитивизму с его формалистской прямолинейностью мы обязаны усложненно спиралеобразным развитием нашей области знания. Как бы то ни было, тенденция потеснить реконструкцию за счет преувеличенно "точного" описания не может не считаться регрессом. Лакуны в письменной истории славян, которые стремился вдумчиво восполнить Шафарик, сыграли свою роковую роль. От теории Шафарика отвернулись как от "устаревшей". Характерно
1. Дуриданов И. Aktuální otázky slovanské filologie a Šafáríkův védecký odkaz. = Slavia 65, 1996, seš. I. C. 16.
433
![]()
высказывание 1908 г., принадлежащее польскому ботанику и историку культуры Ростафинскому: "Никто больше не считает дунайскую Паннонию колыбелью славянских народов".
С начала нашего века появились, одна за другой, более "реалистические" теории прародины славян. За относительно короткое время их вышло довольно много, что уже само по себе могло показаться сомнительным, тем более что теории часто взаимно исключали одна другую. Некоторые были быстро забыты и с трудом припоминаются теперь даже в интересах полноты истории вопроса. Феномен множественности современных теорий прародины славян сам по себе вправе привлечь внимание общего науковедения и психологии научной мысли. Инспирированная природоведением теория генеалогического древа индоевропейских языков, достаточно авторитетная, несмотря на все контроверзы, как бы диктовала генеалогическую нишу славянской "ветви" между двух других ближайше родственных "ветвей". Это и явилось, пожалуй, единственным, что объединяло все новейшие теории славянской прародины, во всем остальном представляющие удивительную разноголосицу и вкусовой произвол отдельных исследователей. При этом признававшийся постулат балто-славянской и германо-славянской языковой близости оказался неестественно статичен, в основном он так и остался на уровне теории упомянутого "древа", при слабом и недостаточном использовании достижений пространственной лингвистики, лингвистической географии, при неудовлетворительной стратиграфии древних и более поздних языковых связей, исконнородственных и контактных отношений. Письменная история действительно застала древних германцев в Северной Германии, Ютландии и Южной Скандинавии, а балтов приблизительно в Понеманье (судины, галинды), но это вовсе не давало основания для статичного положения о том, что они там были всегда, а для новых теорий славянской прародины как раз это статичное положение служило исходным постулатом. Реальная же динамика обоих близких родственников славян предполагала, что и те, и другие в более раннее время сидели южнее: германцы - ближе к кельтам, в Южной Германии, балты - ближе к дако-фракийцам и соответственно - южнее Припяти. Понятно, что многое из этой динамики несколько прояснилось лишь во второй половине XX века, и неучет сказанного некорректно ставить в вину этногенетическим исследованиям первой половины века. Но остается все же фактом наличие характерной для них определенной парадоксальной диспропорции между их заявленной "новизной" и присущим им комплексом недостаточного знания, что заранее предопределяло короткий их век.
Нидерлеанская концепция прародины славян, составить представление о которой нетрудно, хотя бы ознакомившись с главой II "Прародина славян" русского издания книги Любора Нидерле "Славянские древности", опирается на крайне несложную и зависимую
434
![]()
от вышеупомянутого лингвистического постулата аргументацию: "где-то по соседству с этими народами" (то есть германцами и "литовцами"); примерно столь же кратки и столь же вторичны аргументы, побуждающие знаменитого чешского археолога "отнести прародину славян на север от Карпат", а точнее - от Эльбы до Среднего Поднепровья с Припятью. Так обстоит дело с теорией, якобы поставившей точку в старом вопросе о придунайской традиции. После этого, как считается, серьезные выступления в пользу дунайской прародины больше не предпринимались. Наоборот, множились, опыты более северной локализации прародины славян, из них крайние - на Западной Двине, в Понеманье (Я. Розвадовский. A.A. Шахматов) - были отвергнуты и забыты ранее других. Идея балто-славянского языкового единства целиком определила учение А.И. Соболевского о славянском как слиянии двух языков - "языка-C" балтийского типа и "языка-Х" иранского типа, а также о проживании балто-славян где-то в юго-восточной Прибалтике. Суммой экологическо-лингвистических взглядов своего времени являются взгляды М. Фасмера, который, опираясь на растительные ареалы Ростафинского и труды Нидерле, остановился на той части Полесья и Среднего Поднепровья, где сосредоточена группа "чисто" славянских гидронимов. Эти поиски области, где "не было" германцев, фракийцев и других неславянских индоевропейцев, сыграли свою роль и предпринимались также позднее, уже в наше время, Ю. Удольфом, остановившим свой выбор на польском Прикарпатье и Галиции. Возможно, они сказались и на отрицании дунайской теории славян, потому что трудно назвать другой такой пример ономастической и культурной пестроты, как Среднее Подунавье. Но этот аргумент фасмеровской школы сейчас неприемлем, он неприменим ни в Среднем Подунавье, ни в Среднем Поднепровье, потому что и в последнем достаточно неславянских ономастических данных, а главное - потому что стерильно чистых (моноэтничных) этноязыковых ареалов не существовало никогда.
Сторонниками среднеднепровской прародины славян были К. Мошинский и Ф.П. Филин. Надо иметь в виду, что ко второй половине XX в., когда более прямолинейная старая теория балто-славянского языкового единства постепенно уступала место концепциям длительного соседства и общения балтов со славянами, Поднепровье по-прежнему сохраняло свою естественную притягательность в качестве предполагаемого ареала этих контактов. Однако и в этом случае бесспорность северного, восточного и юго-восточного направления миграций днепровских славян, а также очевидное отсутствие надежных данных об их миграциях, скажем, в западном направлении позволяли видеть в славянском Среднем Поднепровье пусть раннюю, но все же периферию восточной экспансии славян. Новые попытки польского археолога К. Годловского представить дело так, что польские земли заселялись славянами с приднепровского
435
![]()
Востока, вызывают сомнения у широко ориентированных специалистов, хотя и сигнализируют сами по себе о кризисе висло-одерской теории славянской прародины, с самого начала объединившей вокруг себя большинство польских лингвистов, археологов и ученых других специальностей, назовем здесь из них лингвистов Т. Лер-Сплавинского, М. Рудницкого. За пределами Польши близкие к этой теории взгляды последовательно разрабатывали лингвист В.В. Мартынов и археолог В.В. Седов. Насколько важен для сторонников висло-одерской школы балто-славянский аспект, видно из трудов Лер-Сплавинского и Мартынова, в которых славянский рассматривается как вторичный продукт наслоения западного индоевропейского этноса (лужицкого неясной принадлежности или италийского) на балтийский (западнобалтийский) языковой ареал. Близкие отношения славянского языка-"сына" и балтийского языка-"отца" предполагает и В.Н. Топоров.
Если довольно новая теория З. Голомба о прародине славян и, кажется, всех индоевропейцев на верхнем Дону (тоже, кстати, построенная на изначальном соседстве славян и балтов и на их якобы общем продвижении оттуда на Запад) вряд ли может быть признана убедительной, хотя бы потому, что противоречит противоположному направлению исторической миграции радимичей-вятичей и доисторической миграции вероятных археологических индоевропейцев-фатьяновцев - с Запада на Восток, то висло-одерская теория, как это следует признать, показательна в ряде отношений и открыта дискуссиям. Во-первых, эта теория - самая западная из всех новых теорий славянской прародины, она, так сказать, территориально наиболее близка к Центральной Европе и, если угодно, к Среднему Подунавью. Во-вторых, остается неуточненной именно южная граница условного висло-одерского ареала праславян, причем среднедунайский ареал (или его импульсы) мог как бы переходить в висло-одерский. Парадоксальность подобного поворота - в том, что сакраментальная для современной науки антитеза "к северу от Карпат" - "к югу от Карпат" при этом вовсе снимается, и в этом нет ничего удивительного, потому что горная цепь Карпат, хотя и представляет собой этноисторический и геополитический рубеж Европы, вместе с тем всегда была проницаема и удобопроходима (Янтарный путь, Моравские ворота и ряд перевалов).
Следует отметить определенную готовность к диалогу со среднедунайской теорией прародины славян в ее новом варианте как характерную именно для представителей висло-одерской теории, другие современные теории славянской прародины, не имея "общих границ" с дунайской теорией, могут по-прежнему "не замечать" дунайскую теорию, тогда как висло-одерская теория не может себе этого позволить. Лингвисты не вправе оставлять без внимания то, что некоторые современные польские специалисты из числа археологов-"вислоодерцев" уже в течение ряда лет прямо допускают, что
436
![]()
славяне не заселяли Среднее Подунавье с севера, а наоборот - импульсы этнообразования шли из Подунавья в Повисленье (В. Хенсель, М. Парчевский). О сложной и по-своему интересной позиции нашего археолога В.В. Седова стоит потом сказать особо.
Но сначала - в продолжение уже намеченного выше - несколько слов о взглядах на сущность славянского этногенеза без его пространственной локализации, то есть этногенеза-происхождения славянского этнолингвистического типа как такового. И здесь наука нового времени порой является ареной новых взглядов, "новизна" которых удивительно напоминает старинные родословные с их заветной целью обязательно отыскать знатного иноплеменного родоначальника. После того как даже опытные лингвисты поддались искушению выводить славян "от балтов", чего, спрашивается, можно ждать от популярной, учебной (в том числе небрежно переводимой) литературы, в которой даже сегодня встречаются утверждения, что "...предками славян считаются сарматы [в тексте, к тому же, с грубым искажением, - "самаритяне..." - О. Т.] и скифы" [2]. Короче говоря, формально принадлежащие науке XX в. умозрительные концепции всякого рода о славянах и их языке как сложении двух этносов и языков представляются нам бесспорным регрессом после гениального прозрения почти двухсотлетней давности И. Добровского о том, что "славяне есть славяне", а значит они не даки, не геты, не фракийцы, не иллирийцы и не балты. В современных терминах речь идет о славянском как особом индоевропейском языковом типе. Одна из достовернейших задач современного языкознания видится в насыщении этой наиболее адекватной модели славянского конкретным лексическим, историко-этимологическим содержанием (одна лишь структурно-морфологическая модель языкового типа, которой прежнее языкознание отдавало приоритет, не обеспечит оптимального насыщения в том, что касается этноязыковых характеристик и связей). Этой задаче был посвящен Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд), выходит с 1974 г.: A-N-. Словарь еще далек от завершения, но уже сейчас это наиболее продвинутый проект по праславянской лексикографии, делающий возможной также ареальную проекцию накапливаемого лексико-этимологического материала в плане поставленной выше задачи детальной характеристики славянского языкового типа. В ходе исследований и критической оценки этих исследований высказываются порой мнения, что ЭССЯ обедняет картину балто-славянских отношений, но при этом все же кажется, что взамен нам предлагают транспозицию в прошлое действительно многочисленных, но вторичных близких образований балтийского и славянского, больше подходящих под понятие языкового союза, установившегося между балтийским и славянским. Отождествлять безоговорочно
2. Карманная энциклопедия the Hutchinson. "Внешсигма". М., 1995. С. 501.
437
![]()
этот вторичный балто-славянский языковой союз и древние отношения балтийского и славянского, о реконструкции которых идет речь, все же, наверное, не следует. Сейчас можно говорить уже о некоторых результатах этой реконструкции. В двух словах это выглядит как весьма различная лексическая реализация семем (понятий) древней жизни и культуры соответственно в балтийском и славянском. Древняя языковая картина мира этих двух безусловно родственных диалектных групп складывалась как бы порознь, отличаются и их внешние, индоевропейские изоглоссы (изолексы). Групповая реконструкция, предпринятая еще в исследовании 1966 г. на материале древней ремесленной терминологии, показала ориентацию славянского не на связи с балтами, а на контакты с более западными индоевропейцами - германцами, италиками, кельтами. Можно сказать теперь, что ЭССЯ не поколебал, а многократно усилил, подтвердил эту преимущественно западную ориентацию славянского. Практика реконструкции ЭССЯ сказала свое решительное слово в споре между парадоксально поздней письменноисторической "явленностью миру" и фактической древностью и самобытностью этнолингвистического типа славян, оставляя все меньше оснований для популярной еще фетишизации в основном действительно поздних абсолютных хронологических письменных датировок славянства. Потенциальная случайность этих последних - таков, может быть, важнейший корректив в адрес позитивистских построений. Феномен этнической самобытности славянства достоин внимания и изучения, взять хотя бы этот факт единого этнического самоназвания - словѣне, *slověne, несомненно свидетельствующего о наличии соответствующего самосознания - сознания этнического единства. Народный, живой статус этого обозначения применительно к самим себе подтверждается свидетельствами для разных частей славянства, ср. тождество словѣньскъ и русьскыи, на что специально обращает внимание Нестор ("одно есть"), синонимичность slovenski и hrvatski применительно к хорватскому народу, с преобладанием в ранние эпохи термина slovenski, как это было отмечено В. Ягичем. Кстати сказать, живое и активное самоназвание, охватывающее всю совокупность древних славянских племен и диалектов, - черта отнюдь не банальная, отсутствующая, например, у германцев, как и у балтов: обеим этим ветвям ныне принятые названия были искусственно придуманы в ученых кабинетах уже на памяти современного научного языкознания (еще Я. Гримм охотнее употреблял название die deutschen Sprachen, в сущности "немецкие языки", о германских языках). И то, что рядовые носители русского языка в массе своей сейчас, скорее всего, уже не сознают себя славянами, есть утрата их этнического самосознания, - факт, нуждающийся в правильной интерпретации.
Но вернемся к вопросу о возможности сближения дунайской и висло-одерской теорий славянской прародины, к пунктам, которые
438
![]()
могли бы способствовать их взаимному диалогу. Кроме уже сказанного бегло выше, я ограничусь здесь заинтересовавшими меня моментами такого рода в исследованиях нашего авторитетного археолога-слависта В.В. Седова, в целом придерживающегося именно висло-одерской теории. В.В. Седов исключительно активно работает над проблематикой: только за последние годы им опубликованы две капитальных книги, не говоря о работах меньшего объема. Славяне в древности и в раннее средневековье получают в них всестороннее освещение. Седов-археолог систематически и на хорошем уровне применяет все доступные лингвистические данные. Импонирует также его объективное и внимательное отношение к аргументам современного варианта дунайской прародины славян. Так, не довольствуясь изучением локальных германо-славянских связей на западном фланге собственно висло-одерского ареала (суково-дзедзицкая культура V-VI вв. н.э.), В.В. Седов столь же внимательно рассматривает выдвинутое О.Н. Трубачевым положение о центральноевропейском культурном районе, предполагающее связи славян с западными индоевропейцами (в их числе германцами, италиками, кельтами) несравненно более раннего времени и в более южных, центральноевропейских координатах. Далее (и это не менее существенно), по наблюдениям Седова, устанавливается опосредованная связь от позднеримских (провинциальноримских) древностей, естественно, ассоциируемых со Средним Подунавьем, а не с поречьем Вислы и Одера, к раннеславянским древностям материальной культуры (имеется в виду прешовский очаг пражско-корчакской культуры славян, помещающийся в Восточной Словакии, то есть на юг от Карпат): эта западная связь ведет довольно далеко на Восток, отложившись на Средней Волге (Самарское Поволжье) еще в первых веках н.э. в виде так называемой именьковской раннеславянской археологической культуры с характерными полуземлянками и провинциальноримскими находками. Показательна однонаправленность этих влияний (с запада на восток), их истоки в дунайском регионе, а не в иранизированном Поднепровье (отсутствие сарматских влияний в именьковской культуре!). Правда, В.В. Седов увязывает именьковскую культуру с пшеворским культурным ареалом (Висла - Одер), но, согласимся, ряд названных выше параметров непротиворечиво соответствует дунайской теории.
Для идеи славянского континуитета в Среднем Подунавье небезразлично раннее наличие индоевропейцев вообще в этих же примерно местах: археология давно уже говорит о дунайском культурном круге и об индоевропейских этноязыковых группообразованиях в придунайской зоне, причем ряд параметров ограничивает (позволяет считать вторичным) слишком большое удаление от этого центра как в северном направлении (древнее оледенение), так и в южном. И те, и другие ограничения вряд ли можно игнорировать. Назовем лишь выборочные данные, помогающие ограничивать южные индо-
439
![]()
европейские пределы, один из самых замечательных - "аргумент березы", дерева, название которого уверенно реконструируется как пра-и.-е. *bherəg̑os, совершенно однозначно этимологизируется ('белая, с блестящей корой'), причем и сама реалия, и четкость словоупотребления (да и роль того и другого в фольклоре) показательно убывают по мере продвижения на юг. Старый вердикт "к югу от Кавказа нет бобра" тоже остается в силе: vice versa - языки с и.-е. *bhebhros 'бобр' целесообразно локализовать севернее. Восточноанатолийская прародина индоевропейцев (где-то на Армянском нагорье) все-таки крайне спорна, несмотря на фундаментальность последней попытки, предпринятой для ее обоснования (Гамкрелидзе-Иванов), как и ее сомнительные выраженно южные аргументы вроде постулированных праиндоевропейских терминов для льва и обезьяны.
Конечно, культурная публика уже привыкла к информации о древнейших находках человека прямоходящего - не в Европе, а в Восточной Африке, а оттуда как будто заметно ближе до Передней Азии и Ближнего Востока (и в том числе - Анатолии), но стоит, возможно, пока удовольствоваться мыслью, что между этим онто- и филогенезом полутора- или двухмиллионнолетней давности и интересующим нас здесь макроэтнообразованием пролегает гигантская временная дистанция, а прямая (прямолинейная) последовательная связь практически начисто отсутствует. Разумеется, связь между Подунавьем и Балканами, с одной стороны, и Малой Азией - с другой, существовала всегда и до того, как возникли проливы, и после того, и связь эта была удобнее и короче, чем через более суровый Кавказ, знаменуя как бы тем самым еще один "плюс" в пользу локализации истоков индоевропейского этнообразования в Подунавье. Названная связь теоретически могла носить двусторонний характер, но ко времени индоевропейского этнообразования (и в связи с ним) преобладали, думается, оттоки (импульсы) из этого культурного круга в сторону Малой Азии, - так же, как это констатируется о центробежных уходах из Центральной Европы в других направлениях (см. об этом уже отчасти выше). Собственно говоря, главное, что хотелось бы здесь иметь в виду из этого отвлечения, - это индоевропейско-славянская преемственность и концентричность в Среднем Подунавье. Характер славянского языкового развития (например, сатэмность как инновация по отношению к состоянию-кентум, к тому же, судя по всему, инновация, отличная от балтийской сатэмности) делает естественной мысль о близости славянского к инновационному центру индоевропейского ареала. Разносторонние культурно-изоглоссные связи славянского делают как будто, со своей стороны, эту пространственную привязку более вероятной. Так, например, обращают внимание на первоначальное отсутствие культуры хлебного злака ржи в древнем германском ареале (соответствующая лакуна в материальном ассортименте ясторфской археологической культуры), с последующим, по-видимому, приобщением также германцев
440
![]()
к возделыванию ржи, которое (лексема рожь и реалия) в своем распространении с юга, юго-востока на север пришло к германцам, скорее всего, от славян (герм. *rugi- < протослав. *rŭgĭ-. слав. *rъžь). Не покидая тему земледелия, вспомним о приметах его древней центральноевропейской ориентации у славян, куда относится культурная и терминологическая инновация, связанная с введением плуга ( слав. *plugъ с его вероятным также заимствованием германцами, при отсутствии соответствия в балтийском), далее - особое славянское название древнего невымолачиваемого сорта пшеницы Triticum spelta - *pъlba, полба, связанное с латинским названием каши из полбы pulslpultis, а также латинским spelta 'полба', предположительно из паннонского. Важных славяно-древнелатинских изоглосс, которые тяготеют также к Центральной Европе (с другим регионом их было бы трудно ассоциировать), я уже касался неоднократно: кроме вероятной древности, они характеризуются охватом значительного понятийного спектра (ландшафт, сельское хозяйство, древнее ремесленное производство, культ предков, элементарные этические нормы). Здесь ограничусь только упоминанием последней по времени обнаружения при работе над ЭССЯ и, кажется, очень важной изоглоссы лат. fās/nefās 'закон'/'беззаконие, грех' - слав. *bas-/*nebasъ 'красивоеVнегодное', взять хотя бы архаичность латинской конструкции с ne- отрицательным (на фоне более новых in-, im-).
Задачей (одной из задач) нынешнего моего обобщенного взгляда на ситуацию вокруг проблемы с прародиной славян было именно обобщение некоторых типичных особенностей этой ситуации, которое я попробовал дать по возможности не погружаясь ни в море фактов, ни в океан литературы. Кажется, что при более подробной подаче того и другого остается в тени то общее, что как раз заслуживало бы интереса (вопрос о движущих мотивах и ориентирах при теоретизировании на тему славянской прародины, который я выше затронул). Как часто случается в науке, достаточно старая проблема формируется или порой - попросту деформируется, невольно оказываясь объектом парадоксальных ситуаций, причем парадоксы науки не всегда отличимы от парадоксов жизни - привычных суждений, предвзятых мнений, психологии людей. Вот об этом - еще несколько слов, оставляя наиболее ясные случаи практически без комментариев.
Итак, парадокс первый. В обзорной программной статье Магдалены Берановой "Шафарик и современная археология" наталкиваемся на фразу: "Любор Нидерле стоял когда-то у колыбели Славянского института (в Праге. - О.Т.). который должен был работать в шафариковских традициях..." [3] - То, что работа "в духе традиций"
3. Beranová М. Šafářík a současná archeologie // Aktluálni otázky slovanské filologie a Safáříkův vědecký odkaz. Slavia 65/1, 1996. S. 102.
441
![]()
обернулась их отрицанием, кратко сказано выше. Чтó и насколько фундаментально было противопоставлено традиции Шафарика? Об этом - парадокс второй, удобно иллюстрируемый цитатой из той же программной статьи:
"Мы теперь (уже) не ищем славян в Венгерском Подунавье, хотя и верно то, что мы не знаем определенно, какой народ, какие люди жили там и на каком языке говорили в I тыс, по Р.Х." [4] (подчеркнуто мной. - О.Т.).
Communis opinio принято уважать - в общественной жизни, в науке. Факты, которые общепринятому мнению противоречат, рискуют долго остаться незамеченными, хотя временами кажется, что факты - это первое, что нужно всем. Так, все (или почти все) верят, что славяне жили севернее границы Лес/Степь и что у них нет древней степной терминологии. Праславянские названия степных птиц куропатки и дрофы со своими древними -ū- основами говорят о другом (парадокс № 3), но - великое дело привычка. Следующий по счету (№ 4) парадокс - весьма общего свойства, но славистика от него страдает едва ли не в первую очередь: наблюдается, с одной стороны, универсальная современная тенденция удревнения этноисторических датировок и только славистика по-прежнему во власти заторможенной готовности поздно датировать "распад праславянского языка" (такое впечатление вынесли участники недавней одноименной конференции "Praslowiańszczyzna i jej rozpad", Краков, XII. 1996). С этим тесно связан очередной парадокс (№ 5), которым мы целиком обязаны рутине научной мысли: согласно удобной фабуле, существовал единый праславянский язык, потом он распался, хотя единых (бездиалектных) языков не бывает, тем более не могло их быть в древности. Письменные даты потенциально случайны, "упомянуто впервые" не значит, что именно тогда только появилось, но позитивистская рутина такова, что с этим ничего нельзя поделать (парадокс № 6), тем паче, что письменные даты так удобно торжественно отмечать. Реальная, фундированная реконструкция весомее иных письменных дат, важность лингвистической реконструкции специально выделил синхронист Соссюр в своем "Курсе общей лингвистики", но я что-то не помню, чтобы "Курс" хвалили именно за это. Поздно датированный письменно, а тем более "незаметный" этногенез славянам не хотят простить, во всяком случае предпочитают понимать буквально (до VI в. славян якобы не было), пренебрегая элементарной типологией, например - тем, что еще позже были упомянуты письменной историей такие автохтоны Балкан и Подунавья, как албанцы и румыны. Последний, сакраментально 7-ой, парадокс кажется особенно многозначителен: перспективы применения современных научных критериев лингвистической географии, типологии, изоглоссного метода связываются в гораздо большей степени с возрождением "старой" дунайской теории, чем с более новыми и современными.
4. Ibidem, s. 101.
442
![]()
* * *
Нынешней осенью, находясь по делам и по приглашению в Германии, я посетил Дрезденскую картинную галерею и Мюнхенскую Пинакотеку. При всем богатстве виденного, одно довольно стойкое впечатление не покидало меня, и я не могу не вспомнить о нем здесь, потому что речь идет все о том же парадоксе славянского присутствия-отсутствия. Да, я знаю, что и в Германии сейчас наберется достаточно объективных умов, признающих, что Европа - это в сущности симбиоз Германии, Романии и Славии, но, бродя по упомянутым прекрасным залам, я видел во множестве Германию, Романию, видел аллегорические полотна типа "Italia und Germania" и лишь Славии там не нашел, как будто не было ее совсем. В чем причина - в "гордыни западноевропейского образа мыслей", как не без основания думают некоторые, или в нашем легкомысленном небрежении традиций Шафарика? Но кажется - что и в том, и в другом.
Политехнический музей в Москве. Декабрь 1996 г.
11. О 'РЯБЧИКЕ', 'КУРОПАТКЕ' И ДРУГИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЯХ СЛАВЯНСКОЙ ПРАРОДИНЫ И ПРАЭКОЛОГИИ [*]
Хеннинг Андерсен, профессор славистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, известный своими трудами по исторической и описательной фонетике, морфологии, типологии и лингвистической географии славянских языков, выступил на этот раз в несколько новой для себя области, если иметь в виду предпринятые им интенсивные разыскания в области этимологии слов - названий рябчика и куропатки в славянских языках. Однако проявленная им при этом широта взгляда, равная и глубокая заинтересованность во многих, подчас весьма различных, аспектах исследования, высокая теоретичность с одновременным очень пристальным вниманием к конкретному факту - будь то языка или истории культуры, иными словами - все лучшие качества, проявленные и накопленные опытом предшествующих работ этого датско-американского ученого, делают чтение этой новой его работы остроинтересным и поучительным.
*. Нижеследующая статья основана на чтении английского оригинала: Andersen Н. A glimpse of the homeland of the Slavs: ecological and cultural change in prehistory. Непосредственно к нему восходят и все цитаты в моем переводе. - О.Т.
443
![]()
Обратившись в данном случае к преимущественно традиционной, этимологической, тематике, Андерсен намеренно трактует ее в подчеркнуто современной манере, давая понять, что для его задач это не центральный, а как бы один из многих аспектов исследования. Это находит свое выражение в том, что этимология (все же занимающая видное место в авторской методике) не вынесена в заглавие статьи, где сделан нарочитый акцент на включенности (всей) лингвистики в культурологию и даже на модной теперь экологии. Нельзя не отдать должное автору - даже будучи вынуждены признать крайними или преувеличенными ряд его утверждений (о чем специально ниже), согласимся, что столь же, пожалуй, часто именно его трактовка, его острые наблюдения расчищают путь к реконструкции славянского языкового и культурного прошлого в самом широком смысле.
Поскольку новая работа X. Андерсена довольно обширна и - вследствие этого - труднообозрима, для начала напомню ее основные положения. Наблюдательный автор прежде всего констатирует факт некоторой избыточности славянской терминологии, относимой к позднепраславянскому времени, а именно - наличие двух названий для 'рябчика Bonasa bonasia' - *jerębĭ и *lěščarŭka и двух - для 'куропатки Perdix perdix' - *jerębĭ и *kuropŭty [1]. Андерсен прав, полагая, что вскрытая им таким образом синонимия и полисемия требуют специального объяснения. При этом отмечается, что *lěščarŭka 'рябчик' и *kuropŭty 'куропатка' представляют собой (практически до сих пор) "прозрачные образования", в отличие от затемненного (opaque) *jerębĭ. *lěščarŭka 'рябчик' - производное от *lěščarĭ "заросли орешника" (рябчик любит обитать в орешнике), причем вполне уместно указывается на семантическую параллель нем. Haselhuhn 'рябчик', англ. hazel-grouse, hazel-hen то же - соответственно от Hasel, hazel 'орешник'; далее, упоминается привычная семантическая реконструкция *kuropŭty как 'куриная птица', что, впрочем, автором потом в сущности пересматривается. С этимологической прозрачностью и *lěščarŭka и *kuropŭty, тем не менее, связывается идея инновации, для первого - в масштабах балканского славянства, для второго - у западных и восточных славян, хотя автор не может не признать наличия продолжений *kuropŭty также в словенском и сербохорватском. Наверное, Андерсен прав также, упрекая этимологов в том, что они до сих пор не задумывались, почему *jerębĭ стало названием таких разных птиц, как куропатка и рябчик; сам он считает, что на куропатку оно перенесено вторично. Отмечается и такая существенная (экологическая) деталь, как дополнительное распределение обеих птиц в отношении друг к другу: рябчик - птица
1. Сохраняем здесь авторское предпочтение несколько архаизирующей реконструкции преимущественно французской школы Мейе-Вайяна, оставляя за собой право более привычной трактовки u как ъ, ĭ как ь.
444
![]()
лесная, а куропатка, наоборот, птица степей. Весьма пластично рисуется автором картина постепенной миграции к северу именно куропатки, что связано с культурным расширением степи за счет лесов. Здесь, как и в ряде других аспектов, автор касается и вопроса славянской прародины, считая, что предки славян жили в лесах Восточной Европы, знали рябчика и не знали куропатку, с которой наиболее южные из них могли познакомиться как со степной птицей и перенесли на нее название рябчика - *jerębĭ (эти разные птицы внешне похожи). Более южные славяне, как уже сказано, нарекли 'рябчиком' 'куропатку' (*jerębĭ), а "потом", встретив в лесах Балкан рябчика, назвали его новым *lěščarŭka.
Привычное объяснение родственной лексической группы русск. рябчик ~
рябина ~ рябой как основанной на определении цвета заменяется у X.
Андерсена совсем иным направлением семантического развития, причем 'рябина'
реконструируется как первоначально 'рябчиковая ягода', а само 'рябой, пестрый' -
как 'рябчиковый', что подкрепляется аналогией англ. pied 'пестрый,
разноцветный' на базе pie 'сорока'. Мысль о том, что в основе всей семьи
слов лежит название птицы, ученый аргументирует эффектным наблюдением, согласно
которому шире всего представлены родственные названия 'рябчика' - в славянском,
восточнобалтийском и германском, далее идут названия 'рябины' - в славянском и
части восточнобалтийского, притом, что значение 'рябой, пестрый' фигурирует
только в славянском. Небезынтересно замечание, что *(je)rębina 'рябина' -
единственное прозрачно мотивированное название среди прочих названий деревьев,
хотя именно рябина - святое дерево у ряда индоевропейских народов, чего автор не
может сказать о рябчике. Свою точку зрения он имеет и о
словообразовательно-морфологическом членении, понимая erimbi-/rimbi-
(протоформу слав. *jerębĭ) как производное с и.-е. суффиксом -ṇ-bho-
от и.-е. ![]() 'птица', все вместе - якобы уменьшительное 'птичка', сюда же
er-il-a-/ar-il-a- 'орел'. Любопытны и культурологические суждения о
том, что первоначальными пасхальными яйцами (весенний праздник плодородия) были
яйца рябчика. Нельзя пройти мимо курьезного этимологического прочтения русск. курочка ряба как "the grouse hen, рябчиковая курочка", хотя приводимая тут
же англосаксонская аналогия "Little Red Hen", кажется, выглядит мотивированной
как раз со стороны цвета, а не со стороны рябчика. Весьма смелы авторские
построения относительно связи герм. *erpa- 'коричневый' < сев.-зап.-и.-е.
'птица', все вместе - якобы уменьшительное 'птичка', сюда же
er-il-a-/ar-il-a- 'орел'. Любопытны и культурологические суждения о
том, что первоначальными пасхальными яйцами (весенний праздник плодородия) были
яйца рябчика. Нельзя пройти мимо курьезного этимологического прочтения русск. курочка ряба как "the grouse hen, рябчиковая курочка", хотя приводимая тут
же англосаксонская аналогия "Little Red Hen", кажется, выглядит мотивированной
как раз со стороны цвета, а не со стороны рябчика. Весьма смелы авторские
построения относительно связи герм. *erpa- 'коричневый' < сев.-зап.-и.-е.
![]() 'рябчик' с греч. ἔρεφος, 'мрак' etc. от и.-е.
'рябчик' с греч. ἔρεφος, 'мрак' etc. от и.-е.
![]() 'темный', для чего автор
вспоминает даже гипотезу о "темематических" смычных (слав. mediae, вместо
и.-е. tenues и т.д.) в очень спорной книге австрийца Хольцера. Итогом
этих рассуждений является вывод о том, что название 'рябчика' могло быть
заимствовано из индоевропейского диалекта - предтечи германского, балтийского и
славянского, поглощенного
'темный', для чего автор
вспоминает даже гипотезу о "темематических" смычных (слав. mediae, вместо
и.-е. tenues и т.д.) в очень спорной книге австрийца Хольцера. Итогом
этих рассуждений является вывод о том, что название 'рябчика' могло быть
заимствовано из индоевропейского диалекта - предтечи германского, балтийского и
славянского, поглощенного
445
![]()
этими последними "в лесах Восточной Европы"... Когда автор заявляет, что "каково
бы ни было происхождение (названия 'рябчика'. - О.Т.), оно семантически
не мотивировано (то есть лексически изолировано) в славянском, балтийском и
германском праязыках", - складывается впечатление, что его (X. Андерсена) анализ
достиг критической точки, не говоря о внутренних противоречиях (см. выше его же
этимологию слав. *jerębĭ 'рябчик' от
![]() 'птичка'?). Правда,
констатируется такая индоевропейская особенность, как аблаут - протослав. ērb(ā)- протобалт.
ērb-ē- и т.д. (детали спорны). Вместе с тем
протослав. raiba- etc. и праслав. *(je)rębŭ рассматриваются как
чужеродные апофонические ряды, причем первое вытеснялось вторым.
'птичка'?). Правда,
констатируется такая индоевропейская особенность, как аблаут - протослав. ērb(ā)- протобалт.
ērb-ē- и т.д. (детали спорны). Вместе с тем
протослав. raiba- etc. и праслав. *(je)rębŭ рассматриваются как
чужеродные апофонические ряды, причем первое вытеснялось вторым.
Здесь временно расстанемся с 'рябчиком' и посмотрим, как автор решает вопрос с 'куропаткой' (вторая половина работы). Позднепраславянская реконструкция *kuropŭty 'куриная птица' вызывает у него сомнения как со стороны формы, так и со стороны содержания: отклонений вроде *koro-, *kor, *kro- гораздо больше, чем обычно постулируемого *kuro-. Бегло высказанная им самим здравая мысль о реальности табуирующих искажений охотничьей терминологии одиноко повисает в воздухе. Андерсен склоняется к тому, что изменения типа koro- > kuro- осуществились по народной этимологии, причем признаются периферийность и изолированность случаев *kuro- (? До сих пор именно эта лингвогеографическая черта обычно считалась сигналом первичности). Примерно то же и буквально на тех же основаниях утверждается о замене *pat- на *pŭt-. Автор прав, упрекая нас, этимологов, в том, что мы упустили из виду этимологию и реконструкцию Вайяна - *kropaty ж.р. 'куропатка' < прилагательное *kropatŭ 'пестрый, пятнистый', но в дальнейшем все же станет ясно, что это не более как вопрос неполноты библиографии. Сам Андерсен на этой этимологии тоже больше не настаивает, высказывая другие оригинальные соображения. Его протославянская реконструкция - karp-ā-ta-, типа bard-ā-ta- 'бородатый', откуда производное на -ū- основу женского рода karp-āt-ū- (приводятся в качестве подтверждений отадъективные производные на -ū- праслав. *pĭstrū > *pĭstry 'форель', *suxŭ > сербохорв. suhva, но ни одного случая на -atъ > -aty/-atъve среди них нет...). Дальнейшая, в том числе семантическая, реконструкция задает автору немало хлопот на избранном им направлении. Его внимание привлекает гнездо протослав. kŭrpā-tēi 'драть, щипать, резать', откуда и праславянское название обуви *kŭrpi. Дело в том, что серая куропатка - птица мохноногая. Ее научное название - Lagopus, что по-гречески значит 'зайцелапая'. В этом смысле Андерсен и понимает реконструированное им протослав. karpā-ta-, хотя его самого смущает полученный при этом полный вокализм (для обувного термина праслав. *kŭrpĭ обычен нулевой вокализм корня). Terminus post quem для сближения *kuropŭty с *kurъ, *kura 'курица' - введение домашнего
446
![]()
куроводства у славян, которое, надо сказать, датируют довольно рано - до начала нашей эры.
Весь протославянский ареал с формой erimbi- на западе и rimbi- на востоке, по Андерсену, непротиворечиво локализуется, согласно традиции, между верхней Вислой и средним Днепром, южнее Припяти, в южной части лесной зоны. Большое значение наш автор придает "абсолютной экологической границе лесной и степной зон" для семантического переноса протослав. (e)rimbi- 'рябчик' > 'куропатка', а также для момента пересечения славянами этой границы с севера на юг. Размышляя в русле традиционных представлений о среде обитания славян, Андерсен полагает, что "семантический перенос с 'рябчика' на 'куропатку' является неопровержимым свидетельством доисторического события, когда одна часть славян начала заселять степь и повернулась спиной - в культурном и лингвистическом смысле - к лесной среде обитания своих предков". Соглашаясь с Ф.П. Филиным, когда тот специально говорит об отсутствии в славянских языках общей лексики для степной флоры, фауны и т.д. [Филин 1962: 112, 119-120], наш автор вместе с тем вынужден признать:
"Но предложенный здесь анализ двух праславянских слов для куропатки - типичной представительницы степной фауны - показывает, что стоит обратить больше внимания на лексическое содержание этой терминологии".
Запомним эту авторскую мысль, считая, со своей стороны, что спор между "лесной" и "степной" (лесостепной) концепциями славянской прародины отнюдь не закончен, он продолжается, стимулируемый новыми плодотворными импульсами вроде новой статьи X. Андерсена. Есть еще немало рутинно недооцениваемых или не получивших адекватной характеристики языковых фактов, как, например, отсутствие старого, праславянского названия для такой лесной птицы, как 'глухарь Tetrao urogallus', что успел с достаточной объективностью отметить наш автор, сторонник "лесной" прародины славян. Можно, конечно, сослаться на то, что глухарь - обитатель "северных частей лесной зоны", и Андерсен делает это. Но недвусмысленная дискуссия может быть продолжена и применительно к более южным зонам, также имеющим вероятное отношение к древним местам проживания славян.
Прежде чем изложить наши замечания о предмете исследования Андерсена в более связной форме, позволим себе обратить внимание на название еще одной птицы, не рассматривавшееся автором, тем более, что это название, кажется, даст возможность увереннее судить о материале статьи Андерсена, а может быть, и о "степной" (южной) версии славянской прародины в целом. Я имею в виду название 'дрофы Otis tarda', относимое нами к праславянскому лексическому фонду в реконструированной праформе *dropъty, род.п. *dropъtъve, см. [ЭССЯ, 5: 125, 126]. Речь идет о широкораспространенном слове, причем затемненность ряда форм говорит, скорее,
447
![]()
в
пользу его древности, а корректность принимаемой нами реконструкции
подтверждается отдельными реально засвидетельствованными формами, в первую
очередь - старочешской (ниже). Значение в основном всюду одно и то же - 'дрофа
Otis tarda' (отклонения явно вторичны и иррелевантны): болг. дрóпла
(Геров: дропл![]() ), сербохорв.
дрȍпља,
словен. drôplja, ст.-чеш. droptva, чеш. drop м.р., слвц. drop м.р., польск.
drop, род.п. dropia, м.р., русск. дрофá,
укр. дрохвá, блр. драфá. Фонетическое развитие исхода слова пошло
по линии упрощения/упрощений p(t)v > f или рxv , или же
различных диссимиляций с результатом pl(j), pj. Первоначальное состояние
при этом просматривается достаточно четко, и это немаловажно для наших задач:
речь идет о гетероклитической основе на -ŭ/-ъve и даже точнее - о
сложении со вторым компонентом -pъty/-pъtъve. Первый компонент
сложения - dro-, к глаголу *derǫ,
*derti/*dьrati 'драть', фигуральное употребление которого -
'быстро бежать, удирать' - имеет еще (пра)индоевропейскую древность, прочие
детали, связанные с первым компонентом здесь не столь важны. Первоначальное
значение всего сложения *dro-pъt(y) в целом будет 'быстро бегающая
птица'. В смысле исторического словообразования (как, впрочем, и в целом ряде
других отношений) очевидно праславянское *dropъty/dropъtъve,
несомненно, стоит рядом с *kuropъty/*kuropъtъve как двучленный
композит с основой на -ū. Конечно, можно бы было возразить, что
формальный рисунок у *dropъty несколько иной, чем у *kuropъty,
хотя бы в том отношении, что формы типа *dropotка, *dropatka
характерным образом отсутствуют. Допустимо высказать предположение, что здесь
сказались морфологические и прежде всего акцентуационные различия: в случае с *dro-pъty
с его сверхкратким первым компонентом первоначальное ударение так и осталось на
исходном гласном всего сложения, ср. русск. дрофá и другие однородные
восточнославянские свидетельства. В случае с *kuropъty с полным
вокализмом первого компонента существовали предпосылки для выработки (особенно
после падения редуцированных) более нейтрального варианта со смещенным к
середине сложного слова постоянным ударением типа "нового акута". Так появились
русск. куропатка и многочисленные другие аналогичные формы - весьма
вторичный продукт из предыдущего *кýрóпатка и даже более первоначального
*кýрóпотка, *кýрó-пътъка. Об этом могут свидетельствовать формы
др.-русск. куропоть (XVII в.), русск. диал. (северновеликорусск.) кýропоть,
кýропть ж.р., см. данные в [ЭССЯ, 13: 127-128], русская
фамилия Куроптев, продолжающая архаичную огласовку апеллатива.
Возвращаясь к не совсем обычной - для восточнославянского и некоторых других
славянских - рефлексации ъ > а в куропáтка etc, уместно отнести ее
за счет охарактеризованной выше стабилизации ударения, сославшись при этом еще
на аналогичные нарушения "стабилизационного" характера: кошáчий,
лягушáчий, стар. лягýшечий, ср. [Kiparsky 1962: 259],
), сербохорв.
дрȍпља,
словен. drôplja, ст.-чеш. droptva, чеш. drop м.р., слвц. drop м.р., польск.
drop, род.п. dropia, м.р., русск. дрофá,
укр. дрохвá, блр. драфá. Фонетическое развитие исхода слова пошло
по линии упрощения/упрощений p(t)v > f или рxv , или же
различных диссимиляций с результатом pl(j), pj. Первоначальное состояние
при этом просматривается достаточно четко, и это немаловажно для наших задач:
речь идет о гетероклитической основе на -ŭ/-ъve и даже точнее - о
сложении со вторым компонентом -pъty/-pъtъve. Первый компонент
сложения - dro-, к глаголу *derǫ,
*derti/*dьrati 'драть', фигуральное употребление которого -
'быстро бежать, удирать' - имеет еще (пра)индоевропейскую древность, прочие
детали, связанные с первым компонентом здесь не столь важны. Первоначальное
значение всего сложения *dro-pъt(y) в целом будет 'быстро бегающая
птица'. В смысле исторического словообразования (как, впрочем, и в целом ряде
других отношений) очевидно праславянское *dropъty/dropъtъve,
несомненно, стоит рядом с *kuropъty/*kuropъtъve как двучленный
композит с основой на -ū. Конечно, можно бы было возразить, что
формальный рисунок у *dropъty несколько иной, чем у *kuropъty,
хотя бы в том отношении, что формы типа *dropotка, *dropatka
характерным образом отсутствуют. Допустимо высказать предположение, что здесь
сказались морфологические и прежде всего акцентуационные различия: в случае с *dro-pъty
с его сверхкратким первым компонентом первоначальное ударение так и осталось на
исходном гласном всего сложения, ср. русск. дрофá и другие однородные
восточнославянские свидетельства. В случае с *kuropъty с полным
вокализмом первого компонента существовали предпосылки для выработки (особенно
после падения редуцированных) более нейтрального варианта со смещенным к
середине сложного слова постоянным ударением типа "нового акута". Так появились
русск. куропатка и многочисленные другие аналогичные формы - весьма
вторичный продукт из предыдущего *кýрóпатка и даже более первоначального
*кýрóпотка, *кýрó-пътъка. Об этом могут свидетельствовать формы
др.-русск. куропоть (XVII в.), русск. диал. (северновеликорусск.) кýропоть,
кýропть ж.р., см. данные в [ЭССЯ, 13: 127-128], русская
фамилия Куроптев, продолжающая архаичную огласовку апеллатива.
Возвращаясь к не совсем обычной - для восточнославянского и некоторых других
славянских - рефлексации ъ > а в куропáтка etc, уместно отнести ее
за счет охарактеризованной выше стабилизации ударения, сославшись при этом еще
на аналогичные нарушения "стабилизационного" характера: кошáчий,
лягушáчий, стар. лягýшечий, ср. [Kiparsky 1962: 259],
448
![]()
где высказана однозначная отсылка последних к основам на -ęt-, но наличие здесь исходных форм на -ьк- кóшка, лягýшка и отмеченного колебания свидетельствует против такой однозначности.
Означенная рядоположенность *kuropъty, *dropъty, прежде всего - их принадлежность к гетероклитической основе на -ū/-ъve имеет отнюдь не инновационный, скорее - архаический словообразовательно-морфологический характер. Это имеет самое прямое отношение к образованию и происхождению *kuropъty, куропатка, спорность трактовки которого у X. Андерсена уже была намечена выше, начать хотя бы с этой его гипотезы о вторичном преобразовании исхода некоего условного прилагательного на -atъ по модели -ū/ъve и столь же гипотетического предположения о переосмыслении ...patъ > pъt- и вынужденного принятия серии "народных этимологий", призванных оправдать осмысление первоначального однокоренного прилагательного *korp-atъ как двукорневого композита *kuro-pъty. Таким образом, ясно, что на этимологию и праисторию славянского названия птицы *kuropъty мы смотрим существенно иначе, чем X. Андерсен. Речь должна идти не о "сближении" с *kurъ, *kura 'петух, курица', а об образовании *kuro-pъty от *kurъ. Конечно, домашняя курица Gallus domesticus к нам импортирована извне (со средиземноморского Юго-Запада? с иранского Юго-Востока?), хотя было это очень давно. Означает ли это, что заимствовано было и слово *kurъ? Тот факт, что оно было употреблено при образовании названия дикой птицы куропатки, делает это сомнительным. Остается напомнить то, что было сказано на этот счет раньше:
«Вообще не следует смешивать факт относительно позднего культурного заимствования и распространения курицы как домашней птицы в Европу с Востока (курица как "персидская птица" в Греции) с древним наличием звукоподражательного наименования, вторично употребленного о домашней курице. Относительная древность и исконность слав. *kurъ подтверждается старым его употреблением в топонимии и гидронимии, ср. Кур, Курица, Курец в русск. гидронимии, болг. Курец» [ЭССЯ, 13: 130].
Оттуда же приведем цитату из, как всегда, несколько аподиктичного, но проницательного Брюкнера:
"Во всяком случае слово kur- праславянское и притом извечное. Литва его не знает".
Локализовав тем самым смущающий фактор культурного куроводства (о значении которого Андерсен много говорит, и мы также далеки от того, чтобы умалять это значение), мы можем поставить вопрос о семантической реконструкции праслав. *kuropъty как 'горластая, шумная птица' [2]. Его вскрываемая при этом как бы описательность (иносказательность?) едва ли нужно обязательно толковать как в чистом виде неологизм (новая реалия = новое название). Здесь, похоже, налицо элемент
2. Экспрессивность обозначенной куропатки идет еще дальше в "классических" языках: греч. πέρδιξ, буквально 'Farzerin, п...унья' аналогично - как κάβη).
449
![]()
охотничьего табу, о необходимости учета которого применительно к куропатке уже было бегло упомянуто выше, в том числе самим Андерсеном, который мысль эту, к сожалению, бросил, не развив. А возможно, перед нами как раз один из примеров табуирования названия куропатки; другой пример того же - серия наименований куропатки по цвету, от *(e)rębъ/*(a)rębъ, о чем мы будем еще говорить. Для того, чтобы вводить одно и другое, не кажется необходимым для славян вторгаться в степную зону извне, из более северных лесов, как это эффектно рисует нам автор. Ведь в сущности для этого достаточно было извечно жить в степях, а скорее, похоже, в зоне лесостепи, луговой растительности, и при этом выражать свою вполне понятную озабоченность результатами жизненно важной охоты описанными выше актами обновления (alias табуирования) своей терминологии. Что речь шла изначально о степных пространствах как среде обитания, выглядит вполне правдоподобно после того, что уже сказано о 'дрофе', с характерной дефиницией последней в русской толковой лексикографии: 'крупная степная птица семейства журавлиных'.
Итак, резюмируя то, что, по нашему мнению, послужило культурно-экологической мотивацией дескриптивного праслав. *kuropъty 'шумная, голосистая птица', в основе называния тут лежит не акт встречи с абсолютно "новым" при пресловутом движении с севера на юг, а извечная потребность в иносказании по отношению к всегдашнему объекту охоты. Обновленное иносказание, обнаруживающее себя как табуистический по природе феномен, объясняется скорее изнутри языка, сущности называния вообще и из традиций охотничьего языка в частности. Фактор среды обитания, экологии присутствует (мы говорим о степной зоне, например), но его надлежит трактовать не простодушно-прямолинейно, а преломленно, то есть именно так, как нам подсказывает сам язык.
Руководствуясь этими, как нам представляется, плодотворными мыслями, мы обращаемся к другим лексемам из затронутой сферы. Попытаемся взглянуть на них, исходя из нашего постулата, что славянин знал куропатку изначально, а не встречал впервые и при каких-то внешних обстоятельствах (см. выше о миграции на юг). Таким образом, именно уклончивость как сущность табуистического иносказательного наименования объясняет, кажется, те двусмысленности, совершенно, впрочем, ясные древнему славянскому птицелову, но несколько затрудняющие понимание непосвященным, в чем и был, собственно, смысл всякого подобного называния. По-моему, это дает возможность ответить положительно на вопросы, которые во множестве задал еще вначале X. Андерсен: почему *arębъ/ь (у Андерсена: *jerębĭ) называло столь разных птиц, как куропатка и рябчик? - с точки зрения охотника, sapienţi sat. И на вводные недоумевающие вопросы нашего автора, - почему
450
![]()
и откуда синонимия и полисемия (*arębъ/ь 'рябчик; куропатка', *lěščarъka 'рябчик', *kuropъty 'куропатка'), - полномочна давать ответы социальная диалектология (описанное выше промысловое табуирование), разве что при условии дополнительного распределения с диалектологией ареальной, ср. факт сходности принципов называния 'рябчика' (*lěščarъka: 'Hasel-huhn') и 'куропатки' (*arębъ/ь: 'Reb-huhn') в части славянских и части германских языков как очевидно вторичное (контактное?) явление. В связи со сказанным для нас, думаю, отпадает избыточная постановка вопроса Андерсеном о "затемненности" (opacity) праслав. *arębъ/ь (у автора: *jerębĭ) как названия птицы. Здесь все кажется ясным как субстантивация прилагательного *arębъ(jь) 'рябой, пестрый' в качестве такого названия. Ведь совершенно (синхронно) наглядно и наше рябчик есть не что иное, как суффиксальная субстантивация прилагательного ряб(ой). Апеллировать к мнимой иррелевантности признака 'пестроты' как якобы свойственной слишком многим птицам простительно, наверное, для кабинетного дальтонизма; праславянин в этом разбирался без колебаний (см. выше). Понимание рябина как "рябчиковая ягода" и курочка ряба как "рябчиковая курочка" (!) мы, конечно, отклоняем как искусственное: издержки усложненного анализа там, где правильное прочтение лежало, так сказать, на синхронной поверхности, потому что и 'рябина Sorbus aucuparia' и фольклорная курочка продолжают восприниматься носителем русского языка так, как были названы вначале - как 'рябые, пестрые'.
Утверждать после всего отмеченного выше (как это делает Андерсен), что название 'рябчика' не мотивировано семантически и изолировано лексически, значило бы не видеть выгод синхронии и одновременно слишком вольно толковать возможности диахронии. Общая перевернутость авторских суждений с ног на голову (не 'рябчик' от 'рябой', а наоборот) и, кажется, чрезмерная доверчивость постулатам новой сравнительной мифологии (трехчастность мира и 'птицы' обязательно как 'летающие' существа верхнего мира) имплицируют нам авторскую этимологию праславянского названия рябчика: *jerębĭ как индоевропейский деминутив *h3ṇbhni- 'птичка', якобы антонимичное *h3er-el- 'орел' ("большая птица"?), что, конечно, все в целом очень сомнительно. Дело даже не в том, что в такой индоевропейской диалектной ветви, как балтийская, -l- форманты подчеркнуто деминутивны ('орел', выше, как аугментатив проблематичен), а в том, скорее, что и.-е. *er-/*or-, действительно, вычленяемое в индоевропейских названиях орла, далее - не только в греч. ὄρνις 'птица', но и в ἔρνος, 'отпрыск, потомок', естественно отпочковались от глагола с семантикой 'начинаться, рождаться'. И в этом последнем, и в ряде синонимичных примеров приходится считаться с этимологией лексем, обозначающих 'птицу' не как первоначальное 'летун', а 'детеныш, выкормыш'. Эти рассуждения,
451
![]()
более подробно изложенные в другом месте [Трубачев 1980, 11] или - местах, если
иметь еще в виду мою книгу "Этногенез и культура древнейших славян" (М., 1991),
где сделана попытка реконструкции восприятия древним славянином птиц
("птицы-детки") в рамках более общей древней идеологии рода и антропоцентризма,
- эти рассуждения призваны здесь главным образом показать неубедительность
членения названия рябчика как *er-imb-i-. Эта этимология неправомерно
разрушает единство древнего апофонического ряда *raib~/*roib-/*remb-/*romb-,
который, по нашему убеждению, представлен в лексике с семантикой рябизны,
пестроты, разноцветности. Гласное начало (а- и варианты, см. [ЭССЯ, 1:73 и сл.:
*-arębъ) может отсутствовать или присутствовать уже с древних времен,
представляя порой трудности для своей функциональной характеристики: префикс или
преформант? Что касается корня и его чрезвычайно разнообразных вариантов, то они
требуют внимательного учета и трактовки, адекватной их древности и пестроте
(чистые гласные дифтонги наряду со смешанными, носовыми дифтонгами и даже
редукционными вариантами). Примат значения 'рябой, пестрый и т.п.' не оставляет
у нас при этом никаких сомнений, особенно если отдавать себе отчет в
потенциальной чрезвычайной лексикосемантической широте соответствующего гнезда,
включавшего, по-видимому, далеко не только названия пестрых птиц. Важно
попрежнему считаться с вероятием того, что, широкие потенции этого лексического
гнезда на редкость удачно наложились на предрасположенность языка древних
добытчиков к табуированию, к применению приблизительных атрибутивов. Утверждая
это, я имею в виду, например, давний опыт В.Н. Топорова по этимологии праслав. *ryba
[Топоров 1960, 1:5 и сл.]. Самый факт забвения славянским праиндоевропейского
названия рыбы, которое могло иметь вид *zъvь также не случайно и уже
давно ассоциируют с табуистическими мотивами. Поэтому этимология родового
названия для 'рыбы' от табуистически маркированного корня *raib/*roib-
(сам Топоров склонялся к мысли о наличии здесь сочетания и с носовым согласным)
в наших глазах сохраняет серьезное значение. При стандартно принимаемом обычно
ū как источнике славянского y, следует считаться с вероятием также
других его источников, прежде всего - дифтонгических. Уровень описания и
непосредственного наблюдения также подтверждает реальность такого происхождения,
начиная от отражения славянского y как [ui] в формах, заимствованных в
другие языки из славянского и кончая древним графическим начертанием у как
кириллического ы и глаголического
![]() , то есть в сущности диграф (и
дифтонг) ŭi. Все это имеет самое прямое отношение к адекватной трактовке
сложного апофонического ряда, куда принадлежат наши рябой, рябчик (*ręb
< *remb-), но и рябец, 'лосось Trutta', далее - укр. рібий
(*rěb < *roib-), наряду с рябий 'рябой', но и рыба
(*ryba < *ruib-), как напоминание нам о том времени, когда
праславяне, охотясь
, то есть в сущности диграф (и
дифтонг) ŭi. Все это имеет самое прямое отношение к адекватной трактовке
сложного апофонического ряда, куда принадлежат наши рябой, рябчик (*ręb
< *remb-), но и рябец, 'лосось Trutta', далее - укр. рібий
(*rěb < *roib-), наряду с рябий 'рябой', но и рыба
(*ryba < *ruib-), как напоминание нам о том времени, когда
праславяне, охотясь
452
![]()
за рыбой, именовали ее столь же уклончиво 'пестрой', 'рябой', (думают, что сначала имелись в виду лососевые, ср. [Коломиец 1983: 28-29]), как и разные виды птиц.
* * *
Вот и все пока о 'рябчике' и 'куропатке' с точки зрения лингвиста-этимолога. За скобкой, несмотря на экскурсы, в основном осталось то, что историю культуры интересует в первую очередь: ареальная проекция затронутых языковых явлений. Хотя здесь в общем удалось определить свою позицию, надеюсь, не впадая в противоречия ни с данными языка в их ареальном выражении (затронутые антитезы Лес - Степь, Север - Юг), ни с собственной среднедунайской концепцией прародины славян. Говоря о последней совсем уж кратко, нам больше импонирует мысль о раннем знакомстве славян с природой Венгерской (лесо)степной равнины (ср. самобытный славизм венгерского - puszta 'степь' из *pusta, sc.l. zemja 'пустая (земля)', а не с аридными степями Северного Причерноморья, во всяком случае - в предскифскую эпоху.
ЛИТЕРАТУРА
1. Коломиец В.Т. Происхождение общеславянских названий рыб. Киев, 1983.
2. Топоров В.Н. Из праславянской этимологии. RYBA // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. 1. М., 1960.
3. Трубачев О.Н. Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1980. № 3.
4. Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962.
5. ЭССЯ - Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. М., 1974; Вып. 5. М., 1978; Вып. 13. М., 1987.
6. Kiparsky V. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962.
Вопросы языкознания. 1996. № 6.
12. ИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ КОММЕНТАРИЕВ К ПОИСКАМ ПРАРОДИНЫ СЛАВЯН
(Новый этимологический словарь албанского языка Вл. Орла)
Разделяя мнение одного великого лингвиста, что науку двигают вперед по большей части не общие теории, а факты, накопление фактов, мы стремимся сосредоточиться на изучении последних, не оставляя, впрочем, надежды, что совокупное или достаточно однозначное свидетельство фактов найдет отражение и в формулировке общих идей и теорий, без которых также невозможен научный прогресс.
453
![]()
Толчком для нижеследующих заметок послужило подробное знакомство этой весной с новым этимологическим словарем албанского языка Владимира Орла [1]. Этот солидный современный труд (670 е.), с хорошим научным аппаратом и библиографией, а главное - с современной многоаспектной трактовкой исследуемого материала (этимология, словообразование, семантика, лингвистическая география, языковые контакты) безусловно займет свое место в той области, в которой мы по-прежнему до недавнего времени вынуждены были пользоваться словарем Густава Майера, вышедшим уже более ста лет назад. Еще одна особенность, выгодно отличающая новый словарь Орла, о которой я не могу не сказать сознательно a priori, состоит в том, что этот словарь, знакомство с ним ломает, колеблет известные представления лингвистов в этой области. Эти известные представления, если быть кратким, выражаются в том, что, например, албанско-славянские языковые отношения - это отношения албанского языка и южнославянских языков на сколько угодно древнем этапе. Однако на самом деле это не совсем так. Но прежде всяких дискуссий дадим слово фактам.
Алб. grozhël 'вика, горошек', заимствованное из не засвидетельствованного слав. *grozdьlь, производного от *grozdъ 'гроздь, кисть'. Так [1, с. 125]. По нашим данным, сюда могло бы принадлежать в.-луж. hruzła, hruzl 'ком земли, глыба', н.-луж. gruzla 'глыба земли', польск. gruzeł 'ком, глыба; утолщение, нарост', далее - др.русск. грузла моровая 'нарыв, опухоль', русск. диал. грузло 'грезно луку'. См. наш Этимологический словарь славянских языков (далее - ЭССЯ) 7, с. 143, где, правда, все это упрятано s.v. *grozdьnъ/*grozdьno.
Алб. kaçurrel 'кудрявый, курчавый'. "Производное от *kaçurrë, раннего заимствования из слав. *kočura 'бугор', в остальном не засвидетельствованного в южнославянском" [1, с. 163]. Славянское слово с возможной вариантной праформой *kočera четко прослеживается в восточнославянском, начиная с др.-русск. ЛИ Кочура и далее. - русск. диал. кочёрá 'обрубок, пень, кочка', блр. диал. качýр 'чурбан' (ЭССЯ 10, с. 105). Можно для южнославянского отметить лишь MH Kočerîn, в Герцеговине, см. ЭССЯ, там же, с существенной оговоркой: "...при отсутствии четкой апеллативной базы в ю.-слав. языках". С такой же оговоркой ср. сюда же болг. Кочариново, МН в бывш. Дупницкой околии [2].
Алб. llom 'грязь, ил', ранее объяснявшееся из слав. *lomъ 'болото', в существовании которого Орел сомневается [1, с. 238], обнаруживает связи с н.-луж. łom 'болотистое место', др.-русск. ломъ 'болото', русск. диал. лом 'болото в лесу, поросшее трудно проходимым лесом и кустарником', из южнославянских, возможно, сюда единичное болг. лом 'яма с водой, омут; лужа', см. ЭССЯ 16, с. 25 и сл.
454
![]()
Алб. morovinë 'духота' объясняется в новом этимологическом словаре как заимствование из слав. *morovina, "неизвестного в южнославянском" [1, с. 273]. Действительно, у нас при составлении ЭССЯ (19, с. 238) при реконструкции *morovina оказалось в распоряжении только чеш. morovina 'эпидемия', по Котту.
Алб. shkërdhec 'бочонок' характеризуется как раннее заимствование из слав. *skovordьcь 'сковородка' (ср. и отражение группы tort!), причем деминутив на -ьсь предполагает достаточно интимное знакомство, хотя в собственно южнославянском, кроме изолированного ст.-слав. сковрада ἐσχάρα, τήγανον (Супр.), свидетельства отсутствуют, и слав. *skovorda в основном представляется западно- и восточнославянским словом (чеш., польск., сербо-луж., русск., укр., см. Фасмер III, с. 644), ср. и [1, с. 420].
Алб. shetkë 'грива' "заимствовано из слав. *ščetъka 'щётка, щетина', в остальном не засвидетельствованного в южнославянском, за исключением словен. ščetka" [1, с. 412], см. о последнем как противопоставленном собственно ю.-слав. *četь, *četъka [3]. Словенский же в данном случае разделяет праформу *ščetъka, общую для западно- и восточнославянского и, как видим, захватившую также албанский.
Алб. triskë 'кусок дерева, стружки' характеризуется как раннее заимствование из слав. *trěska (основное значение: 'щепка'), "не засвидетельствованного в южнославянском" [1, с. 465], но, как известно, распространенного в западно- и восточнославянском.
Албанское название 'воробья' - harabel - отражает слав. *vorbьlь, "форму, не засвидетельствованную в южнославянском, где мы находим только *vorbьcь в том же значении" [1, с. 142]. Лингвогеографическое распределение *vorbьcь - *vorbьlь (вар. *vorbьjь) принадлежит, кстати сказать, к числу выразительных диалектных примет внутри славянского ареала.
Более "смазанным", югославянизированным формально (в духе трактовки tort → trat), но семантически резко выпадающим из южнославянского представляется алб. blanë 'сердцевина дерева; рубец, шрам', см. [1, с. 28], который отметил большую близость значений русск. болона 'шишка, опухоль, нарост (на дереве, на теле человека)', ср. и [4, вып. 3, с. 77]. Для южнославянского характерны совсем другие значения * bolna - болг. блана 'дерн; ком земли' и близкие, см. и ЭССЯ 2, с. 175 и сл.
Албанская производная (ум.) форма drokth имеет и "производное" значение 'метла, веник', которое происходит от слав. *drokъ и его более первоначальных значений 'растение дрок Genista', названия ряда других растений, представленных, как и сама лексема *drokъ, практически исключительно в восточнославянском - русск., в том числе диал., укр. См. ЭССЯ 5, с. 124; [4, вып. 8, с. 192]. Связь значений 'метла, веник' и 'растение дрок Genista' совершенно очевидна (ср. и нем. Besenginster 'дрок' и Besen 'метла, веник'), и она однонаправленна: из побегов растения вяжут веники. Кроме этих указаний
455
![]()
на восточнославянские связи алб. drokth, остается добавить, что слав. *drokъ 'genista' "не засвидетельствовано в южнославянском" [1, с. 75].
Алб. prondit 'производить', к сожалению, пропущенное в словаре В. Орла, кажется более реалистичным поставить не в связь с серб. прýдити 'приносить пользу' [5, с. 16], (критику этого семантически и формально проблематичного сближения см. [6, с. 246]), а в связь с русск. пруди́ть 'лить много' (Даль III, с. 529), кстати, хорошо отражающим семантику производящего имени - слав. *prúdъ '(сильное) течение' > 'сильно лить(ся)'.
Алб. ronit(ëm) 'падать, валиться' замечательно, кажется, тем, что отражает не то значение исходного слав. *roniti, которое, судя по соответствиям, является этимологически древним, - 'лить', в ряде случаев преимущественно 'лить, проливать слезы' (серб., болг., чеш. слвц., серболуж., польск., см. Фасмер III, с. 501), а как раз значение инновационное, представленное в восточнославянском - русск. роня́ть, урони́ть 'позволить упасть'. На эту поучительную разницу значений, о котором см. [с. 374], похоже, не обращено должного внимания, ср. например [16, с. 241].
Нижеследующие несколько свидетельств, возможно, усиливают складывающуюся выше картину однозначностью своего характера.
Алб. dobët 'слабый', производное от dobë то же, заимствовано из слав. *dobъ, "не засвидетельствованного в южнославянском, где широко распространено более обычное *dobrъ" [1, с. 69]. Наш ЭССЯ (5, с. 47) содержит сведения о том, что слав. *dobъ, производящее для *dobrъ, которое и само достаточно архаично, свойственно только для восточнославянского: русск. диал. добóй 'хороший', доб 'хорош', укр. диал. дóбый 'хороший'.
Примерно то же можно сказать об алб. gamis 'лаять' - из слав. *gamiti, которое не только "не засвидетельствовано в южнославянском", как см. [1, с. 109], но неизвестно нам также из прочих славянских языков, кроме восточнославянского, ср. русск. диал. гамéть 'кричать', а также специально 'громко лаять (о собаках)' (курск.) [4, вып. 6, с. 131]. Звукоподражательность образования (см. ЭССЯ 6, с. 98) не обязательно противоречит его древности и характерности.
Алб. log 'луг' предположительно заимствовано из слав. *logъ, но близкие значения 'лощина, низина' последнее обнаруживает только в восточнославянском (см. ЭССЯ 15, с. 249), тогда как семантика южнославянских продолжений слав. *logъ сильно отклоняется - 'лежание; логово', ср. и [1, с. 230].
Алб. muzg 'пасмурный', в особенности же muzgë 'грязь, тина', видимо, происходит из разветвленного гнезда слав. *muzga/*mъzga, причем, если первая - полная - ступень, с семантическими отличиями, прослеживается и в южнославянском (сербохорв. muzga 'след от струйки', словен. múzga 'древесный' сок; ил, тина'), и в западнославянском
456
![]()
(польск. диал. muzga 'сочная, сырая трава'), и в восточнославянском (др.-русск. музгъ 'тина', русск. диал. музга 'впадина (с водой); лужа', см. ЭССЯ 20, 202), то *mъzga характерно прежде всего для восточнославянского - русск. диал. мзга 'сырая погода, гниль', мóзга 'гной', будучи близко к алб. muzgë 'грязь, тина' как семантически, так и формально-фонетически, в последнем отношении предполагая довольно древний возраст заимствования (отражение слав. ъ как алб. u). О *mъzga см. (без албанских ассоциаций) ЭССЯ 21, с. 19; ср. u, с отличиями, [1, с. 281].
Алб. postas (аорист postata) 'устать, утомиться' объясняли как заимствованное из слав. *postati, приводя при этом несколько эфемерную, полипрефиксальную форму в духе славянских Aktionsarten *po-u-stati, как условно реальное только русск. (по)устать (скорее, более естественное для нашей речи подустать. - О.Т.) [5, с. 16; ср. 1, с. 340]. Характерно - для старой school of thought, что и автор этого сближения, и критика (см. 16, с. 263]) одинаково признают как момент, ослабляющий эту этимологию, не указанную нами эфемерность образования, а то обстоятельство, что соответствие в южнославянском отсутствует, но с этим мы будем еще разбираться ниже.
Алб. shagit 'ползти' объясняют через *shag из формы, близкой к русск. шагáть, возводимой к слав. *sęgati, сюда же чеш. šahati [1, с. 406], о слав. см. Фасмер IV, 393-394.
Алб. sharë 'обида, оскорбление', возможно, представляет собой раннее заимствование некоего слав. *sora, прямым продолжением которого оказывается приставочное *sъsora в русск. ссора, ср. более отдаленные сербохорв. osoran 'грубый, жестокий' и словен. osoren [1, с. 408].
Алб. shoglinë 'голое место, без растительности', к сожалению, пропущенное в [1], получает объяснение в связи с русск. суглинок [5, с. 14]; точнее сказать, что оно представляет собой возможное раннее заимствование из (пра)слав. *sǫglinь(kъ), о чем говорила бы передача слав. s как алб. sh[š] и слав. ǫ как алб. о.
Предварительно резюмируем: алб. grozhël, kaçurrel, llom, morovinë, shkërdhec, shetkë, triskë, harabel, blanë, drokth, prondit, ronit, dobët, gamis, log, muzg, muzgë, postas, shagit, sharë, shoglinë обнаруживают слабые связи с южнославянской лексикой либо не имеют их вообще. Взамен этого они предъявляют связи с западной и восточнославянской лексикой. О "чистой" картине в этой области, в которой естественно ожидать именно картину, смазанную временем и преобладающими контактами, говорить не приходится, к тому же именно с лексикой упорно ассоциировали роль самого подвижного элемента языка. Тем более удивительно то, что ряд слов из перечисленных выше обнаруживают - казалось бы, странные - преобладающие восточнославянские ассоциации: это kaçurrel/*kaçurrë, drokth, prondit, ronit, dobet, gamis, log, muzgë, postas, sharë, shoglinë. Может
457
![]()
быть, семантический спектр этих слов не содержит особых откровений: 'кучерявый', 'метла, веник', 'производить', 'падать', 'слабый', 'лаять', 'луг', 'грязь, тина', 'устать, утомиться', 'обида, оскорбление', 'голое место'. Однако, с другой стороны, перед нами лексика повседневной жизни, что небезразлично для вопроса о степени языкового контакта.
Нельзя сказать, что эти слова остались неизвестны предыдущему исследованию, хотя и для этого исследования, как и для всякого другого, отмечается постепенное расширение исследуемого материала. Достаточно сказать, что большинства слов, привлекших наше внимание, мы, например, не находим в капитальной монографии А.М. Селищева "Славянское население в Албании" (София, 1931, фототипическое переиздание: А.М. Seliščev. Slavjanskoe naselenie v Albanii. Nachdruck besorgt von R. Olesch. Böhlau Verlag, Köln-Wien, 1978).
Исследования, более близкие нашему времени и посвященные проблеме славянских заимствований в албанском, постепенно охватывают все больше интересующих нас слов, в чем нельзя не видеть безусловный прогресс, правда, сопровождаемый вынужденной оговоркой: и Десницкая, и Сване исходят из твердого постулата решающего значения южнославянской принадлежности славизмов албанского. Этот постулат иногда расширяется за счет некой конструкции (ср. Иокль у Десницкой, указ. соч., с. 7) в том смысле, что албанские славизмы, соответствия которым на практике засвидетельствованы (только) в восточно- и западнославянских языках, "могут быть реконструированы" и для южнославянских. Для того, чтобы опираться на этот постулат, даже в такой расширенной редакции, нужна была вера в изначальное единство (пра)славянского. Сейчас этой абсолютной веры в такое бездиалектное (пра)единство уже не достаточно, многие факты требуют признания древней диалектной сложности, а с ней и допущения возможности как изначального наличия одних образований в ряде диалектов, так и потенциального изначального отсутствия их в других диалектах. Презумпция отсутствия как обязательной утраты постепенно теряет свою актуальность. В науке подобные эволюции взглядов иногда называют сменой парадигмы. Иногда (впрочем, наверное, необязательно) смены парадигм совпадают со сменой поколений. Во всяком случае принадлежащий к более молодому поколению Владимир Орел обнаруживает бóльшую широту в суждениях на тему эвентуальных неюжнославянских элементов на славянском Юге, ср. еще в [7], особенно же - в своем новом словаре.
Можно, наверное, продолжать смотреть на описанные выше десяток-другой примеров как на частные выпадения из общей безусловно южной принадлежности славизмов албанского, эта новая группа фактов, тем не менее, заслуживает, требует объяснения, в том числе - наличие ряда черт древности самих фактов. Поэтому
458
![]()
поиски некой рамочной концепции, которая бы помогла объяснить непротиворечиво то, что иначе выглядит непримиримым противоречием, - оправданны. Такую рамочную роль могла бы сыграть отстаиваемая уже в течение ряда лет автором этих строк концепция древнего совокупного обитания на Среднем Дунае всех славян, а не только одних только южных. При этом оправданно и условное использование таких уже ранее сформулированных в науке понятий как паннонскославянский с его западнославянской ориентацией и дакославянский с восточнославянскими схождениями последнего. Несмотря на скепсис, высказывавшийся по этому поводу, в частности, еще на XI Международном съезде славистов (выступление Г. Михаилэ), исследователи вынуждены вновь обращаться к положительному рассмотрению этого вопроса, ср. в последнее время о румынской традиции называния 'кузнечика', насекомого Tettigonia viridissima как 'кузнеца' и её полных восточнославянских, русских параллелях [8].
Заметим, что одним 'кузнечиком' тут дело не ограничивается. Традиция выявления дакославизмов вообще в румынском и специально - в румынском Банате к настоящему времени является уже давней и отнюдь не бесплодной. Ср. соображения ряда ученых о своеобразной позиции крашованского (карашевского) славянского диалекта в этом юго-западном углу Румынии, его принципиальные отличия от собственно южнославянского, а также принципиальные схождения с севернославянским языковым типом, далее - прямые восточнославянские ассоциации ряда местных реликтовых лексем. Это прежде всего известное румынское название 'снега', zăpádă, р. конкретно русск. диал. (арханг.) запáд тропы 'засыпание тропы снегом', о чем я писал раньше [9], возможно, далее, рум. nisip 'песок', ср. северновеликоруск. нáсыпь 'куча прибрежного песку'. МН Ohaba в Западной Румынии, ср. др.-русск. охабити 'оставить, покинуть (без надзора)', зап.-рум. lapă 'рука' как севернославянский, а не южнославянский элемент, рум. mînjí 'мазать', ср. русск. простореч. музюкать с близким значением, а, возможно, и огласовкой (см. [9, с. 18-19], ср. еще [10], в особенности же еще [11]). Эта линия исследований продолжает поиски Г. Райхенкрона, посвященные дакославянским следам в Семиградье, Э. Петровича и И. Поповича о диалекте крашован, С. Пушкарю о севернодунайских славянах, эквивалентных дакославянам Райхенкрона. Каждый из них оставил после себя находки в области того, что можно отнести к следам предков восточных славян как автохтонов Среднего Подунавья, взять хотя бы рум. диал. (зап.) zapor 'корь, скарлатина' из дакослав. *zaporъ у Г. Райхенкрона, ср. русск. запοр, диал. зáпор как название разных болезней.
Нынешний "дакославянский" экскурс преследовал одну цель - приблизиться к локализации наших неюжнославянских славизмов албанского. Как известно, существует общий фонд палеобалканских
459
![]()
автохтонизмов, объединяющих албанский и румынский. Однако в нашем случае вряд ли можно эксплоатировать эту общность без предварительной специальной проверки. Нет необходимости и априорно высказываться обязательно в пользу одной из концепций древнего ареала албанского - внутриконтинентального (известный треугольник Ниш-Скопие-София) или приморского (Illyria proprie dicta). В разное время, для разных эпох и то, и другое может оказаться верным. И все же севернославянская, а частью и восточнославянская принадлежность рассмотренных кратко славизмов албанского в определенной мере может повлиять на решение и этого вопроса.
ЛИТЕРАТУРА
1. Orel Vladimir. Albanian etymological dictionary. Brill. Leiden, Boston, Köln, 1998.
2. Миков, Васил. Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. София, 1943. С. 33 (собственное толкование автора от тур. коч 'первое' и ери 'место', разумеется, произвольно).
3. Snoj М. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, 1997. S. 629.
4. Словарь русских народных говоров. Л.
5. Десницкая A.B. Славянские заимствования в албанском языке // V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963.
6. Svane G. Slavische Lehnwörter im Albanischen // Acta Jutlandica LXVIII. Humanistische Reihe 67. Aarhus, 1992.
7. Орёл В.Э. Лексика неславянских языков Балкан как источник праславянской реконструкции. Славянские заимствования в албанский и восточнороманский // Этимология 1984. М., 1986. С. 181 и сл.
8. Клепикова Г.П. Славяно-румынские параллели в сфере этимологической лексики (названия 'кузнечика') // Сборник к 70-летию В.Н. Топорова. М., 1998. С. 202 и сл.
9. Трубачев О.Н. Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 18.
10. Трубачев О.Н. Slavica Danubiana continuata. Продолжение разысканий о древних славянах на Дунае. Белград, 1996. С. 17 и карта на с. 33.
11. Трубачев О.Н. Древние славяне на Дунае. Южный фланг (лингвистические наблюдения. II) // Palaeoslavica. V. Cambridge/Massachusetts. 1997. С. 21-23.
460
![]()
Памяти Л.А. Гиндина († 1994)
13. К ЭТИМОЛОГИИ НАЗВАНИЯ ШВЕЙЦАРИИ (HELVETII, HELVETIA ~ SCHWYZ, SCHWEIZ) [*]
Расставшись внезапно в конце 1993 г. с незабвенным Леонидом Александровичем, Лёней Гиндиным, согреваешь себя мыслью, что осталась связь, что все еще как бы продолжаются дружеские научные диалоги (наконец, это приятное приглашение в очередной сборник Античная балканистика, которому, к сожалению, не суждено состояться, я, наверное, бы получил от него самого, и наверняка не преминул бы высказать ему свои сомнения и колебания насчет своего участия, ссылаясь на некоторую экзотичность и маргинальность основной темы сборника в отношении того, что можно считать кругом моих интересов; разговор на этом бы не оборвался и предупредительный Леонид Александрович мог бы выразить готовность расширить тематические рамки сборника, добавив к ним "и Северное Причерноморье", дабы облегчить мне участие близкой мне тематикой, как он, собственно говоря, и поступал раньше). Теперь его самого нет, но повод вспомнить о том, "как бывало" в таких случаях, представляется по-прежнему подходящим. Тем более, к тому же, что маленькая моя заметка, в свою очередь, была бы откровенно маргинальна по отношению к эвентуальной "Античной балканистике" и, возможно, представила бы в лучшем случае типологический и, в буквальном смысле, периферийный интерес, поскольку занимающая нас в дальнейшем такая этнолингвистическая особенность, как сложение этнонимов на базе самообозначений 'свой, свои (люди)', похоже, на собственно античнобалканский Kerngebiet не распространялась, насколько мы можем о нем судить хотя бы по трудам и справочным изданиям Томашека, А. Майера, Дечева, Дуриданова, Катичича и др. Неизвестен, кажется, поныне и собственно древний балканскоиндоевропейский (иллирийский, фракийский) рефлекс и.-е. *su̯e-/*su̯o- (к алб. vetë 'сам' < и.-е. *su̯e-ti- еще вернемся ниже). И это притом, что палеобалканскоиндоевропейские племенные названия известны десятками; их возраст и значение сохраняют в основном локальный характер, и эта картина до известной степени напоминает нам то, что мы знаем из ранней славянской этнонимии. Правда, у славян прощупывается такая типологически
*. Это загадочное двойное название страны "Гельвеция/Швейцария" - одно из запомнившихся впечатлений моего отрочества, в пору увлечения филателией, когда я столкнулся с тем, что на швейцарских почтовых марках стоит неведомое мне Helvetia.
461
![]()
древняя и самобытная особенность, как наличие слова *svojь 'suus' в роли ключевого слова славянской культуры. Родовое понятие 'свой, свои (люди)' служило достаточным эквивалентом этнонима в доэтнонимическую эпоху. Есть основания видеть в этом еще праиндоевропейскую особенность. Возможно также, что аналогичное состояние было присуще и древним индоевропейцам Балкан.
По-своему интересна - на этом сравнительно-типологическом фоне - этнолингвистическая ситуация у западных и северозападных индоевропейских соседей древних Балкан. Ситуацию эту, несколько предвосхищая дальнейшее изложение, можно охарактеризовать, при всей ее историко-документальной древности, как более продвинутую в культурнотипологическом плане, а именно: и.-е. *su̯e-/*su̯o- 'suus, sui generis', во многом утратив позиции ключевого слова, например, в германском языке и культуре, осело там в ряде случаев как некий петрификат, пережиток в соответствующей этнонимии, ср. достаточно хрестоматийные примеры Suīonēs (у Тацита), др.-исл. Svīar мн. 'свей, шведы', сюда же (с другим суффиксом) нем. Schweden, далее - герм.-лат. Suēbi мн. 'свебы, свевы', др.-в.-нем. Swābā, соврем, нем. Schwaben 'швабы, Швабия'. Иными словами, и в германских этнических названиях свеев/шведов, свевов/швабов, и в славянском общеэтническом самоназвании *slověne 'славяне' из первонач. 'ясно, понятно ("по-своему") говорящие' (о чем подробнее - в других местах) просматривается еще доэтнонимическая стадия, только ее дальнейшая эволюция протекала по-разному, в германском - через означенную компенсацию, а в славянском - преломленно, путем "переименования". Эти наблюдения и этот опыт могут пригодиться в аналогичных других случаях, поскольку, кажется, до сих пор использованы недостаточно, далеко не в полную меру обобщения, на которую дают право.
Речь идет о названии, точнее даже - названиях, Швейцарии. Прежде всего это, конечно, официально литературное, нововерхненемецкое Schweiz '(страна) Швейцария'. Его история или происхождение рисуется очень краткими, надо сказать, скудными, сведениями: восходит (с литературной немецкой дифтонгизацией) к названию одного из нескольких первоначально объединившихся швейцарских кантонов - диалектному (алеманнскому) Schwyz, а это последнее вначале обозначало город, центр самого кантона. Дальнейшая этимология названия Schwyz неизвестна (Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótára4 II. Budapest, 1988, с. 506. Автор этого новейшего, весьма компетентного этимологического справочника опирается на труды лучших авторитетов, напр. А. Bach. Deutsche Namenkunde). Согласимся, что это мало. Даже одного лишь поверхностного сопоставления, бегло предложенного выше, достаточно, чтобы допустить, что перед нами генетически однотипное имя со своими отличиями в первоначальном объеме употребления ("Gemeindename"?), в суффиксальном оформлении, но главное - того же корня, причем
462
![]()
и.-е. *su̯ī- прошло алеманнско-швабскую эволюцию с результатом Schwy-, суффиксальное оформление которого имеет достаточно близкие аналогии. Ср. греч. ἴδιος 'свой, свойственный, собственный' < *su̯i-d-ios или *su̯edi̯os, сюда же уже упомянутое алб. vetë 'сам' < *su̯e-ti-, лат. sodālis 'товарищ, приятель' < *su̯edhālis (Pokorny I, 882; Chantraine. Diet. et. de la langue gr. 1-2, 455).
Германский этнический элемент не обязательно исконен в Швейцарии, в частности, - западной, ибо известно, что близ гор Юра, Леманского (позднее - Женевского) озера и верховьев реки Родана (Роны) обитали кельтские гельветы - Helvetii, Helvitiif,Elvetii, Elvitii. Правда, то, что в классической кельтологии обычно сообщается о предыстории последних, способно, скорее, завести в тупик или, по крайней мере, озадачить. Ср. указание на их приход в западную Швейцарию с правого берега Рейна в эпоху, незадолго предшествующую Цезарю, и еще - на этимологическую связь с неким племенем Elvii, о котором сообщается, что они обитали в области секванов, а само имя сближается с лигурийским (?) Ilva, древним названием острова Эльба в Средиземном море, что в целом дает довольно запутанную картину (см. А. Holder. Altceltischer Sprachschatz. Bd. I: A.-H. Graz, 1961, Sp. 1419 и сл., 1430). Кажется, что не использованы несколько иные возможности - как внутрикельтской этимологии, так и древней (до)этнонимической семантики, затронутой выше. Я имею в виду (пра)кельтское *selvā 'собственность, (своё) владение', ср. ирл. selb (selv) то же (Wh. Stokes, A. Bezzenberger. Wortschatz der keltishen Spracheinheit5. Göttingen. 1979, S. 302, там же другие примеры). Отношение древнего *selvā и упомянутых племенных названий Helvetii, etc. (выше) напоминает особенность, обычно наблюдаемую у островных кельтов и в бретонском, - аспирацию s- > h-. Надо думать, что эта аспирация в древности была известна и шире, у континентальных кельтов, в частности - у их галынтатской волны, имигрировавшей в последние столетия до н.э. с запада, через германский юг на восток. Реконструируемое при этом исходное *selb- 'свой, (вар.) сам' оказывается древним региональным словом, которое, кроме германского *selba- 'сам', нем. selb(er), англ. self 'сам', давно уже вскрыто в остатках еще одного древнего индоевропейского диалекта, примыкающего к швейцарскоальпийскому региону, - венетском sselboi sselboi 'sibi ipsi', то есть 'себе самому' (ср. Pokorny. Ib., S. 884; Kluge20, S. 701, со ссылкой на Краэ). Таким образом, в этом циркумальпийском регионе вскрываемое и.-е. диал. *selb(h)o- 'свой, сам' (с имеющей место недооценкой, как видно из вышесказанного, участия в нем также кельтской стороны) играло свою определенную роль как средство самоидентификации - индивидуальной, групповой, родовой. Естественно предположить, что южногерманское (алеманнское) Schwyz / немецкое Schweiz явилось в свое время как бы адстратным подключением, дублированием, семантической калькой, в частности, кельтского Helvetii, тем более, что это семантически
463
![]()
('свои люди, край своих людей') вполне отвечало германскому узусу. Любопытно, что этот последний, на наш взгляд, тоже все еще нуждается в корректировке своей этнолингвистической реконструкции: *su̯ē-bh-/*su̯e-dh-/*su̯i-d- не как индивидуализирующее 'frei, von eigener Art', как думают некоторые западные специалисты (напр., Покорный, выше), а - в духе древнеродовой идеологии, в коллективном смысле - 'свой, к своему роду, племени принадлежащий'. Однокоренное слав. *svoboda, на которое при этом, по-видимому, опираются, развило свое значение 'свобода, libertas', тоже из этой исходной базы принадлежности к роду.