А. СЛАВЯНЕ ВЪ МАЛОЙ АЗІИ
1. О Славянскихъ поселеніяхъ въ М. Азіи въ VII, VIII и въ слѣд. вв. О переходахъ Славянъ къ Арабамъ (__I_ — __II_. Стр. 1-18).
2. Новѣйшія извѣстія о Славянской стихіи въ М. Азіи (__III_ — __IV_. Стр. 18-38).
3. О непрерывномъ существованіи Славянской стихіи въ М. Азіи съ VII в. по настоящее время. О степени доступности Черноморскаго берега М. Азіи для Славянъ Русскихъ въ періодъ X—XVII в. О давности Русскихъ поселеній на Дунаѣ, на Дону. О сношеніяхъ Русскихъ этого періода съ Каспійскимъ и Кавказскимъ краями. (__V_ — __VII_. Стр. 38-121).
4. Разсмотрѣніе вопроса о времени перваго ознакомленія Славянъ съ М. Азіею. О невозможности опредѣлить это время, теряющееся въ отдаленной древности. (__VIII_ — __IX_. Стр. 121-152).
5. Мѣстныя названія въ Виѳиніи. Свидѣтельство краткаго житія св. Климента. Разборъ свидѣтельствъ Страбона, Т. Ливія, Плинія, Тацита, мнѣній Цейса, Гротефенда, Форбигера, Суровецкаго и Шафарика о Венетахъ Пафлагонскихъ. Общее заключеніе. (__X_. Стр. 152-191).
А.1. О Славянскихъ поселеніяхъ въ М. Азіи въ VII, VIII и въ слѣд. вв. О переходахъ Славянъ къ Арабамъ (I—II. Стр. 1-18).
I. Въ настоящее время, когда наука доказала несомнѣнно, что Азія была колыбелью и первоначальною родиною Славянъ, весьма понятны не только возможность, но и необходимость вопроса о томъ, сохранились ли до насъ какіе нибудь слѣды народныхъ преданій Славянъ о древней ихъ прародинѣ, подобныхъ тѣмъ, какія нынѣ открываются у Германцевъ? [1]
При совершенной несомнѣнности переселенія Славянъ изъ Азіи въ Европу, весьма ясно выступаетъ необходимость и другаго вопроса — при этомъ переселеніи не осталась ли часть Славянъ въ Азіи, — такъ какъ, судя по аналогіи позднѣйшихъ исторически извѣстныхъ переселеній, не только нельзя предполагать, чтобы вся масса народа, тѣмъ болѣе не кочеваго, оставила свои старинныя жилища, а напротивъ того думать должно, что въ нихъ могли удержаться болѣе или менѣе значительные остатки.
Какъ бы то ни было, но при настоящихъ свѣдѣніяхъ вопросъ о томъ — по выселеніи Славянъ въ Европу не осталась ли болѣе или менѣе значительная ихъ часть въ Азіи, вопросъ этотъ,
1. Grimm. Gesch. d. deutsch. Spr. Ss. 520, 523, 644, 728, 824.
![]()
2
по крайнему нашему разумѣнію, не маловажный, допускаетъ двоякое рѣшеніе — положительное и отрицательное. Въ первомъ случаѣ, т. е. если часть Славянъ осталась въ Азіи, нельзя кажется не утверждать, что сношенія ихъ съ выселившимися ихъ единоплеменниками не прерывались, по крайности, долгое время послѣ переселенія.
Эти замѣчанія мы сочли нужнымъ предпослать краткому обзору нашему Славянскихъ поселеній въ М. Азіи.
Первое письменное свидѣтельство о Славянахъ въ М. Азіи относится къ VII в. по P. X., именно къ 664 г.
Византійскій лѣтописецъ Ѳеофанъ разсказываетъ, что въ 664 г. вождь Сарацынъ, Абдуррахманъ, сынъ Халедовъ, вступилъ съ большими силами во владѣнія Римскія, провелъ въ нихъ зиму и опустошилъ многія провинціи. При семъ, говоритъ Ѳеофанъ, Славяне (οἰ Σκλαβῖνοι), числомъ до 5,000 человѣкъ, присоединились къ нему, пошли съ нимъ въ Сирію и поселились въ области Апамейской, въ селеніи Скевокоболѣ (ἐν χώμῃ Σκευοκοβόλῳ) [1].
Шафарикъ, упомянувъ объ этомъ поселеніи, замѣтилъ: «происхожденіе, дальнѣйшія судьбы и конечное истребленіе этихъ Славянъ намъ совершенно неизвѣстны».
У Ибнъ-Хаукала (Х в.), есть, кажется, упоминаніе о Славянахъ въ Сиріи [2].
Тотъ же Ѳеофанъ подъ 687 г. разказываетъ, что императоръ Юстиніанъ II, въ походъ свой въ Булгарію и Склавинію, опустошилъ этотъ край вплоть до Солуня, и огромное количество Славянъ [3] вывелъ изъ ихъ отечества, частью насильно, частью добровольно, у Абида переправилъ ихъ въ Азію и поселилъ въ странѣ или области Опсикій, простиравшейся отъ Абида на востокъ до Никеи, а на югъ до Апамеи [4].
1. Stritt. II, 75. — Theoph. Paris, р. 289. — Анастасій же (Paris, р. 109) называетъ Селевкобори. — Шафар. Слав. Древн. § 30. 6. Прим. 129.
2. Rein. Invas. d. Sarraz. en France. Paris. 1836. p. 237.
3. Ѳеоѳ. : πολλὰ πλήθη τῶν Σκλάβων. — Никиф.: πολλὰ τῶν ἐχεῖσε Σκλαβήνων γένη. — Зонара: πολλὰ τῶν Σκλαβικῶν ἐθνῶν. Str. II. 75.
4. Const. Porph. de them., Шаф. ibid. прим. 130.
![]()
3
Есть возможность довольно приблизительно опредѣлить число Славянъ, переселенныхъ И. ІОстиніаномъ въ М. Азію. Такъ тотъ же Ѳеофанъ говоритъ про него, что изъ переселенныхъ въ Азію Славянъ онъ набралъ людей способныхъ къ войнѣ и образовалъ изъ нихъ отрядъ въ 30,000 человѣкъ, всѣхъ ихъ вооружилъ и назвалъ отрядомъ отборнымъ (λαὸν περιούσιον, aciem superabundantem, но Шафарику Leibgarde), а въ начальники его назначилъ Небула (Νέβουλον). Въ этомъ огромномъ количествѣ Славянъ, поселенныхъ Юстиніаномъ въ М. Азіи, необходимо считать и женщинъ и дѣтей. Изъ взрослыхъ же мужчинъ конечно не менѣе трети было людей къ войнѣ неспособныхъ и потому естественно не попавшихъ въ этотъ отборный отрядъ. Такимъ образомъ мы нисколько не удалимся отъ истины, если скажемъ, что Славянъ, переселившихся въ М. Азію, въ 687 г., было никакъ не менѣе 80,000 человѣкъ.
Положившись на этотъ Славянскій отрядъ, императоръ объявилъ войну Арабамъ, которые подъ начальствомъ Могамеда въ первой своей схваткѣ были разбиты Греками. Могамедъ дорогимъ посуломъ и богатыми обѣщаніями убѣдилъ Славянскаго военачальника съ 20,000 человѣкъ перейти на свою сторону. Греки были разбиты. Тогда — говорятъ Ѳеофанъ, Кедринъ, Зонара — Юстиніанъ, который едва спасся бѣгствомъ, повелѣлъ истребить всѣхъ оставшихся Славянъ съ женами и дѣтьми, и трупы ихъ покидать въ море у Левкаты, близь Никомидіи. Безъ сомнѣнья, свидѣтельства этого буквально принимать нѣтъ никакой возможности. Этихъ оставшихся Славянъ было по меньшей мѣрѣ 50,000 человѣкъ. Ни Юстиніану, ни его людямъ не хватило бы ни силы, ни охоты на такую страшную рѣзню.
Us n’ont pas mérité
Ni cet excès d’honneur,
Ni cette indignité.
Всего вѣроятнѣе, месть Юстиніана разразилась на родственникахъ, на сообщникахъ отпавшихъ Славянъ и на всѣхъ болѣе или менѣе опасныхъ и подозрительныхъ ему лицахъ.
Точно также думаетъ и Шафарикъ, который въ подтвержденіе своего мнѣнья указываетъ и на то, что въ 949 г.,
![]()
4
по свидѣтельству Константина Багрянороднаго, въ области Опсикій жили Славяне. Впрочемъ вѣроятно тутъ были не одни потомки уцелѣвшихъ при Юстиніанѣ, но и позднѣйшіе переселенцы.
Славяне, въ числѣ 20,000 человѣкъ, измѣнившіе Грекамъ, кажется, участвовали потомъ въ рядахъ Арабовъ при завоеваніи ими Хорасана, восточной части Персіи. Такъ по крайности можно заключать изъ разсказа Ѳеофана и Анастасія подъ 692 г. «Восточная часть Персіи, называемая Хорасанъ, была завоевана Арабами. Тамъ явился нововводитель по имени Сабинъ, который истребилъ многихъ Арабовъ и убилъ самого Кагана». Подъ этимъ-то Каганомъ разумѣется Комбезій, въ своихъ примѣчаніяхъ къ Ѳеофану (р. 614—5), Славянскаго военачальника Небула.
Около 694 г. по случаю нападенія Могамедова на Греческую Имперію, лѣтописцы упоминаютъ о перебѣжчикахъ-Славянахъ, которыхъ онъ принялъ охотно, какъ людей, хорошо знакомыхъ съ мѣстностью.
Вотъ пока всѣ, дошедшія до насъ отъ VІІ в., извѣстія о Славянахъ въ М. Азіи.
Теперь законнымъ становится вопросъ — были ли Славянскія поселенія въ М. Азіи и до VII в. и до 664 г.? Или же первое письменное о Славянахъ въ М. Азіи свидѣтельство совпадаетъ съ первымъ дѣйствительнымъ ихъ въ ней поселеніемъ? Къ этому вопросу мы обратимся тотчасъ по обозрѣніи дальнѣйшихъ судебъ Славянъ въ М. Азіи.
Здѣсь же позволимъ себѣ поставить и другой вопросъ — Славяне Азійскіе, перешедшіе въ VII в. на сторону Арабовъ и принимавшіе въ ихъ дѣлахъ не незначительное участье, тотчасъ по переходѣ своемъ къ нимъ такъ сказать обусурманились и забыли свой языкъ, свои преданія, «законъ отецъ своихъ»? — или же они берегли и сохраняли ихъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ не прекращали и связей своихъ съ Славянами Азійскими, оставшимися вѣрными Имперіи?
Прежде, чѣмъ приступить къ VIII в. и далѣе, для большей ясности, позволю себѣ напомнить читателю всѣ тѣ вопросы, которые намъ представились почти сами собою.
![]()
5
1. Остались ли у Славянъ слѣды народныхъ преданій объ Азіи, какъ о древнѣйшей ихъ прародинѣ?
2. При выселеніи Славянъ изъ Азіи въ Европу не осталась ли болѣе или менѣе значительная ихъ часть въ Азіи?
3. При возможности въ настоящее время двоякаго рѣшенія послѣдняго вопроса, весьма понятно, что, въ случаѣ отвѣта положительнаго, необходимо признать за истину несомнѣнную, что Славяне Азійскіе и Европейскіе долго не теряли сознанія единства своего происхожденія и также долго не прерывали и своихъ связей.
4. Поселеніе Славянъ въ М. Азіи въ 664 г. по P. X., случайно занесенное въ лѣтопись Византійцами, есть ли первое поселеніе Славянъ въ Азіи?
4. Участье Славянъ въ дѣлахъ Арабовъ въ VII в. имѣетъ ли какое нибудь значеніе въ исторіи славянской? Повлекло ли оно за собой какія нибудь послѣдствія? Имѣло ли оно какое нибудь вліяніе на дальнѣйшую исторію и характеръ позднѣйшихъ отношеній Славянъ къ Арабамъ ?
II. Въ 754 г., по словамъ Ѳеофана, умеръ Могамедь, онъ же и Абулаба, княжившій 5 лѣтъ. Братъ его Абдела жилъ тогда въ Меккѣ. Онъ тотчасъ написалъ Абумуслиму и просилъ его принять слѣдующую ему часть княжества. Но тотъ, узнавъ, что Абдела, сынъ Али, братъ Салема, князя Сирійскаго, подъискивается подъ него и даже намѣревается подчинить себѣ Персію, собралъ противъ него войска Сирійскія. При Тіанѣ дано было сраженіе, изъ котораго Абусалимъ вышелъ побѣдителемъ, такъ какъ у него были Антіохійцы и множество Славянъ (Σκλάβοι) [1].
Подъ 762 г. разсказываетъ Анастасій [2] о смутахъ Болгарскихъ: убили своихъ вождей, избрали себѣ въ князья какогото Телетца. При семъ множество Славянъ оставило свою родину и искало убѣжища у императора, который и поселилъ ихъ подъ Артаною.
1. Theoph. Paris, р. 350—360. Stritter. I. 1.
2. Anast. Paris, р. 1 ί7.
![]()
6
То же самое передаютъ и Ѳеофанъ и Никифоръ [1]. У послѣдняго указано даже число этихъ переселенцевъ. Вотъ его слова: «Славяне, гонимые изъ отечества, переходятъ Евксинь. Числомъ ихъ было, говорятъ, до 208 тысячъ. Они поселились у рѣки, называемой Артана (πρὸς τὸν ποταμὸν, ὅς Ἀρτανας καλοῦταν).
Шафарикъ говоритъ при этомъ : « По нѣкоторымъ извѣстіямъ рѣка эта называется нынѣ Aghwah или Aghweh, а древній городъ Артапе долженъ быть селеніе Artakoi» (§ 30. 6. прим. 136). Цейссъ же видитъ въ ней рѣку Артанъ (Ἀρτάνης, Ἄρτανος), что въ Виѳиніи, на западъ отъ Сангарія [2]. Послѣднее мнѣніе гораздо вѣроятнѣе.
Такимъ образомъ Славянскія поселенія въ М. Азіи получили въ VIII в. весьма сильное подкрѣпленіе, которое безъ сомнѣнья должно было придать имъ силъ для удержанія и сохраненія своей народности.
Вообще, надо замѣтить, колоніи, даже вовсе оторванныя отъ своей митрополіи, весьма долго сохраняютъ свою народность. Готы, поселившіеся въ Крыму въ первой половинѣ III в. по P. X., еще въ XVI в., даже позже, сохраняли свою народность. Бусбекъ, бывшій Цесарскимъ посланникомъ въ Цареградѣ, въ 1557—1564 г. самъ собралъ и сохранилъ до насъ нѣкоторые образцы ихъ рѣчи, хотя и сильно попорченной, но въ основѣ своей совершенно Нѣмецкой [3]. Въ III в. до P. X. отрядъ Кельтовъ въ 20,000 человѣкъ, состоявшій изъ трехъ народцевъ, Толистобоевъ, Трокмовъ и Тектосаговъ, поселился въ М. Азіи (ок. 260 г.), послѣ чего край ими занятый долго назывался Галатіей, Грекогалатіей или Галлогреціей. Въ V в. по P. X. они еще сохраняли свою народность и Св. Іерониму языкъ ихъ казался тѣмъ же самымъ, какимъ говорили Тревиры въ его время, а Тревиры были Кельтами [4].
1. Niceph. Paris, р. 43. Str. l. I. 80. 322.
2. Zeuss. Die Deutsch. u. die Nachbarst. München. 1837. S. 628.
3. Zeuss. l. I. Ss. 430 — 433. Шафарикъ. l. I. т. I. ч. 2. с. 247 (въ Русск. перев.)
4. Zeuss. l. I. Ss. 180—182, 216—217.
![]()
7
Татары, поселившіеся въ Литвѣ въ XIV в., понынѣ сохраняютъ свою народность [1]. Славяне, по всей вѣроятности въ весьма незначительномъ количествѣ поселившіеся въ Швейцаріи никакъ не позже X в., а быть можетъ еще и ранѣе, до весьма недавняго времени говорили, а можетъ и понынѣ говорятъ испорченнымъ Славянскимъ языкомъ. Они живутъ въ долинѣ Аниверской, въ Валисскомъ Кантонѣ, въ шести часахъ разстоянія отъ города Ситена [2].
По аналогіи уже однихъ этихъ свѣдѣній безбоязно можно бы было предположить, что въ М. Азіи и понынѣ сохраняются болѣе или менѣе значительные остатки Славянскихъ поселеній, основанныхъ въ VII и въ VIII стол. по P. X.
Если же мы вспомнимъ природу страны, столь удобную для постоянныхъ сношеній жителей Забалканскаго полуострова съ жителями Анатолійскими, то поймемъ, что народность Славянъ Азійскихъ находилась въ несравненно болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ народность Крымскихъ Готовъ, Азійскихъ Кельтовъ и Швейцарскихъ Славянъ. Нельзя при томъ забывать и многочисленности Славянъ въ М. Азіи, гдѣ ихъ надо считать десятками тысячъ.
Сношеній съ своими земляками и соплеменниками Азійскими Славяне Европейскіе не покидали и забыть о нихъ не могли, потому что въ болѣе или менѣе значительныхъ массахъ, въ XII, XIII, XIV и XV в. они посѣщали М. Азію и именно тѣ края, гдѣ были Славянскія поселенія.
Никита Хонскій подъ 1154 г. разсказываетъ, что по договору, заключенному съ Мануиломъ Комниномъ, жупанъ Сербскій обязался въ случаѣ войны Императора на Западѣ, приходить къ нему на помощь съ 2,000 человѣкъ; если же война произойдетъ въ Азіи, то пошлетъ ему 500 человѣкъ, вмѣсто 300, какъ прежде обыкновенно бывало. (Str. II, 183). У него же подъ 1156 г. мы читаемъ: «Мануилъ Комнинъ, готовясь къ войнѣ противъ Сарацынъ, съ Запада вызвалъ Лигурійцевъ и Архижупана Далмаціи со всѣми его силами» (ibid.).
1. Мухлинскій. Изслѣдов. о происхожденіи и сост. Лит. Татаръ. Спб. 1857 отд. оттиск. и въ Актѣ Умп. Спб. Унив. 1857.
2. Шаф. Сл. Др. т. 1. ч. 2. стр. 197. т. II. ч. 3. с. 180 и сл.
![]()
8
Весьма вѣроятно, что и послѣ не разъ и Болгары и Сербы помогали Имперіи въ Азіи. О походѣ Сербовъ въ Азію при Стефанѣ Милутинѣ (1275—1321 г.) сохранилось одно любопытное извѣстіе [1].
Стефанъ Лазаревичъ, извѣстный у Сербовъ подъ именемъ Стефана Высокаго, помогалъ Баязету въ его войнѣ съ Тимуромъ своимъ войскомъ въ 5,000 человѣкъ [2].
Конечно появленіе въ М. Азіи Славянъ въ такихъ значительныхъ силахъ, весьма много содѣйствовало поддержанію народности Славянской въ колоніяхъ М. Азійскихъ. Если бы въ XIV и XV в. народность ихъ стала замирать, то приходъ ихъ земляковъ въ такихъ массахъ безъ сомнѣнія могъ подѣйствовать на нихъ такъ же, какъ проходъ Русскихъ войскъ по Австрійскимъ владѣніямъ въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго столѣтій поднялъ духъ и укрѣпилъ начавшія упадать народныя силы Славянъ Западныхъ. Но объ исчезновеніи Славянской народности, въ этотъ періодъ, въ М. Азіи, кажется не можетъ быть и рѣчи, тѣмъ болѣе, что многочисленныя колоніи Славянскія, основанныя въ М. Азіи въ VII—VIII в., не только сохраняли свою народность въ IX—X в. и позже [3], но еще получали новыя свѣжія подкрѣпленія напр. въ XII в.
1. Почтенный нашъ Славянистъ В. И. Григоровичъ (Очеркъ учен. путеш. по Европ. Турціи. Казань. 1848. с. 43) нашелъ его въ одномъ хрисовулѣ, въ мон. Хиландарскомъ на Аѳонѣ. Къ сожалѣнію онъ передаетъ его не подлинными словами. «Кѵръ Андроникъ Палеологъ, вселенскій царь, умолилъ всесердечнаго сына державнаго царства да пошлетъ войско противъ Персовъ въ Анатолію. Онъ же подвигнутъ моленіемъ тестя отряжаетъ дружину съ великимъ воеводою новакомъ грѣбетрѣка, которая достигнувъ града Иракліи радостно встрѣчена Андроникомъ, и, злезжче въ дрѣва, перешла въ Анатолію. Послѣ многихъ сраженій побѣдила и возблагодаренная Андроникомъ, воротилась».
2. Stritt. II, р. 333–330.
3. Такъ продолжатель Конст. Багр., разсказывая подъ 821 г. о мятежникѣ Михаилѣ, замѣчаетъ, что его производили отъ тѣхъ Славянъ (Σκλαβογὲνων), который многократно переселялись въ Малую Азію (Str. II, 100). Константинъ Порфирородный не разъ жителей области Опсикій называетъ Славизіянами (ibid. 104). Въ 949 г. они помогаютъ Грекамъ противъ Крита (ib. 105); также въ 960 г., когда они участвуютъ вмѣстѣ съ другими земляками своими (изъ Ѳракіи, Македоніи); также и въ 963 г. вмѣстѣ съ Русскими и Ѳракійскими Славянами (ib. 103, 100). Въ 1041 г. обитатели области Опсикій участвуютъ въ сраженіи Грековъ съ Норманами въ Апуліи. Какъ въ 963 г., такъ и въ 1041 г. подъ именемъ Русскихъ надо разумѣть Славянъ, а не Варяговъ; Греки не повели бы Русскихъ Варяговъ противъ Норманновъ, которыхъ именно называли Варягами (Guarangi. Luca Protosp.). См. Annal. Barenses. 1041 Mense Martin decimo septimo mirante factum est proelium Normanorum et Graecorurn juxta fluviuin Dulibentis. Et ceciderunt ibi multi Russi et Obsequiani (вар. molti Greci Rassi et Obsequani). Ipse vero Dulkiano (онъ же Nichiforus cetepanus) cura reliquo excrcitu, qui remanserat ex ipso praelio, fugam petierunt in Montem Pelosum. Deinde collectis Mense Maii in unum omnibus Graecis apud Montem Majorem juxta fluenta Aufidi, initiatum est proelium quarto die intrante, ubi perierunt plurimi Natulichi (i. e. Analolici, orientales) et Obsequiani, Russi, Trachichi (i. e. Thraces), Calabrici, Longobardi, Capitinates. (Pertz. Monurn. VII, 34).
Славяне участвуютъ въ войскѣ Грековъ въ Италіи и въ 1027 г. Такъ тѣ же лѣтоп. (Bar.) разсказываютъ подъ 1027 г.: «Hoc anno descendit Ispo chitoniti (κοιτωνίτης — cubicularius) in Italiam cura exercitu magno, id est Russorum, Guandalorum, Turcorum, Burgarorum, Vlachorum, Macedonum aliorumque, ut caperet Siciliam. Et Regium restaurata est a Uulcano catepano. Sed peccatis praepedientibus, morluus in secundo anno Basilius imperator ; qui omnes frustra reversi sunt. — Въ числѣ этихъ прочихъ были по всей вѣроятности и жители Опсикія. Такое соучастье ихъ со Славянами Европейскими весьма много способствовало поддержанію и сохраненію Славянской народности въ поселенцахъ Мало-Азійскихъ.
![]()
9
Такъ извѣстно, что Іоаннъ Комнинъ послѣ похода своего на Сербовъ въ 1122 г. перевелъ на востокъ множество плѣнныхъ и опредѣлилъ имъ въ мѣстожительство плодородныя земли въ области Никомидійской. Часть этихъ поселенцевъ обратилъ онъ въ легіоны, другую часть заставилъ платить подать. (Str. II, 175).
Пахимеръ сохранилъ намъ весьма любопытныя подробности о возмущеніи этихъ Славянскихъ поселенцевъ по случаю коварнаго поведенія Михаила Палеолога съ несчастнымъ младенцемъ Іоанномъ Ласкаремъ, сыномъ покойнаго Императора Ѳеодора Ласкаря.
Михаилъ Палеологъ, по вступленіи въ Царьградъ (1261 г.), вторично вѣнчалъ себя на царство, а законнаго государя, тогда осьмилѣтняго ребенка, онъ не взялъ съ собою въ Константинополь. Твердо рѣшившись удалить его отъ престола, Михаилъ не давалъ ему никакого воспитанія, удалялъ отъ него его сестеръ, наконецъ приказалъ лишить его зрѣнія. Преступное приказаніе это было исполнено въ день Рождества Христова. Несчастный ребенокъ былъ отвезенъ подъ стражею въ замокъ Дакивизы. Въ Имперіи пробудилось всеобщее негодованіе.
![]()
10
Патріархъ Арсеній, при всей слабости своего характера, не замедлилъ пригласить къ себѣ ближайшихъ къ нему лицъ изъ духовенства : говорилъ имъ, что при видѣ такого злодѣянія, они не могутъ оставаться спокойными и предоставляя лицамъ свѣтскимъ мечъ матерьяльный, они, съ своей стороны, должны вооружиться своимъ мечемъ духовнымъ, т. е. словомъ Божьимъ. На Михаила Палеолога было произнесено отлученіе [1]. Негодованье и ропотъ слышны были всюду даже и при дворѣ, но доносы, преслѣдованія и казни сильно подѣйствовали на малодушныхъ.
Славянскіе поселенцы въ окрестностяхъ Никеи распорядились въ этомъ случаѣ по своему и выставили самозванца. Найдя какого-то осьми или девятилѣтняго мальчика, ослѣпшаго отъ болѣзни, они признали его за Іоанна Ласкаря, законнаго своего государя. Они открыто возстали противъ тирана и поклялись стоять крѣпко за своего Императора. Извѣстіе объ этомъ возстаніи сильно напугало Михаила, опасавшагося за отложеніе этихъ пограничныхъ горцевъ, такъ какъ для спокойствія Имперіи они имѣли великую важность; наконецъ примѣру ихъ могли послѣдовать и другія области. Императоръ поспѣшилъ отправить къ нимъ сильное войско. Гористая мѣстность, покрытая густымъ лѣсомъ, постоянно доставляла мятежникамъ поверхность надъ силами Императора. Отличные стрѣлки, необыкновенно ловкіе во всѣхъ движеніяхъ, они рано истомили непріятеля. Война приняла совершенно народный характеръ; запрятавъ женщинъ и дѣтей въ глушь лѣсовъ, всѣ вооружились, кто дубиною, у кого не было меча. Начальники войска Императорскаго скоро замѣтили, что силою они съ нихъ ничего не возьмутъ; рѣшились прибѣгнуть къ переговорамъ, стали подсылать то къ тому, то къ другому изъ нихъ, обѣщая прощеніе Императорское, увѣряя ихъ, что слѣпой мальчикъ, находящійся у нихъ, вовсе не Іоаннъ Ласкарь,
1. См. Georg. Pachymeres. l. IV. с. 14. Niceph. Greg. l. IV. с. 4. Phranz. l. I. c. S. Lebeau Hist. du Bas-Empire. Nouv. édit. (M. de Saint-Martin et M. Brosset 1.). Paris. MDCCCXXXV. P. XVIII. p. 106 etc. Сравните образъ дѣйствій митрополита Филиппа съ Иваномъ Грознымъ.
![]()
11
который заключенъ въ такомъ-то замкѣ, въ чемъ они сами могутъ лично убѣдиться, отправившись туда. Разумѣется, тутъ не обошлось безъ подкупа. Цѣль была достигнута, но только отчасти. Единомысліе въ мятежникахъ исчезло, но тѣмъ не менѣе большинство, масса крѣпко держалась однажды принятаго намѣренія — стоять до конца. Говорили: «Положимъ, нашъ мальчикъ и не настоящій государь, но все же мы клялись его защищать, дрались, а теперь вдругъ мы постыдно измѣнимъ ему и отдадимъ его въ руки враговъ». Бѣгство мальчика къ Туркамъ окончательно разстроило мятежниковъ. Они стали переходить на сторону Палеолога. Тогда строгія казни и разныя преслѣдованія, особенно конфискація имуществъ, разразились надъ несчастными; отъ совершеннаго ихъ разоренія удержалось правительство не изъ состраданія, а изъ разечета, такъ какъ горцы же [1], охраняли восточные предѣлы государства отъ набѣговъ Турокъ.
Въ другомъ мѣстѣ, въ началѣ своей Исторіи, приступая къ правленію Михаила Палеолога, Пахимеръ такъ описываетъ намъ эти пограничныя поселенія, бывшія для Восточной Имперіи тѣмъ же, чѣмъ такъ называемая Военная граница для Австріи (Militair Gränze). Эта Греческая Украйна населена была людьми воинственными и трудолюбивыми, бывшими въ одно время и землепашцами и воинами.
Замѣтимъ, что Пахимеръ обращается къ первоначальнымъ дѣйствіямъ Грековъ по взятіи Константинополя Латинцами въ 1204 г. и по основаніи Ѳеодоромъ Ласкаремъ независимаго Государства Никейскаго [2]. Греки, говоритъ Пахимеръ, были окружены съ обѣихъ сторонъ опасными непріятелями — Латинцами и Турками. Съ первыми, какъ господствовавшими на морѣ, справляться было гораздо труднѣе, чѣмъ съ послѣдними. Нѣсколько иначе было съ Турками. Отъ нихъ отдѣляли Грековъ высокія горы съ узкими долинами, которыя было нетрудно укрѣпить.
1. Пахимеръ говоритъ: ταῦτα περὶ τοὺς Τρικοκκιώτας καὶ τοὺς τοῦ ζυγοῦ διαπραξὰμενοι ἀνεχώρουν ἐπ᾿ οἴκων. (Bonnae. 1, 201). Значитъ, были горцы и Триконкіоты (?).
2. См. прекрасную монографію Медовикова — Латинскіе императоры въ Константинополѣ. Москва 1849. С. 79 и сл.
![]()
12
Когда устроивъ нѣсколько гарнизоновъ и ежегодно выплачивая дань Туркамъ, обезпечили себя Греки со стороны востока, тогда устремили всѣ свои силы противъ Латинцевъ; ослабивъ же ихъ совершенно, они снова обратили свое вниманіе на укрѣпленіе своихъ восточныхъ предѣловъ. Созывая отовсюду сильныхъ и многочисленныхъ поселенцевъ, правительство Никейское отводило имъ опредѣленныя мѣста для жительства, поставивъ имъ въ обязанность содержать гарнизоны въ новопостроенныхъ крѣпостяхъ [1]. Чтобы болѣе привязать ихъ къ службѣ, имъ дарованы были разныя льготы. Такимъ образомъ въ теченіе времени эти поселенцы собрали себѣ большіе достатки; тѣмъ естественнѣе становились они все болѣе и болѣе ревностными защитниками Имперіи. Мало того, чаще и чаще стали они нападать цѣлыми, отдѣльными партіями на Турокъ, опустошать и разорять ихъ земли. Императоры щедро награждали ихъ за усердіе, завоевавшее государству совершенное спокойствіе и безопасность. Но когда по изгнаніи Латинцевъ, столица Имперіи снова была перенесена въ Константинополь, то пограничныя войска были значительно ослаблены, выдача награжденій и жалованія почти прекратилась. Дѣйствія этой пагубной мѣры значительно ослаблялись тѣмъ состояніемъ довольства этихъ пограничниковъ или украинцевъ, которое доставляло имъ большія средства для веденія войны или какъ Пахимеръ выражается — нервы войны (νεῦρα πολέμου).
За то постигло ихъ настоящее бѣдствіе, когда Императоръ Михаилъ Палеологъ имѣлъ неосторожность согласиться на убѣжденія одного сановника Хадина, который, отправившись на восточные предѣлы и нашедши тамъ людей весьма зажиточныхъ [2], описалъ все ихъ имущество въ казну, предоставивъ имъ вмѣсто него одну небольшую часть, вмѣсто жалованья [3].
1. εἰτα νῶτα στρέψαντες ἑκόντων ἀκόντων Περσῶν τοῖς ὂρεσιν ἐπεβάλοντο, συχνοῖς δὲ τοῖς πανταχόθεν ἐποὶκοις καὶ ἰσχυροῖς καταςφαλισάμενοι ἐρυμνὰ τεὶχη καὶ οἵου δυσεπιχειρήτους θριγκοὺς τῇ Ῥωμαΐδί ταῦτα κατέστησαν. (Pachym. l. I, с. 3. (Bonnae. p. 16).
2. ἂανδρας βαθυπλούτους εὑρὼν καὶ κτήμασι καὶ θρέμμασι βρὶθοντας Pach. l. I. (Bonnae. 1, 18).
3. εἰς τεσσαράκοντα νομίσματα τῷ ἐνὶ συμποσώσας. ibid.
![]()
13
Эта мѣра не замедлила совершенію раззорить поселенцевъ, Мало того, что они утратили прежнее усердіе: обѣднѣвъ, они меньше уже дорожили своимъ положеніемъ, упали духомъ, исчезла прежняя отвага, теперь не они на Турокъ, а Турки на нихъ стали нападать все чаще и чаще, поощряемые постоянными успѣхами. Такимъ образомъ облегчено было Туркамъ завоеваніе Виѳиніи, области въ высшей степени важной для Цареграда [1].
Вотъ описаніе Пахимера этихъ Граничаръ или Краинцевь. На какомъ основаніи, естественно спроситъ насъ читатель, считаемъ мы этихъ поселенцевъ за Славянъ? Пахимеръ нигдѣ не говоритъ объ ихъ происхожденіи.
Славянское ихъ происхожденіе видно изъ ихъ образа жизни, совершенно сходнаго напр. съ бытомъ нашихъ казаковъ, какъ онъ извѣстенъ намъ изъ источниковъ отечественныхъ и изъ описаній иностранцевъ, напр. Боплана. Они были землепашцы и отличные воины, занимались по всей вѣроятности и рукомеслами, такъ какъ въ цвѣтущую свою эпоху они владѣли большими достатками [2]. Характеръ ихъ возстанія, Самозванецъ и другія черты — чисто Славянскія. Наконецъ мы знаемъ, что съ VII в. въ эти края не разъ переселяемы были Славяне, въ массахъ весьма значительныхъ. Въ XII в. Іоаннъ Комнинъ поселилъ въ 1122 г. множество Сербовъ въ области Никомидійской. Въ XIII в. въ этихъ краяхъ, какъ извѣстно, были поселенія Сербскія [3].
1. См. G. Pachym. l. I, с. 3—6. (Bonnae. I, 14—20).
2. Вотъ какъ описываетъ ихъ Пахимеръ: οἱ κατὰ τῆς Νίκαιας τἀκραχωρῖται ἀγρόταί μὲν ὂντες καὶ γεωργίᾳ προσέχοντες, θαρραλέοι δ᾿ἂλλως, πίσυνοι τόξοις, ἅμα δὲ καὶ ταῖς κατὰ σφᾶς δυσχωρίαις τὸ πιστὸν ἒχοντες ὡς οὐ ῥᾳδίως πεισόμενοι κἂν τι πράττοιεν.... (l. III, с. 12. Bonnae. I. p. 194).
3. Въ важной грамотѣ о раздѣлѣ Греческой Имперіи, по случаю завоеванія Цареграда Латинцами въ 1204 г., между прочимъ читаемъ: «Provintia Optimati. Provintia Nicomidie. Provintia Tharsie, Plusiade et Metanoliscum Serwochoriis cum omnibusque sub ipsis». (Tafel u. Thomas. Font. rer. Ven. 1,473). Слово это читается во всѣхъ спискахъ искаженно; лучшее чтеніе представляется въ одиомъ спискѣ (Св. Марка) — cum Seruochoriis. Ученые издатели весьма справедливо читаютъ это по-Гречески такъ: σὺν τοῖς Σερβοχωρίοις (ibid. p. 491). Поселенія Сербскія въ Виѳиніи были еще въ IX в. Такъ въ спискѣ церквей, подчиненныхъ патріарху Цареградскому, составленномъ Львомъ Мудрымъ (Leonis Sapientis [а. 886—907] index ecclesiarum, throno Cpolitano parentium), читаемъ: VIII. Τῷ (τ. e. ἐπισκόπῳ) Νίκαιας, Βιθυνίας. 1. Ὁ Μοδρηνῆς, ἢτοι Μελῆς. 2. Ὁ Ληνόης. 3. Ὁ Γορδοσέρβων. См. Tafel. Const. Porphyrogen. de Provinciis Regni Byzantini. Lib. secund. Europa. Tubingae. 1846. p. 46—47. Также Zeuss. l. I. p. 628.
![]()
14
Вслѣдствіе новѣйшаго переселенія (1122 г.) Сербы, а также Болгары, разумѣется, укрѣпили свои давнишнія связи съ М. Азіею и шли туда тѣмъ охотнѣе, ибо находили тамъ своихъ соплеменниковъ, земляковъ и даже родственниковъ. Если же Славяне добровольно переселялись въ М. Азію безо всякаго призыва со стороны правительства Византійскаго, то тѣмъ скорѣе и охотнѣе конечно пошли они на приглашеніе Никейскихъ государей, которые найдя уже въ этихъ краяхъ поселенцевъ Славянскихъ, принимали ихъ охотнѣе, чѣмъ другихъ инородцевъ, напр. Албанцевъ, такъ какъ для Государства было весьма важно, чтобы между жителями Военной Границы господствовало единодушіе, а не смуты и раздоры, которые ведетъ за собою разпоплеменность.
И такъ Славяне переселялись въ М. Азію въ VII, VIII, въ XII и XIII в. — по большей части въ однѣ и тѣ же мѣстности, преимущественно въ Виѳииіи. Выше мы доказали, что въ IX— X в. и даже позже Славяне Азійскіе сохраняли свою народность, что впрочемъ понятно и безъ всякихъ на то свидѣтельствъ. Безъ сомнѣнія сохраняли ее и гораздо позже во первыхъ потому, что были многочисленны, во вторыхъ потому, что имѣли постоянныя сообщенія съ своими земляками и соплеменниками Европейскими.
Дѣйствительно, въ 821 г. Греки говорили, что Славяне многократно переселялись въ Азію, тогда какъ Лѣтописцы упоминаютъ до 821 г. только о трехъ переселеніяхъ. Какъ случайное, мимоходное упоминаніе Византійцевъ объ этихъ трехъ переселеніяхъ, такъ и слова Продолжателя Константина Багрянороднаго о многократныхъ переселеніяхъ Славянъ въ Азію до 821 г. — несомнѣнно доказываютъ, что въ періодъ VII—IX в. было не мало случаевъ этихъ переселеній, о которыхъ умолчали историки. Такіе случаи должны, были быть дѣйствительно нерѣдки, какъ въ этотъ, такъ и въ позднѣйшій періодъ.
Послѣ слѣдующихъ соображеній читателю не трудно будетъ убѣдиться въ справедливости этого положенія.
![]()
15
Въ 768 г. Императоръ Константинъ черезъ пословъ своихъ выкупилъ у Славянскихъ князей (Македонскихъ) содержавшихся у нихъ христіанскихъ плѣнниковъ и захваченныхъ ими на островахъ Имбро, Тенедосѣ и Самоѳракіи.
Если эти Славяне рыскали по Архипелагу, то конечно не оставляли въ покоѣ и береговь Азіискихъ, гдѣ какъ напр. въ Сиріи уже было поселеніе Славянское, передавшееся Арабамъ въ 664 г. Въ этомъ послѣднемъ Славяне Греческіе всегда могли находить радушный пріемъ, подобный тому, какой встрѣчаютъ Русскіе у Некрасовцевъ, служащихъ въ войнахъ Ίурокъ противъ Русскихъ.
Есть ли возможность утверждать, что въ Сиріи и было всего на всего только 5.000 Славянъ ? Почему въ послѣдствіи они не могли привлечь къ себѣ многихъ другихъ своихъ соплеменниковъ, жившихъ въ Азіи? Почему наконецъ они сами не могли слѣдовать примѣру уже прежде имъ показанному? Куда дѣлись тѣ 20,000 Славянъ, что передались Арабамъ при Юстиніанѣ, въ 691 г.? А перебѣжчики Славяне у Арабовъ, упоминаемые Византійцами подъ 693 г.? А множество Славянъ, участвующихъ въ войскѣ Арабовъ въ 754 г.?
Случайное упоминаніе Византійцами о Славянахъ въ рядахъ Арабовъ удостовѣряетъ насъ въ томъ, что о многихъ другихъ переходахъ Славянъ на сторону Арабовъ умолчано лѣтописцами. Между Славянами Греческими и Арабскими въ Азіи непремѣнно происходили постоянныя сношенія. Отъ того въ послѣдствіи и перебѣгали Славяне къ Арабамъ; такимъ образомъ и у Славянъ Европейскихъ завязались сношенія съ Арабами.
Славяне Морейскіе возмутились противъ Имперіи въ 802— 811 г. и стали осаждать Патрасъ, при чемъ, по свидѣтельству лѣтописей, помогали имъ Афры и Сарацыны.
Въ 923 г. Симеонъ, царь Болгарскій, задумавъ завоеваніе Цареграда, отправилъ пословъ въ Сѣверную Африку къ Арабскому Халифу Фатлуму, предлагалъ ему вмѣстѣ идти на Цареградъ и раздѣлить добычу поровну.
Потому-то весьма вѣроятно, что какъ Славяне Ѳессалійскіе, такъ и Морейскіе ходили въ Азію и даже быть можетъ селились въ ней; еще вѣроятнѣе такое предположеніе относительно
![]()
16
Славянъ Македонскихъ, грабившихъ въ VIII в. острова Имбро, Тенедосъ и Самоѳракію.
Памятникъ VIII или IX в., Житіе Св. Димитрія Солунскаго, разсказываетъ, ранѣе 695 г., про Славянъ Македонскихъ, что Драговичи, Сагудаты, Белегезиты, Воиничи (Ваюниты), Берзиты и др., въ своихъ лодкахъ однодеревкахъ рыскали по морю, грабили Ѳессалію и окрестные острова, Элладу и острова Кикладскіе, всю Ахаію, Эпиръ и большую часть Иллирика и часть Азіи, все это грабили и опустошали [1].
Тотъ же памятникъ сообщаетъ намъ, что около 685 г. и позже: «Стримонцы и Рунхины (вѣтви Славянъ Македонскихъ), соскучивъ покоемъ, рѣшились попытать счастья въ другихъ мѣстахъ. Они бросились на суда и стали грабить корабли съ хлѣбомъ, плывшіе въ Константинополь, то же сдѣлали и съ островами и съ Еллиспонтомъ, проникли въ самую Пропонтиду и здѣсь опустошивъ области Паросскую и Проконезскую, доходили до самаго Константинопольскаго порта; наконецъ обогащенные добычею и плѣнниками возвратились въ свои мѣста».
Морскіе разбои и грабежи, сами коренившіеся на страсти и привычкѣ къ морю, конечно развивали въ этихъ Славянахъ страшную удаль и отвагу, которыя съ принятіемъ Христіанства и съ смягченіемъ нравовъ не исчезли, а только приняли другое направленіе. Прежніе разбойники и отличные моряки, они стали въ послѣдствіи заниматься торговлею.
Такимъ образомъ весьма вѣроятно, что не только до IX в., но и гораздо позже Славяне Македонскіе посѣщали Азію и даже селились въ ней, постоянно туда привлекаемые не только плодородіемъ почвы, не однѣми выгодами торговли, но и бытностью тамъ своихъ земляковъ.
Императоръ Юстиніанъ въ 687 г. поселилъ огромное количество Славянъ, не менѣе 80,000 человѣкъ (см. выше) въ области Опсикій отчасти насильно, отчасти добровольно переселившихся въ М. Азію.
1. См. ст. еп. Филарета. Св. Великомуч. Димитрій и Солунскіе Славяне. Чт. М. Общ. Ист. и Др. Москва. 1848. № 6. С. 19.
![]()
17
Добровольно переселиться въ М. Азію могли Славяне потому, что уже знали ее.
Въ 762 г. около 208,000 Славянъ Болгарскихъ, въ слѣдствіе усобицъ и безпорядковъ, оставляютъ свою родину и добровольно поселяются въ М. Азію. Прежнія Славянскія въ ней поселенія не могли имъ оставаться неизвѣстными.
Нѣтъ никакой возможности и необходимости утверждать, что Болгарскіе Славяне никогда не ходили и не переселялись, въ болѣе или менѣе значительныхъ силахъ, въ М. Азію, во всѣ послѣдующія времена. Напротивъ того, соображая удобство сообщеній, сильныя колоніи Славянскія въ М. Азіи, которыя долго должны были сохранить свою народность и для того служить прилукою и приманкою всѣмъ недовольнымъ своимъ землякамъ Европейскимъ, соображая наконецъ торговыя связи съ Азіею и давнишнія и постоянныя хожденія странниковъ Болгарскихъ на поклоненіе Гробу Господню, — мы необходимо должны признать, что Славяне Болгарскіе не разъ высылали изъ среды своей поселенія въ М. Азію и до XVII в., когда, какъ намъ достовѣрно извѣстно, была основана нынѣшняя Болгарская колонія подлѣ Никеи. (Объ этомъ ниже).
Но указывая на всѣ благопріятныя обстоятельства, помогавшія долгому сохраненію Славянской народности въ М. Азіи, мы не можемъ и не должны скрывать отъ читателя и обстоятельствъ противоположныхъ, которыя были и не малочисленны и не безсильны.
Переходы Славянъ Азійскихъ къ Арабамъ, которые не могли быть особенно рѣдки (какъ то мы уже видѣли), значительно ослабляли Славянскія колоніи въ М. Азіи.
Славяне, поселившіеся въ М. Азіи въ VII и VIII в., по большей части, разумѣется, были язычники. Обращенные въ христіанство, они приняли въ свое богослуженіе языкъ Греческій. Позднѣйшіе Славянскіе переселенцы могли уже приносить въ М. Азію и свои Славянскія богослужебныя книги. Но судя по новѣйшему образу дѣйствій Грековъ относительно Славянъ, мы смѣло можемъ утверждать, что и къ Славянскимъ поселеніямъ въ М. Азіи были примѣняемы всѣ возможныя мѣры, лишь бы огречить ихъ.
![]()
18
Завоеванія Турковъ, ихъ поселенія, поборы, насилія и обращеніе въ исламизмъ, которому Славянскіе поселенцы могли поддаться легче, такъ какъ, принимая ученіе Церкви на языкѣ имъ непонятномъ, они не могли быть твердыми и вѣрными христіанами — на основаніи всѣхъ этихъ соображеній вмѣстѣ, должно полагать, что въ настоящее время въ Малой Азіи если и не сохранилась Славянская стихія во всей чистотѣ, то тѣмъ не менѣе оставила по себѣ много слѣдовъ какъ въ бытѣ, такъ и въ языкѣ, пѣсняхъ, напѣвахъ, наконецъ даже въ физическихъ особенностяхъ жителей нѣкоторыхъ частей Малой Азіи.
А.2. Новѣйшія извѣстія о Славянской стихіи въ М. Азіи (III—IV. Стр. 18-38).
III. Путешествіе по М. Азіи для этнографическаго изслѣдованія остатковъ бывшихъ въ ней Славянскихъ поселеній могло бы, смѣю думать, принести пользу наукѣ. Подтвержденіемъ этой мысли можетъ между прочимъ служить весьма любопытное извѣстіе почтеннаго и весьма мало нами цѣнимаго, стариннаго Путешественника нашего — Василія Григоровича Барскаго Плаки Альбова [1]. Такъ, описывая монастырь Св. Саввы Іерусалимскаго, онъ говоритъ между прочимъ:
«Въ трапезѣ (монахи) чтенія не имутъ, развѣ при гостяхъ, понеже суть всѣ просты и не разумѣютъ не токмо книжнаго писанія, но многи суть иже ни Греческаго простаго языка умѣютъ, кромѣ Турецкаго и сіи суть отъ Анатоліи идѣже мало Христіанъ, Христіане бо, иже въ Анатоліи, всѣ по Турецки бесѣдуютъ, и другаго языка не знаютъ; аще же и Греческія книги въ церьквѣ чтутъ, но не разумѣютъ : тако бо токмо изучаются чтенія ради церковнаго, да Христіанская вѣра не изчезаетъ» (I, 209).
Въ 1731 г. Барскій прожилъ въ Караманіи два дня.
«Селевкія бяше иногда градъ многознаменитъ и пресловутъ, о немъ же и въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ воспоминается, яко отплыша тамо Св. Апостолы на проповѣдь Божеств. Евангелія; нынѣ же обнища и есть, яко нѣкая весь, отстоитъ отъ Кипра шестьюдесятьми милями, на странѣ Сѣверной, на землѣ великой,
1. Пѣшеходца В. Г. Б. А. уроженца Кіевскаго, монаха Антіохійскаго, путешествіе къ святымъ мѣстамъ.... 6-е изд.
![]()
19
нарицаемой Анатолія, при брезѣ морскомъ, при горахъ великихъ, имать же и крѣпость особно отъ давно зданную и вооруженную ради враговъ. Тамо не точію Турки обрѣтаются; но и Христіанъ много съ Священниками и церкви въ семъ разнствуютъ отъ иныхъ странъ, яко инымъ языкомъ не бесѣдуютъ точію Турецкимъ, посполитъ народъ весь, въ сапогахъ обувенъ есть, на головахъ мужіе носятъ нѣкія высокія шапки съ завивалы и зрятся быти страшны пришелъцомъ» (I, 363).
Описѣівая свое плаваніе, отъ Кипра къ Самосу, Барскій говоритъ между прочимъ:
«По вся дни имуще вѣтръ противенъ и многи препятствія отъ страха и осторожность отъ разбойниковъ морскихъ, овогда же тишинѣ случающейся, съ великимъ трудомъ веслами гребохомся, и умедлихомъ на морѣ дній осмьнадесять, не отдаляхомся же далече на ширину морскую, но пловохомъ воскрай Анатоліи земли великой, оттуда даже до Чернаго Моря къ землѣ Грузинской протязаемой, юже имѣхомъ въ странѣ правой; мимо идохомъ же по чину, наченши отъ Кипра, страны и грады сицевы: Караманію, Анаію, Аманію, си есть Писидію ; въ сихъ трехъ странахъ Христіане не умѣютъ бесѣдовать инымъ языкомъ точію Турецкимъ, понеже тамо Христіанъ мало, Агарянъ же множество, и многолѣтняго ради житія погубиша Греческій языкъ и все привѣтствіе ихъ, молитвы и поученія въ церквахъ отъ священникъ бываемыя, Турецкимъ діалектомъ глаголются, точію пѣніе и чтеніе церковное творятъ по письменамъ Греческимъ, обаче отнюдь ничто не разумѣютъ яже тутъ» (II, 63).
Также говоритъ онъ: «и до здѣ (Мирликіи) Христіане бесѣдуютъ языкомъ Турецкимъ точію; оттуда же начинаются, въ нихъ же бесѣдуютъ по-Гречески и по-Турецки» (ib).
Въ предпослѣднемъ замѣчаніи Барскій ( старается объяснитъ себѣ замѣченный имъ фактъ — христіане Греческаго богослужебнаго языка не понимаютъ, и говорятъ по Турецки тѣмъ, что «тамо Христіанъ мало, Агарянъ же множество». Объясненіе очевидно весьма неудачное [1].
1. За Болгарскимъ монастыремъ св. Іоанна Рыльскаго, къ Аѳону, лежитъ другой монастырь св. Іоанна Предтечи. Почтенный преемникъ Барскаго, инокъ Парѳеній, въ 1839 г. нашелъ въ его библіотекѣ
«множество кожаныхъ и бумажныхъ рукописныхъ Славянскихъ книгъ, болѣе тысячи; лежатъ безъ всякаго бреженія, о чемъ много мы соболѣзновали и сожалѣли; уже многія повредились. Мы спросили: «почему такъ безъ всякаго присмотру находится библіотека?» Намъ отвѣчали: «А на что эти книги намъ? Читать мы ихъ не знаемъ. Хотя и вся братія — Болгары, но читать по-Славянски ни единъ не разумѣетъ, потому что мы всѣ изъ Македоніи. А у насъ по всей Македоніи, по градамъ и по селамъ, нигдѣ не читаютъ по-Болгарски, а вездѣ по-Гречески. Хотя и всѣ Болгары живутъ, хотя и ничего по-Гречески не понимаютъ, ни міряне, ни священники, но тако заведено издревле, и уже привыкли, потому что съ юности учимся читать и пѣть по-Гречески. А сія библіотека жертвована Болгарскими и Сербскими царями. Тогда по всей Ѳракіи и Македоніи читали и пѣли по-Болгарски, а нынѣ только въ селѣ Патакѣ и въ монаст. преп. Іоанна Рыльскаго». (Сказ. о странств. и пут. ... инока Парѳенія. II, 58).
Болгары Македонскіе очень многочисленны, оттого грамотность Греческая не могла у нихъ вытѣснить языка Болгарскаго. Если бы Христіане Азійскіе, о которыхъ говоритъ Барскій, были Греки, то они подавно бы не позабыли своего природнаго языка, такъ какъ у нихъ была своя грамотность Греческая. Эти простыя слова, замѣчу кстати, осязательно доказываютъ весь вредъ народнаго воспитанія въ духѣ чужомъ, не національномъ.
![]()
20
Безъ сомнѣнія, Христіане, о которыхъ говоритъ Барскій, не были Греками, а принадлежали къ какой-нибудь другой народности, которая не могла сохранить своего языка потому, вѣроятно, что была малочисленна и въ богослуженіи употребляла не свой языкъ, а Греческій. Нѣтъ также сомнѣнія въ томъ, что если объясненіе наше справедливо, то Турецкій языкъ этихъ Христіанъ не совсѣмъ чистый и сохраняетъ на себѣ болѣе или менѣе значительные слѣды роднаго ихъ нарѣчія. Точно также могли они сохранить и нѣкоторые свои нравы и обычаи. Такъ, полагаю я, могли сохраниться и слѣды Славянскихъ поселеній въ М. Азіи. Теперь еще нельзя отвѣчать отрицательно на вопросъ: въ числѣ Христіанъ, описываемыхъ Барскимъ, не могутъ ли быть и переродившіеся Славяне? Сапоги и высокія шапки Христіанъ, что подлѣ Селевкіи и что не знаютъ Греческаго языка, а говорятъ по-Турецки, — конечно не позволяютъ отвѣчать положительно, однако дѣлаютъ предположеніе это весьма вѣроятнымъ. Славяне въ VII—въ VIII в., а конечно и позже, рыскавшіе по Архипелагу, могли селиться въ Азіи въ разныхъ краяхъ, а не только въ области Опсикій, въ древней Виѳиніи и т. д.
![]()
21
Намъ вѣдь уже положительно извѣстно, что въ 664 г. 5,000 Славянъ поселилось въ Сиріи, въ области Апамейской [1].
Безъ этнографическаго путешествія ученыхъ наблюдателей, хорошо знакомыхъ съ Турецкимъ, Греческимъ и Славянскимъ языками и бытомъ, — было бы слишкомъ смѣло и неосновательно утверждать, что въ настоящее время не осталось никакихъ слѣдовъ Славянства въ М. Азіи.
Напротивъ въ высшей степени вѣроятна возможность, на основаніи точныхъ этнографическихъ наблюденій, возсоздать для науки географическое распредѣленіе Славянъ въ М. Азіи. Наконецъ въ вѣрности своего предположенія о томъ, что понынѣ сохраняются въ М. Азіи слѣды Славянства, убѣждаюсь между прочимъ и однимъ весьма любопытнымъ замѣчаніемъ ученаго путешественника Англійскаго, Энсворта (Ainsworth) [2], который шелъ съ своимъ товарищемъ изъ г. Бартана на Востокъ.
«Нашъ путь, говоритъ онъ, лежалъ вдоль горячихъ водъ Ордири (Ordeiri), и, послѣ краткой верховой ѣзды по лѣсу изъ чинаръ и пробковаго дерева съ паростникомъ и виноградниками, мы прибыли въ месджидъ (mesjid), деревню Баг-Джевисъ (Bagh-Jevis), т. е. Орѣховый Садъ.
Теперь все принимало размѣры истинно Альпійской природы; въ главѣ долины возвышалась гора Дэрнаг-Джейласи (Durnah-Jailasi), древній Орминій, съ сосновымъ лѣсомъ и съ высокою голою вершиною....
Тамъ и сямъ внутри долины раскиданы были деревни и нѣсколько домобъ, болѣе, чѣмъ можно было ожидать въ этомъ мѣстѣ, помѣщалось у подошвы горы. Но всего болѣе возбудило наше любопытство то обстоятельство, что въ этихъ хижинахъ жили люди особаго племени, которые исключая языка (весьма испорченнаго Турецкагово всемъ другомъ ни черты не имѣли общаго съ Турками. Лицемъ они смуглы, волосы у нихъ длинные, ихъ лобъ впалый (indented), черты ихъ рѣзкія и выразительныя и вообще не похожія на круглую Турецкую физіономію.
1. Любопытно, что на Азійскомъ берегу, насупротивъ острова Митилина, находится селеніе Kozakly (Кип.).
2. Ainsworth (Will. Francis.) Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia. In two volumes. London. MDCCCXLII. I, 62—63.
![]()
22
Они, кажется, принадлежатъ къ первобытнымъ племенамъ, оттѣсненнымъ отъ берега въ горы и уже переродившимся; такъ волосы ихъ были всклокоченны (uncombed), а рѣзкія черты лица (fierce а. harsh) казались какъ бы закопченными отъ дыма (looked as if smoke dried).
Хорошо извѣстно, что въ этихъ краяхъ жило Славянское племя. У Омира извѣстные подъ именемъ Генетовъ Ἑνετοι, они были вѣтвью тѣхъ самыхъ Славянъ (Sclavonians), что у Римлянъ слыли — Veneti, а у Нѣмцевъ Winden, Wenden. По словамъ Страбона они жили около Парѳеніоса и занимали значительную часть приморской Пафлагоніи.
Это единственный извѣстный мнѣ фактъ бытности на Азіатскомъ полуостровѣ народа, который подъ именемъ Сербовъ, Болгаръ и проч. составляютъ такую значительную часть населенія Европейской Турціи».
Въ какой степени справедливо предположеніе путешественника Англійскаго, о томъ судить не могу; однако нельзя не замѣтить, что, если ученые считаютъ возможнымъ и вѣроятнымъ, что такой древній народъ, какъ Венеты Пафлагонскіе, жившій за сотни лѣтъ до P. X., и еще въ древности исчезнувшій и утратившій свою народность, могъ понынѣ сохранитъ нѣкоторыя типическія черты и особенности, то тѣмъ безспорно справедливѣе наше предположеніе о Славянскихъ поселеніяхъ VII, VIII и сл. вѣк. по P. X. IV.
IV. Выше представленными данными не ограничиваются извѣстія наши о Славянскихъ поселеніяхъ въ Ш. Азіи. Еще въ 1808 г. Сальватори, на пути своемъ изъ Константинополя въ Персію, напалъ на Болгарскую деревню между Никомидіею и Никеею; въ письмѣ своемъ къ Д. Карено онъ описываетъ ея обитателей такимъ образомъ:
«За день пути до Никеи мы ночевали въ одной деревнѣ подъ названіемъ Кизъ-Дербентъ (или Kyz-Derrent), населенной одними Болгарами (di soli Bulgari). Около двухъ сотъ лѣтъ тому назадъ (т. е. около 1608 г.), семь семействъ Болгарскихъ, гонимыя за вѣру (per motivo di religioпе), покинули cboeo родину и поселились въ этомъ мѣстѣ, гористомъ и лѣсистомъ.
![]()
23
Но чего не достигаетъ человѣческое искуство! Теперь считается ихъ 150 семей, живутъ себѣ покойнѣе, чѣмъ прежде на родинѣ; собираютъ много льну, шелку и плодовъ. На зарѣ я видѣлъ, что множество женщинъ и дѣвушекъ трепали ленъ точно такимъ же образомъ, какъ у насъ въ Италіи; веселыя, онѣ встрѣчали восходъ солнца пѣснями» [1].
Вспомнимъ, что въ окрестностяхъ Никеи издавна были поселенія Славянскія. На западъ отъ Никеи, въ верстахъ полутораста отъ Киз-Дербента, на берегу озера Маньясскаго, находится другое Славянское поселеніе, именно Русская колонія, у Турокъ называемая Козакли, вѣроятно та самая, что обозначена у Киперта на западномъ берегу Маньясскаго озера подъ тѣмъ же названіемъ (Kazacly).
Первое о ней извѣстіе сообщилъ ученый Англійскій путешественникъ Гамильтонъ. Онъ посѣтилъ ее въ 1837 г. мая 30.
«Мы пришли, говоритъ, въ большую деревню, называемую Казакли, что на западномъ берегу озера (Маньясскаго). Вступивъ въ нее, я прежде всего былъ пораженъ деревяннымъ крестомъ, возвышавшимся надъ небольшимъ строеніемъ, по всей вѣроятности часовнею, а еще болѣе прекрасною наружностью и Тевтонскимъ (т. е. Европейскимъ) выраженіемъ женщинъ и дѣтей, ихъ чистою одеждой и живостью ихъ движеній, столь противоположною важности Турокъ и равнодушію (listlessness) Грековъ. Оказалось, что это Козацкое поселеніе, устроенное Портою по взятіи Измаила Русскими; предки ихъ предпочли Турецкое владычество Русскому. Жители сохраняютъ свой языкъ и свой нарядъ и немногіе изъ нихъ умѣютъ говорить по-Турецки: нарядъ мужчинъ и мальчиковъ состоитъ изъ длиннаго бѣлаго кафтана (frock), вышитаго разными цвѣтами внизу и на воротѣ и изъ черной бараньей шапки (Персидской). Съ ними Турки обходятся весьма ласково, они имѣютъ своего старшину, пользуются самоуправленіемъ и не платятъ податей правительству.
1. Slowanka. zur Kenntniss d. alten u. neuen slaw. Literat. d. Sprachkunde nach allen Mundarten, d. Kesch. u. Alterthiimer. von I. Dobrowsky, Prag. 1814. I, 86. «Bulgaren in Klein-Asien».
![]()
24
Озерная рыба и стада ихъ составляютъ главный источникъ ихъ пропитанія» [1].
Въ 1850 г. вышло другое, гораздо полнѣйшее описаніе этой Русской М. Азійской колоніи. Авторъ его, Мак-Фарленъ, лично посѣтилъ и подробно описалъ ее, какъ очевидецъ [2]. До личнаго посѣщенія своего Маньясской колоніи, онъ не могъ собрать никакихъ порядочныхъ свѣдѣній.
«Такъ одинъ Турецкій эффенди въ Сизикѣ описывалъ Маньясскихъ казаковъ весьме спокойнымъ, промышленнымъ и честнымъ народомъ, но очень нелюдимымъ и исключительнымъ; онъ сознавался, впрочемъ, что самъ онъ никогда не бывалъ въ колоніи. Другой Турокъ, напротивъ того, изображалъ ихъ чрезвычайно звѣрскими и находилъ въ нихъ главный порокъ, что они не курятъ табаку. Одинъ Грекъ замѣтилъ, что они не пьютъ ни вина, ни водки и никогда не рѣшатся, пить воду изъ того же самаго стакана или сосуда, изъ котораго прежде пилъ кто-либо чужой, былъ ли то христіанинъ или мусульманинъ. Приближаясь къ самой колоніи Мак-Фарленъ наводилъ дальнѣйшія о ней справки и былъ крайне изумленъ, что Турки, въ самомъ близкомъ съ нею сосѣдствѣ, знали о ней очень мало: одинъ молодой Турокъ подтвердилъ ему прежнее сказаніе, что они гнушаются табаку — въ его глазахъ знакъ неизъяснимаго звѣрства. Другіе Турки отдавали казакамъ справедливость, что они очень хорошіе рыболовы, но, впрочемъ, отзывались о нихъ съ презрѣніемъ, какъ о недостойномъ, отверженномъ племени, живущемъ чрезвычайно неопрятно» [3].
Мак-Фарленъ приближается къ Маньясскому озеру.
«Вскорѣ — говоритъ онъ — намъ открылся полный видъ Маньясскаго озера и мы увидѣли довольно большое турецкое селеніе, пріятно расположенное на скатѣ холма и спускавшееся до самаго края озера.
1. Hamilton (Will. J.) Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia. London. 1842. II, 105—106,
2. Mac Farlane (I.) Turkey and its destiny. 1830. Vol. I, 475—491. Г. Свенске представилъ переводъ этого описанія и извлеченіе изъ него въ Вѣсти. Геогр. Общ. 1855, кн. III, отд. III, с. 1—12. Пользуюсь имъ, изрѣдка дополняя его собственнымъ переводомъ тѣхъ впрочемъ, весьма немногихъ мѣстъ, что имѣютъ нѣкоторый интересъ и нѣсколько сокращены у почтеннаго ученаго вашего.
3. См. Г. Свенске (Вѣстн.) «Русская колонія въ Малой Азіи. С. 2.
![]()
25
Проѣхавъ небольшую рощу малорослыхъ дубовъ и миновавъ пространное Турецкое кладбище, мы увидѣли передъ собою казацкое селеніе (у Турокъ — Козакли), лежащее на самомъ берегу озера. Людей не было видно вовсе.
Прибывъ въ селеніе въ 10 часовъ утра (18 Ноября 1847 г.), мы вступили въ него хорошею, просторною, прямою улицею, спускающеюся къ озеру. Все еще намъ не попадалось на глаза ни одной души. Дома по обѣ наши стороны казались опрятнѣе и несравненно лучше поддерживаемыми, чѣмъ всѣ доселѣ нами встрѣченные; но мы могли видѣть только малую ихъ часть, потому что каждый домъ стоитъ посреди огороженнаго двора и обращенъ къ улицѣ только одною стѣною двора, воротами и запертою калиткою. По достиженіи края озера мы замѣтили нѣсколькихъ очень бѣлокурыхъ дѣтей, опрятно и хорошо одѣтыхъ, а потомъ двухъ или трехъ очень рослыхъ и стройныхъ женщинъ въ коротенькихъ юбкахъ. Всѣ онѣ казались застѣнчивыми и мало понимавшими, что было имъ сказано по Турецки. Наконецъ онѣ смекнули, что мы спрашиваемъ, гдѣ находится домъ ихъ бея или старосты. Маленькій мальчикъ не подходя къ намъ близко, подалъ знакъ, что покажетъ намъ дорогу. Онъ повелъ насъ нѣсколько вверхъ по улицѣ, которою мы спустились, и постучался у одной весьма красивой двери. Сначала по открытіи дверей показалась высокая, худощавая, старая женщина, но, увидѣвъ насъ, тотчасъ скрылась, не говоря ни слова и не подавъ намъ ни малѣйшаго привѣтствія или поклона. Спустя нѣсколько минутъ вышелъ самъ старый бей и, остановись у своего порога, не сдѣлалъ намъ приглашенія переступить черезъ него. Онъ довольно хорошо говорилъ по-Турецки и былъ высокаго роста, съ густою бородой и чистой, почтенной наружности. На вопросы, которые мы предложили ему относительно этой любопытной колоніи, онъ отвѣчалъ намъ коротко, но довольно вѣжливо; сказалъ однако, что боится впустить насъ въ свой домъ или ближе подойти къ намъ, потому что слышалъ отъ своихъ людей, что въ Константйпополѣ жестоко свирѣпствуетъ холера.
Сколько ни ошибочно, вѣроятно, мнѣніе насчетъ заразительности ея и какъ намъ ни была непріятна его осторожность,
![]()
26
однако мы не могли не принять ее за нѣкоторое доказательство цивилизаціи.
Мы спросили, гдѣ найти намъ священниковъ, какъ тѣхъ лицъ, отъ которыхъ надѣялись получить желаемыя нами свѣдѣнія о колоніи. Бей, имѣвшій патріархальную осанку, сказалъ, что укажетъ намъ дорогу къ ихъ дому, и, надѣвъ на голыя свои ноги туфли, вышелъ и проводилъ насъ внизъ по улицѣ, держась однако нѣсколько поодаль отъ насъ. Дойдя до конца улицы, мы узнали, что священники отправились на рынокъ или ярмарку въ недальній Турецкій городъ.
Между-тѣмъ вышли и другія женщины и дѣти; но всѣ онѣ держались въ отдаленіи, и въ то время, когда я занялся снятіемъ небольшаго эскиза части озера, бей повернулъ назадъ къ своему дому, безъ всякихъ разговоровъ. Мы уже стали было думать, что казаки дѣйствительно заслуживаютъ упрекъ нелюдимости и холодности, дѣлаемый имъ Турками и Греками. Но какъ съ беемъ можно было объясняться на понятномъ намъ языкѣ, чего, повидимому, нельзя было ни съ кѣмъ другимъ въ деревнѣ, и какъ мы были очень голодны, то скоро послѣдовали за старикомъ и постучались вновь у его дверей, чтобы предложить еще нѣсколько дальнѣйшихъ вопросовъ и попросить его, чтобы онъ далъ намъ хотя нѣсколько хлѣба. Мы сказали ему, что если онъ опасается насъ, то мы будемъ держать свою трапезу внѣ его дверей на улицѣ; что у насъ, впрочемъ, нѣтъ ни холеры, ни другой какой-либо болѣзни, а только хорошій апетитъ, а что касается Константинополя, то мы давно не были вблизи его. Мало по малу опасенія старца разсѣялись и онъ пригласилъ насъ къ себѣ въ домъ, самый опрятный и безспорно красивѣйшій, который мы видѣли въ М. Азіи. Первая горница, въ которую мы вошли, была просторная гостиная, самый лучшій покой во всемъ домѣ. Она была около 50 футовъ длиною и 25 шириною; стѣны ея были хорошо оштукатурены и выбѣлены, и на нихъ не видно было ни одного пятна грязи и ни малѣйшей пыли. Кровля безъ всякаго промежуточнаго потолка была изъ камыша, красиво вырѣзаннаго и сложеннаго внутри; полъ состоялъ изъ песку, смѣшаннаго глиною, и былъ мѣстами выложенъ раковинами и кремешками.
![]()
27
Вокругъ всего покоя находился выступъ изъ стѣнъ, фута въ два шириною и почти такой же вышиною, и этотъ выступъ служилъ вмѣсто дивана. Противъ самаго входа были большія открытыя двери, которыя въ холодную погоду завѣшивались коврами, и чрезъ это-то отверстіе могли мы видѣть небольшой, крѣпко огражденный заборомъ огородъ, по обѣимъ сторонамъ котораго были расположены небольшія спальни и другія комнаты. У самаго конца сада была перегородка изъ высокаго камыша или озернаго тростника, красиво поставленная и перевитая: а позади ея находился птичій дворъ, вблизи же, но нѣсколько въ сторонѣ другая подобная же стѣна, за которою скрывалась кухня; хорошая, широкая, гладкая дорожка, красиво выложенная кремнями, вела отъ залы до конца сада. Все носило печать первобытной простоты, но было красиво, порядочно и чрезвычайно чисто, и все это произведено руками казаковъ.
«Бей своими собственными руками положилъ передъ нами на столъ хлѣбъ и луковицы и велѣлъ своей дочери, высокой, стройной и опрятной женщинѣ, сварить нѣсколько свѣжихъ яицъ. Мука была лучше смолота и хлѣбъ вообще лучше всякаго другаго, который мы отвѣдывали въ М. Азіи. Спустя немного вошелъ другой старый сѣдой казакъ, а вслѣдъ за нимъ смуглый, небольшаго роста мужчина въ мѣшковатомъ платьѣ изъ крѣпкаго, но грубаго сукна. Послѣдній былъ одинъ изъ учителей колоніи, потому что у казаковъ заведена даже и школа. Онъ показался мнѣ лѣтъ отъ 30 до 40, говоритъ по-Турецки, хотя не очень плавно, и сказалъ намъ, что ему 38 лѣтъ отъ роду, и что онъ былъ первое дитя, родившееся въ колоніи, со времени ея основанія.
За завтракомъ своимъ, мы предлагали бею разные вопросы насчетъ колоніи. Мы узнали отъ него, что она состоитъ изъ донскихъ казаковъ, что, согласно съ преданіемъ, предки ихъ лѣтъ за 280 переселились съ Дона на Дунай; но когда Дунайская колонія размножилась до того, что уже не могла достаточно питаться рыболовствомъ, то она лѣтъ за 39 выслала отъ себя человѣкъ около 300, и что за исключеніемъ немногихъ, умершихъ на пути, эта отрасль Дунайской колоніи, принятая подъ покровительство султаномъ, прибыла къ Маиьясскому озеру и
![]()
28
поселилась въ такомъ мѣстѣ, гдѣ хорошо ловилась рыба и было водяное сообщеніе между озеромъ и моремъ. Лѣтъ же за 14 или 15, воспослѣдовало второе поселеніе туда же съ Дуная. Они вскорѣ размножились; но потомъ число ихъ убавилось отъ многократныхъ посѣщеній чумы. Въ теченіе же десяти послѣднихъ лѣтъ, они были пощажены этимъ бичемъ, и все это время населеніе колоніи постоянно возрастало.
Семейства этихъ сыновъ Дона были вообще многочисленны, и дѣти ихъ очень сильны и здоровы. Климатъ не производилъ на нихъ никакого дѣйствія: они едва знали, что такое злокачественная лихорадка (malaria fever), хотя окрестности озера слывутъ весьма благопріятными развитію этой гибельной заразы, и живущіе въ бассейнѣ его Турки безпрестанно страдаютъ отъ перемежающихся лихорадокъ [1]. Видъ не только всѣхъ дѣтей, но и всѣхъ взрослыхъ женщинъ, которыхъ мы видѣли, подтверждалъ справедливость вышеприведеннаго замѣчанія: всѣ они отличались здоровьемъ, свѣжестью и силой. Нѣкоторыя изъ дѣтей были очень пригожи, къ голубыми глазами и съ бѣлыми, какъ ленъ, волосами. Лицемъ они очень похожи на юныхъ нашихъ Нортумберландцевъ, дѣтей югозападнаго берега Шотландіи, въ которыхъ много Датской крови. Самъ бей и другіе старцы не имѣли, за исключеніемъ длинной ихъ бороды, ничего восточнаго, а напротивъ видъ совершенно западно-Европейскій. Бей съ возвышеннымъ челомъ и съ орлинымъ носомъ. Мы замѣтили здѣсь только одно калмыцкое лице, именно у школьнаго учителя, родившагося въ колоніи. Колонія нынѣ считаетъ 300 домовъ и 5 церквей. Намъ сказали, что въ селеніи 5 школьныхъ учителей и два священника; что эти послѣдніе Русскіе уроженцы и что они ушли на ярмонку. Козаки питаютъ ненависть къ Россіи ; однако вся ихъ образованность идетъ оттуда. Дѣти учатся читать и писать по Русски. Всѣ ихъ книги Московской печати.
1. Вѣроятно, Донскіе переселенцы спасаются отъ нея чистотою, опрятностью и порядкомъ, наблюдаемыми ими во всемъ ихъ быту. Не служитъ ли это доказательствомъ, что климатъ Малой Азіи былъ бы гораздо здоровѣе, если бы она была обитаема племенемъ болѣе чистоплотнымъ и менѣе небрежнымъ, нежели Османлы ?
![]()
29
Бей показывалъ намъ огромный томъ, въ кожаномъ переплетѣ съ деревянными застежками; кажется то была Священная Исторія съ молитвословомъ Православной Церкви; книга весьма чисто напечатанная на плотной бумагѣ, но заглавнаго листа недоставало. Другія ихъ книги церковныя, народныя, сказки и повѣсти. Школьный учитель обѣщалъ показать три или четыре весьма старыя рукописи, но Богъ вѣсть почему, не сдержалъ своего слова.
Сравнительно высокое образованіе Донскихъ Козаковъ, ихъ трудолюбіе и порядокъ, чистота и красивость ихъ жилищъ хорошо извѣстны. Колонія этого племени, расположенная на островахъ, озерахъ и топяхъ Нижняго Дуная, состоитъ въ случайныхъ сношеніяхъ съ своею родною общиною на Дону, а отрасль Маньясская пребываетъ въ тѣсныхъ сношеніяхъ съ Дунайскою. И такъ длинною и любопытною цѣпью Русско-козацкое образованіе оживляется и поддерживается въ этомъ углу Малой Азіи.
Хозяева наши дѣйствительно гнушались табакомъ, какъ курительнымъ, такъ и нюхательнымъ; но они отрицали, будто не любятъ вина, водки или какихъ-либо хорошихъ крѣпкихъ напитковъ. Это утвержденіе они доказали на дѣлѣ, весьма дружелюбно прибѣгая къ пашей флягѣ. Намъ было сказано, что они не пьютъ изъ того же стакана или рюмки, изъ которыхъ прежде пилъ кто либо чужой, и что если сосудъ принадлежитъ имъ самимъ, то въ этомъ случаѣ разбиваютъ его на куски и бросаютъ въ сорную яму, какъ нѣчто опоганенное или оскверненное. Они увѣряли насъ, что это только справедливо въ отношеніи къ мусульманамъ, и что они не пьютъ изъ того же сосуда послѣ Турка, потому что онъ всегда куритъ табакъ и не христіанинъ. Но они не обинуясь пили изъ одного и того же кубка съ нами. Отъ куренія табаку они воздерживаются. Мы замѣтили имъ, что большая часть христіанъ, живущихъ, какъ и они, посреди водъ и въ сырыхъ, болотистыхъ мѣстностяхъ, очень преданы куренью табаку, которое въ извѣстной степени и въ такихъ случаяхъ даже полезно для здоровья. Но они не хотѣли и слышать объ этомъ: если табакъ и полезенъ тѣлу, то онъ разстраиваетъ и губитъ душу, кто куритъ, тотъ уже не христіанинъ, такъ и Москали потому не христіане ;
![]()
30
Турки только и дѣлаютъ, что курятъ; они поганые и за свое куренье пойдутъ во тьму кромѣшную.
Ни Русскихъ, ни Грековъ они ne считаютъ настоящими христіанами; говорятъ про нихъ, что они вдались въ ереси, ввели новые обычаи и обряды и удалились отъ истинной старой вѣры, которая сохраняется только у Донскихъ Козаковъ, да еще у немногихъ другихъ, живущихъ въ Россіи. Наши Маньясскіе пріятели знаютъ царя Московскаго, падишаха Турецкаго, цесаря Австрійскаго; у нихъ сохранились страшныя преданія о войнѣ 1812 г.; о другихъ же государяхъ, странахъ и народахъ они имѣютъ самыя неясныя понятія. Такъ бей спросилъ у меня, принадлежитъ ли наша земля, Англія, Французамъ? Музыкальныхъ инструментовъ у нихъ вовсе не имѣется, по праздникамъ же они поютъ пѣсни хоромъ и пляшутъ подъ нихъ.
Нынѣ въ Маньясской колоніи считается до 500 взрослыхъ мужчинъ. Они пользуются льготой отъ плажежа податей, въ случаѣ войны обязаны только поставлять султану извѣстное число всадниковъ, именно половину числа способныхъ носить оружіе. По ихъ словамъ, въ гибельную для Турціи войну 1828–29 годовъ, они поставили 160 воиновъ, вооруженныхъ пиками и служившихъ въ иррегулярной конницѣ. Иные изъ нихъ были убиты, другіе умерли отъ болѣзней между Варною и Дунаемъ, но большая часть здраво и невредимо воротилась къ Маньясскому озеру. Они очень крѣпкаго сложенья, и каждая изъ женщинъ, которыхъ мы видѣли, казалась какъ бы рожденною быть матерью гренадеровъ. Между тѣмъ, какъ мы бесѣдовали съ беемъ, женщины его дома входили и выходили по своимъ домашнимъ дѣламъ безъ всякаго замѣшательства: онѣ, казалось, вовсе не замѣчали насъ и нисколько не смущались нашимъ присутствіемъ, а между тѣмъ иностранцы для нихъ диковинка. Онѣ чрезвычайно трудолюбивы, расторопны и ловки: всѣ обладали удивительною снаровкою. Одна пожилая женжина принесла какую то жалобу къ бею, который и старшина и судья колоніи. Она стояла прямо посреди горницы въ позиціи древняго витіи, и одно мгновеніе точно имѣла позу дивной старинной Греческой статуи, слывущей подъ именемъ Аристида Праведнаго.
![]()
31
Она говорила съ важностью и силою, безъ крика и площадныхъ манеръ. Я желалъ бы, чтобъ иные изъ ораторовъ нашей Нижней Палаты присутствовали притомъ, чтобы взять себѣ назидательный урокъ отъ этой козацкой дамы. Хотя мы ни слова не поняли изъ того, что она говорила, однако мнѣ стало жаль, когда она окончила свою рѣчь.
Турокъ они презираютъ: «когда приходятъ они къ намъ безъ своего табаку и чубуковъ, то мы ихъ пускаемъ въ селеніе и позволяемъ имъ сидѣть внѣ домовъ нашихъ; но если приходятъ они сюда съ шумомъ и буйствомъ, какъ они это обыкновенно дѣлаютъ въ Греческихъ деревняхъ, то мы выгоняемъ ихъ дубинами. Но они почти никогда не тревожатъ насъ. Турокъ не можетъ путешествовать и совершенно пропалъ бы безъ трубки, а мы не терпимъ здѣсь курителей табаку, не хотимъ, чтобы деревня наша опоганилась. Поэтому они держатся поодаль отъ насъ и почти ничего о насъ не знаютъ. Мы ходимъ въ ихъ города и деревни и справляемъ тамъ немногія свои дѣла, но всегда принимаемъ осторожность не оставлять нашего села безъ надлежащаго прикрытія. Еслибъ мы этого не соблюдали, дома наши давно уже были бы сожжены и разграблены, и Богъ вѣсть, что сталось бы съ нашими женами и дѣтьми. Но нынѣ Турки довольно покойны. Кругомъ насъ Турки всѣ трусливы, какъ бабы. Только шалятъ нѣкоторые изъ нихъ на озерѣ Аполлонійскомъ».
Политическія учрежденія колоніи весьма димократическія, хотя едва ли достаточныя для теоретиковъ 1848 г., ибо прекрасный полъ не имѣетъ права голоса, а у мужчинъ онѣ останавливаются на всеобщей подачѣ голосовъ (universal suffrage). Они преимущественно пользуются этою свободою при избраніи гетмана или бея. При такихъ выборахъ старѣйшины и отцы семействъ собираются въ главной церкви и подаютъ свои голоса одинъ за другимъ, безъ всякой балотировки, и тотъ изъ кандидатовъ, который имѣетъ за собою большинство голосовъ, становится беемъ, правителемъ, судьею на одинъ годъ. Иногда любимый бей удерживаетъ это званіе и два года сряду безъ новаго выбора. Въ важныхъ случаяхъ бей созываетъ совѣтъ старѣйшинъ. На рѣшеніе бея въ совѣтѣ уже нѣтъ никакой дальнѣйшей аппеляціи.
![]()
32
Впрочемъ, распрей въ общинѣ бываетъ немного, потому что они народъ спокойный и порядочный и рѣдко между собою ссорятся, развѣ иногда за чарою вина. У нихъ вовсе нѣтъ тюрьмы. Нынѣшнему бею было 75 лѣтъ отъ роду и онъ имѣлъ видъ, что проживетъ до ста лѣтъ.
Они всего болѣе занимаются рыболовствомъ, потомъ скотоводствомъ, всего менѣе хлѣбопашествомъ. Они содержатъ свой скотъ на прекрасныхъ, обширныхъ, естественныхъ пастбищахъ по обѣимъ сторонамъ селенія, и на зиму припасаютъ сѣно для скота. Почти каждый домъ имѣетъ свои сѣнокосы. Сѣно было хотя и не отличнаго качества, но вкусно и здорово, а не черно, какъ мы то прежде видѣли въ другихъ деревняхъ. Каждый домъ, кажется, имѣлъ также свою лошадь. Мы видѣли въ деревнѣ нѣсколько хорошихъ быковъ и двѣ или три порядочныя коровы. Если поселенцы не заняты рыбною ловлею или приготовленіемъ рыбъ, то они пускаются въ извозничесгво, перевозя для Турокъ разные товары и произведенія изъ города въ городъ; ихъ арбы или телеги, собственной ихъ постройки, несравненно лучше всѣхъ, которыя мы видѣли въ этомъ краю или даже въ Румиліи. Возвращаясь домой изъ своего извозничества, за которое берутъ съ Турокъ особую наличную плату, они нагружаютъ свои арбы пшеницею, ячменемъ, овсомъ и проч., для собственнаго своего потребленія. Въ деревнѣ у нихъ были четыре мельницы довольно простой постройки, которыя, однако, гораздо лучше исправляли свое дѣло, чѣмъ турецкія.
Лодки ихъ, видѣнныя нами на озерѣ, выдолблены изъ деревъ, какъ челноки индѣйцевъ. Онѣ очень тонки по бокамъ, но внутри скрѣплены ребрами. Дерево, обыкновенно ими на этотъ конецъ употребляемое, есть малорослый, толстый, черный тополь тамошнихъ краевъ, дерево котораго чрезвычайно легко. Онѣ съ обѣихъ концовъ остры, не плоскодонны, а имѣютъ, напротивъ того, дно круглое, безъ всякаго киля. На этихъ не большихъ утлыхъ ладьяхъ, козаки ловятъ рыбу въ Маньясскомь озерѣ, плывутъ по рѣкѣ Кара-дере, текущей изъ озера въ Рындакъ, спускаются по Рындаку въ Мраморное море, переплываютъ это море до Родоста и Галлиполи, проходятъ чрезъ Дарданеллы, въ верхъ по Эносскому заливу къ Адріанополю,
![]()
33
или въ верхъ по Солунскому заливу до Солуня; или же, принимая противуположное направленіе, пересѣкаютъ Пропонтиду до Силивріи, оттуда идутъ въ Царьградъ и на сѣверъ чрезъ Босфоръ и въ верхъ по бурному Черному морю къ устьямъ Дуная. Англійскіе купеческіе моряки не рѣдко съ изумленіемъ видятъ ихъ во время этихъ поѣздокъ. Одинъ членъ Американскаго посольства однажды крайне изумился, увидя двѣ изъ такихъ лодокъ, по видимому, не толще орѣховой шелухи, далеко въ морѣ, несомыя вѣтромъ въ Черноморскую бурю. Если вѣтеръ не силенъ и попутенъ, они пользуются небольшимъ парусомъ, но по большей части идутъ на валахъ, близко придерживаясь берега. Нерѣдко они берутъ съ собою въ эти дальнія поѣздки также своихъ женъ и дѣтей. У каждаго изъ нихъ есть родственники и друзья между дунайскими козаками, и нѣкоторыя изъ ихъ семействъ, черезъ каждыя два или три года, посѣщаютъ своихъ родныхъ. На вопросъ: не погибаютъ ли нѣкоторые изъ нихъ на морѣ? они отвѣчали: «очень рѣдко». Дѣло въ томъ, что они отличные знатоки погоды и принимаютъ всевозможное стараніе, чтобы не быть въ морѣ во время бури. Если погода ненадежна, они не пересѣкаютъ Мраморнаго моря или какого либо изъ его заливовъ, а плывутъ вдоль берега, пока не дойдутъ до Дарданеллъ или Босфора. По долговременному навыку они знаютъ всѣ бухты и губы вдоль по берегамъ, и въ случаѣ противныхъ вѣтровъ втаскиваютъ легкіе свой челноки на какой либо уединенный берегъ и остаются тамъ, пока не утихнетъ буря [1]. Сверхъ того они могутъ обыкновенно расчитывать на три или четыре мѣсяца благопріятной погоды въ году.
1. Г. Броунъ, членъ Американскаго посольства, посѣтилъ другую Козацкую колонію на Дерконскомъ озерѣ, на Европейской сторонѣ Чернаго моря, верстахъ въ 45-ти отъ Константинополя. Онъ удостовѣрился, вмѣстѣ со своимъ спутникомъ, Бельгійскимъ пасторомъ, что это также Донскіе Козаки и только часть того племени, которое поселилось на Маньясскомъ озерѣ. Во время его посѣщенія на лице было не болѣе 50 Козаковъ. Мѣстоположеніе живописно и прекрасно. Это озеро Дерконъ должно быть хорошею станціею во время плаванія ихъ къ Дунаю и обратно. — Примѣч. Макъ-Фарлена.
![]()
34
Въ эти жаркіе мѣсяцы случается, что они принуждены бываютъ перевозить свои челноки на арбахъ сухимъ путемъ: въ одно очень знойное лѣто рѣка Кара-дере изсякла, начиная отъ устья своего на озерѣ внизъ до Балукли: посему они волокомъ перетащили свои лодки отъ береговъ озера до одной знакомой имъ мызы и тамъ, снявъ ихъ съ своихъ арбъ, снова спустили на воду.
Отобравъ отъ бея всѣ эти свѣдѣнія, мы распростились съ нимъ и прошлись съ полчаса по этой любопытной колоніи. Это была довольно длинная деревня, отдѣленная большимъ пустымъ пространствомъ, на которомъ стояли вѣтрянныя мѣльницы. Простые дома были хотя и не такъ щеголеваты, какъ домъ стараго бея, однако очень красивы и опрятны, т. е. судя по наружности, потому что хотя путешественники входили въ небольшіе ихъ дворы или садики, но ни одинъ изъ обывателей не приглашалъ ихъ войти далѣе. Очевидно, что они были нѣсколько нелюдимы; но надобно принять въ разсчетъ и то, что они боялись холеры, и что мужчины были всѣ въ отлучкѣ, въ путешествіяхъ или для рыбной ловли на верхнемъ краю озера. Мы почти никого не видѣли дома или на улицѣ, кромѣ женъ и дѣтей: а эти не говорятъ по турецки. Женщины всѣ были босоноги и въ коротенькихъ юбкахъ, едва достигающихъ до икоръ. Впрочемъ одежда ихъ изъ бумажной ткани очень красива и опрятна. На головѣ онѣ носятъ яркаго цвѣта бумажный платокъ, повязанный не въ видѣ чалмы, а просто какъ платокъ. Одежда дѣтей болѣе чѣмъ красива: она изящна и живописна; мальчики носятъ родъ кафтанчика (tunic), спускающагося нѣсколько пониже колѣна и шальвары. И то и другое изъ крѣпкой, толстой бѣлой бумажной матеріи, покупаемой въ довольно отдаленномъ городѣ Балукъ-Гиссарѣ, гдѣ ежегодно бываетъ важная для этой части Анатоліи ярмонка. Кафтанчикъ красиво окаймленъ вокругъ шеи и внизъ по груди разными яркими тесьмами. Одежда стараго бея была такая же точно, какъ и мальчиковъ, за исключеніемъ красивыхъ каемъ. Толстая бумажная матерія кафтана такъ же тепла, какъ сукно. Мужчины всѣ носили мѣховую или кожаную шапку, плотно прилегающую къ головѣ.
Двѣ главныя церкви очень красивы, просты и опрятны;
![]()
35
одна изъ нихъ снаружи оштукатурена и выбѣлена. Обѣ снабжены крестами, которыя смѣло возвышаются съ лицевой стороны зданія и обѣ крыты красной черепицей, тогда какъ всѣ прочіе жилые домы крыты камышемъ. Этотъ озерный тростникъ, достигающій здѣсь высокаго роста, служитъ для многоразличныхъ употребленій, какъ бамбуковый въ Китаѣ. Козаки дѣлаютъ изъ него прочные заборы, разнаго рода перегородки, лѣтніе паруса для своихъ судовъ, вири для ловли рыбъ, ковры для лежанія, покрывала для своихъ арбъ, а дѣти дѣлаютъ изъ нихъ стрѣлы, которыми иногда убиваютъ плавающихъ рыбъ. Съ одного конца селенія до другаго вездѣ чистота, порядокъ, дѣятельность и сравнительно съ другими мѣстами въ этомъ краю нѣкоторое изобиліе и благосостояніе».
Другая извѣстная русская колонія въ М. Азіи т. е. третье Славянское въ ней поселеніе, лежитъ недалеко отъ Синопа. Образованіе ея произошло при слѣдующихъ обстоятельствахъ: въ 1708 г. Некрасовъ съ 7 или 8,000 человѣкъ пошелъ на Кубань. Султанъ далъ имъ земли для поселенія, освободилъ отъ податей и даровалъ многія другія преимущества. Они поселились въ Тамани, въ 30 верстахъ отъ моря и выстроили 3 городка: Ханъ Тюбе, Кара Игнатъ и Себелей.
«По прежней привычкѣ они ходили по Черному Морю для грабежа, въ числѣ 500 человѣкъ служа Крымскимъ Ханамъ; нерѣдко хищникамъ бусурманскимъ показывали дорогу къ Царицыну, къ Черкаску и посредствомъ прежнихъ своихъ пріятелей заводили на Дону смуты [1]. Въ Турецкую войну (1736—9 г.) Донскіе Козаки съ Калмыками сожгли Ханъ Тюбе и много скота отогнали. Некрасовцы, скрывшись въ горахъ, возвратились на прежнее жительство по минованіи уже войны. Въ 1777 г., когда Кубань сдѣлалась Россійскою границею, Некрасовцы отошли къ теперешней Анапѣ и поселились на земляхъ Абазинскаго поколѣнія Шегани, между рѣчкою Заны и моремъ. По присоединеніи же Крыма къ Россіи, они удалились въ Анатолію,
1. Точно такъ и Славяне Азійскіе не прерывали своихъ связей съ земляками своими въ Болгаріи и Сербіи, или Славяне Азійскіе между собою, т.те. Арабскіе съ оставшимися вѣрными имперіи.
![]()
36
гдѣ близъ Синопа у пригородка Чоршамба, поселились. Изъ Азіи выгнала ихъ чума и наши раскольники, переплывъ море, водворились на р. Днѣстрѣ, въ 80 верстахъ выше Овидіополя, въ слободѣ Чобругахъ. Наконецъ, не хотя быть Русскими (т. е. подданными), въ 1787 г. отошли въ Булгарію къ рѣчкѣ Дунавцу и озеру Розельмъ. Въ селеніи ихъ Дунавцы считалось до 1,200 дворовъ; въ другомъ селеніи Сахъ-Кіой, жили тѣ изъ ихъ собратій, которые при Биронѣ бѣжали за границу [1]. Сихъ послѣднихъ Донскіе выходцы, принадлежавшіе къ самой закоснѣлой сектѣ суесвятовъ, въ совмѣстное съ собою жительство не принимали, и даже въ родство съ нимъ не входили. Некрасовцы, служа султанамъ, во время войны выходили въ поле въ числѣ 3000 человѣкъ, почитавшихся въ Турецкой арміи храбрѣйшими наѣздниками».
Въ 1828 г. Некрасовцы добровольно предались Русскому правительству и присягнули Государю [2]. Приведенное нами извѣстіе Броневскаго о Некрасовцахъ не совсѣмъ вѣрно. Не всѣ Некрасовцы ушли изъ подъ Синопа: понынѣ часть ихъ живетъ неподалеку отъ Синопа, въ урочищѣ Кизиль-Ирмакъ или Кунджувасъ. Вотъ подлинныя слова одного Кавказскаго старожила:
«Свѣдѣнья эти (о Некрасовцахъ, тѣ же, что сообщены выше) сообщены мнѣ Черкасскими старожилами въ то время, когда я жилъ между непокорными Натухажцами, т. е. въ 20-хъ годахъ.
1. Болтинъ такъ говоритъ о времени Бироновскомъ: «Въ городахъ бряцанія кандаловъ, жалобные гласы колодниковъ, просящихъ милостыню отъ проходящихъ, воздухъ наполняли. Изъ порубежныхъ провинцій многій тысячи крестьянъ, бѣжавъ съ женами и съ дѣтьми, поселилися въ Польшѣ, Молдавіи и Валахіи. (Примѣч. на Ист. древн. и нов. Россіи Г. Леклерка. Соч. Ив. Болтина. Спб. 1788. II, 469). А въ другомъ мѣстѣ, говоря о народонаселеніи Россіи въ періодъ 1721—1783 г., онъ замѣчаетъ: «Сколько за границу ушло точно сказать не могу; но судя по великимъ слободамъ Русскихъ крестьянъ, поселенныхъ въ Бѣлоруссіи, Польшѣ, Литвѣ, Валахіи, Молдавіи и даже за Дунаемъ въ Болгаріи, не менѣе 250,000 душъ полагаю». (II, 323). Не мѣшаетъ при семъ вспомнить, что Кіевляне 1068 г., когда Изяславъ Ярославичъ привелъ на нихъ Ляховъ (землю Лядскую), послали сказать Святополку и Всеволоду: «а поидета въ городъ отца своего ; ащели не хочета, то намъ неволя : зажегше градъ свой, ступимъ въ Греческу землю». (Р. Л. I, 74).
2. Исторія Донскаго войска. Влад. Броневскаго. Спб. 1834. I, 269.
![]()
37
Въ памяти твердо сохранилось воспоминаніе о прибытіи къ нимъ, а въ послѣдствіи и объ отплытіи Казаковъ въ Анатолію. По изустнымъ преданіямъ они извѣстны до сей поры у Черкесъ подъ двоякимъ названіемъ: Джилаль-Казакъ и Урусезій. Проживъ долгое время на восточномъ берегу Чернаго моря, гдѣ, по обязанностямъ службы, я имѣлъ частыя сношенія съ Турками, прибывавшими къ намъ по торговымъ дѣламъ изъ разныхъ мѣстъ Анатоліи, я окончательно убѣдился въ существованіи другой Русской колоніи (первая на берегу Маньясскаго озера) въ Малой Азіи, недалеко отъ Синопа» [1].
При устьи одного изъ рукавовъ р. Галиса или нынѣшняго Кизиль-Ирмакъ находится гористая мѣстность, называемая Загора или Загорье, и другая мѣстность Конопля (?) [2] — названія Славянскія, указывающія на бытность въ этихъ мѣстахъ Славянскихъ поселеній. «Еще далѣе на востокъ, — говоритъ Шафарикъ, — если вѣрить въ этомъ случаѣ одному Греческому духовному, видѣвшему то собственными глазами, находятся на томъ же Евксиискомъ поморьѣ, въ окрестностяхъ гор. Трапезунта, нѣсколько селеній, обитаемыхъ Славянами».
Вотъ, сколько мнѣ извѣстно, всѣ нынѣшнія наши свѣдѣнія о современныхъ Славянскихъ поселеніяхъ въ Малой Азіи. Не трудно замѣтить ихъ неудовлетворительность; желая посильно способствовать приведенію этого предмета въ должную ясность, не могу въ заключенье не обратить вниманье читателя еще на одно обстоятельство. Г. профессоръ Мухлинскій въ своемъ изслѣдованіи о Литовскихъ Татарахъ, слѣдуя Убичини, указываетъ на три Татарскихъ колоніи въ Турціи, жители которыхъ рѣзко отличаются отъ прочаго Турецкаго населенія и костюмомъ и типомъ: одна находится надъ р. Кизиль-Ирмакъ,
1. См. ст. «Еще Русская колонія въ Малой Азіи», въ газ. «Кавказъ», потомъ переп. въ газ. «Русскій Инвалидъ» 1856, 3 марта и «Спб. Вѣдом.» 1838, 8 марта. Объ этой же колоніи см. Rottiers Itinéraire de Tiflis à Constantinople. 1829. p. 27 C’est sur ce fleuve (Kizil-Irmak), dans des vallées fertiles, au dessus de Bafra, qu’habitent les cosaques Zaporovi (sic).
2. Rottiers — l. I. A l’embouchure d’une des branches du Kisil Irmak, on aperçoit les ruines de Zagora et de Konopéa anciennes colonies Slaves (p. 274).
![]()
38
другая недалеко отъ Бруссы, третья въ Добруджѣ. Число этихъ колонистовъ простирается до 35,000 душъ [1].
Убичини, а за нимъ г. Мухлинскій, не ошиблись ли здѣсь, принявъ двѣ описанныя нами Русскія колоніи за Татарскія?
A.3. О непрерывномъ существованіи Славянской стихіи въ М. Азіи съ VII в. по настоящее время. О степени доступности Черноморскаго берега М. Азіи для Славянъ Русскихъ въ періодъ X—XVII в. О давности Русскихъ поселеній на Дунаѣ, на Дону. О сношеніяхъ Русскихъ этого періода съ Каспійскимъ и Кавказскимъ краями. (V—VII. Стр. 38-121).
V. Въ Молдавіи и Буковинѣ есть также Русскія поселенія. Какъ по важности этого предмета, такъ и по нѣкоторымъ отношеніямъ ихъ къ колоніямъ Мало-Азійскимъ, я рѣшаюсь привести о нихъ нѣсколько данныхъ.
Объ этихъ Русскихъ колоніяхъ сообщаетъ нѣсколько любопытныхъ извѣстій почтенный инокъ Парѳеній, самъ лично посѣтившій ихъ, менѣе 20-ти лѣтъ тому назадъ.
Такъ въ Буковинѣ, въ верстахъ пяти отъ города Сочавы, въ селѣ Соколницы, живутъ наши раскольники: «говорятъ и одежду носятъ по-Великороссійски» [2]. Въ двухъ верстахъ отъ этого селенія стоитъ православный монастырь Драгомирна [3].
1. Г. Мухлинскаго — изсл. о происх. и сост. Лит. Татаръ. (Актъ Спб. Унив. 1857. С. 153). Ubicini — Lettres sur la Turquie. Paris. 1853. p. 23.
2. Сказ. о стр. и пр. I, 19.
3. «Богослуженіе и теперь совершается въ немъ большею частью по-Русски. Сверхъ того, находятся въ немъ кое-какіе остатки нѣкогда весьма значительной коллекціи рукописей Славяно-Русскихъ, собранію которыхъ начало положилъ еще основатель монастыря, ученый митрополитъ Сучавскій Анастасій Крымковичь, происхожденіемъ и воспитаніемъ Русскій. Другіе памятники, свидѣтельствующіе о прежнемъ библіографическомъ богатствѣ этой коллекціи, не извѣстно какими путями зашли въ библіотеки Вѣнскую и Дрезденскую, гдѣ блюдутся донынѣ». (Ст. Надеждина Объ этнограф. изученіи народн. Русской, въ Зап. Геогр. Общ. 1, 175. Прим.). Инокъ Парѳеній говоритъ про себя — «пошелъ во Австрійскія владѣнія, во страну Буковину, къ своимъ Русскимъ». (1,18). «Въ Буковинѣ все больше православные. Епископъ живетъ въ Черновицахъ, гдѣ впрочемъ и православныхъ немного, а болѣе Нѣмцы». (20). Вотъ описаніе Парѳенія нѣкоторыхъ монастырей: Сочевица, въ которомъ «хранится драгоцѣнный крестъ, украшенъ златомъ и каменіемъ драгимъ; пожертвованъ Россійскимъ благочестивымъ царемъ Ѳеодоромъ Іоанновичемъ въ великій скитъ. Но когда Австрійскіе императоры скитъ великой разорили и упразднили, то монахами сей крестъ перенесенъ въ монастырь Сочавицу, гдѣ и донынѣ хранится. 3-й Молдавица; стоитъ внутри горъ Карпатскихъ на р. Молдавѣ, 4. монаст. Драгомирна, что близъ Сочавы, въ которомъ хранятся раздробленные мощи св. мученика Іакова Персянина. Всѣ сіи монастыри украшены и росписаны иконнымъ стѣннымъ писаніемъ Греческой работы, подобно какъ въ Аѳонскихъ монастыряхъ. Монахи живутъ по штату, подучаютъ отъ государей Австрійскихъ жалованье, читаютъ и поютъ по-Славянски, по Россійскимъ книгамъ. На ектеніяхъ, поминают Благочестивѣйшаго Россійскаго Императора Николая Павловича, поминаютъ и своего державнаго Цесаря. Но уже монашескихъ правилъ строго не соблюдаютъ; ибо въ Австріи живутъ православные въ великомъ притѣсненіи, и болѣе крестъ несутъ, нежели Греки отъ Турокъ. Впрочемъ гонитъ и притѣсняетъ не царская власть, но духовная отъ папы Римскаго». (I, 20). Въ XVIII в. Австрійскіе уніаты были еще расположены къ нашимъ Русскимъ. Такъ Барскій говоритъ про Львовъ (1723—1724 г.): «тамо есть много страннолюбивыхъ людей отъ Руссовъ духовныхъ и мірскихъ, которые къ намъ весьма благосклонны были; наипаче же тые, иже на унію насилованы; въ тайнѣ же быша зѣло православны». Въ XVII в. Львовъ находился въ живыхъ связяхъ съ Москвою. Такъ Юрій Трубецкой доносилъ въ 1074 г., что «пріѣхали изъ Польши въ Кіевъ Польскаго города Львовскаго монастыря церкви св. Іоаниа Богослова игуменъ да два человѣка Львовскіе мѣщане, а сказались игуменъ Іосифомъ зовутъ Творинскій, а мѣщане, одного Иваномъ зовутъ Городецкій, да Микулаи Перпура; въ прошломъ въ 181 г. авг. въ 24 день, послалъ ихъ изо Львова Львовской епискупъ Іосифъ Шумлянской къ Москвѣ, бить челомъ тебѣ, вел. госуд., о милостинѣ и на строеніе церкви святаго Николая Чудотворца». (Синб. Сборн. Малор. Д. № 28). Богданъ Хмѣльницкій не забывалъ о Львовѣ, когда задумалъ освободить народъ Русскій изъ неволи Польской. Въ 1649 г. говорилъ онъ пріѣхавшимъ къ нему Польскимъ коммиссарамъ : «теперь не пойду я на войну за границу, не подыму сабли на Татаръ и Турокъ, довольно мнѣ дѣла на Украинѣ, на Подолѣ и на Волыни, въ своей землѣ, по Львовъ, Хельмъ и Галичъ». (Пам., изд. Кіевск. Врем. Ком. для разбора древн. актовъ. Изд. 2. 1848. I, 330 и сл.). Контарини говоритъ въ своихъ запискахъ «7 сент. 1476 г. отецъ Стефанъ отправился въ путь свой (въ Венецію), въ сопровожденіи нѣкоего Николая Львовскаго жителя (Nicola da Leopoli), знавшаго хорошо эту дорогу, а я остался въ Москвѣ дожидаться его возвращенія». Янъ Красинскій, въ своемъ сочиненіи о Польшѣ, писанномъ въ 1374 г., говоритъ между прочимъ: «Pod miastem tém (Przemysl) z pólnocnéj strony (z wielką dla mieszkańców dogodnością) ptynie San, biorący swój początek w Karpatach blizko źródeł Cissy. O kilka dni drogi od tego miasta leży Lublin, gdzie со rok w oznaczonyna czasie znakomity odbyvva się jarmark, na który przybywają kupcy z różnych krajów, jako to: z Moskwy, Litwy, Tartaryi, Inflant, Prus, Rusi, Niemiec, Węgier, Turcyi, Woloszczyzny, oraz Ormianie i Żydzi. (J. Krasińskiego Polska czyli opisanie topograficzno-polityczne Polski w wieku XVI oraz materyaly do panow. Henr. Walez. przetłumaczone, zebrane i objaśnione przez Stan. Budzińskiego. Warszawa. 1832. Str. 112).
![]()
39
40 верстахъ отъ Сочавы «есть великое Русское село раскольниковъ, называемое Бѣлая Криница» (тамъ же).
![]()
40
Въ Молдавіи, въ 100 верстахъ отъ г. Яссъ, между рѣками Молдавою и Серетомъ, недалеко отъ гор. Фильтичень, находится Русское раскольническое село Мануиловка. «Въ селѣ Мануиловкѣ живутъ все Русскіе, больше 1 00 домовъ, зашедшіе изъ Россіи и поселившіеся здѣсь болѣе 150 лѣтъ. Жители разныхъ сектъ и толковъ. Близъ села находятся три скита: два мужскіе, а одинъ женскій. Монахи и монахини разныхъ селъ». (I, 80).
Въ Браиловѣ «живетъ много Русскаго народу, купцовъ и жителей» (II, 37). На разстояніи трехъ часовъ ходьбы отъ Браилова лежитъ Русское село Камень, живутъ въ немъ Некрасовцы. «Они насъ обласкали какъ своихъ земляковъ. Они настоящаго нашего Русскаго языка и всѣхъ обычаевъ. Посреди села — ихъ часовня, на ней кресты и колокола. Ибо они имѣютъ отъ Турковъ уваженіе, потому что служатъ въ Козакахъ и поднимаютъ на Русскихъ руки; за то ихъ и любятъ. Мы спросили ихъ: «можно ли ночевать у нихъ?» Они сказали: «въ какой домъ вамъ угодно, — всѣ съ любовію примемъ; а ежели угодно, то идите въ скитъ къ нашимъ монахамъ, и они рады будутъ вамъ». Мы пошли къ монахамъ». Тутъ сначала приняли ихъ ласково, но когда начались пренія о вѣрѣ, то едва не убили ихъ. (I, 39).
Весьма вѣроятно, замѣтимъ кстати, извѣстное производство Рущукъ отъ Русъ.
Не должно однако думать, что Русскія поселенія въ Молдавіи и за Дунаемъ въ Болгаріи, относятся своимъ началомъ къ XVIII вѣку. Онѣ непремѣнно были и раньше: въ XVII, XVI и XV в., когда сношенія Русскихъ съ Молдаванами, Волохами и Болгарами были безпрерывныя ; они носятъ на себѣ такой характеръ прочности, что должно предполагать непрерывность Русскихъ поселеній въ этихъ земляхъ съ самыхъ древнѣйшихъ временъ. Вспомнимъ только, что, по словамъ Нестора, Русскіе Славяне — «Улучи, Тиверьци сѣдяху по Днѣстру, присѣдяху къ Дунаеви», а драгоцѣнный памятникъ XII в. Слово о полку Игоревѣ говоритъ о Дунаѣ, какъ о Русской рѣкѣ: все радуется освобожденію Игореву — «Солнце свѣтится на небеси, Игорь князь въ Руской земли ; дѣвици поютъ на Дунай; вьются голоси чрезъ море до Кіева» и пр.
![]()
41
Несчастный князь Василько хотѣлъ «переяти Болгары Дунайскыѣ, и посадити я у собе» (Р. Л. I, 113); всѣмъ извѣстенъ походъ Святославовъ въ Болгарію (въ X в.) [1]; вспомнимъ неудачный походъ Владиміра Ярославича съ воеводою Вышатою противъ Грековъ въ 1043 г.
«И пойде Володимеръ въ лодьяхъ, и придоша въ Дунай, поидоша ко Царюграду; и бысть буря велика, и разби корабли Руси, а княжь корабль разби вѣтръ, и взя князя въ корабль Иванъ Творимиричь, воевода Ярославль. Прочій же вой Володимери ввержени быша на брегъ, числомъ 6000, и хотяче пойти въ Русь, и не иде съ ними никтоже отъ дружины княжее. И рече Вышата: «азъ пойду съ ними»; и высѣде изъ корабля къ нимъ, рекъ: аще живъ буду, то съ ними, аще погыну, то съ дружиною»; и поидоша хотяче въ Русь. И бысть вѣсть Грькомъ, яко избило море Русь, и посла царь, именемъ Мономахъ, по Руси олядій 14; Володи еръ же видѣвъ съ дружиною, яко идуть по нихъ, въспятивъся изби оляди Гречьскыя, и възвратися въ Русь, ссѣлавшеся въ корабли своѣ. Вышату же яша съ извержеными на брегъ, и приведоша я Царюграду, и слѣпиша Руси много; по трехъ же лѣтѣхъ миру бывшю, пущенъ бысть Вышата въ Русь къ Ярославу». (Р. Л. I, 66 и сл.).
Вспомнимъ, что зять Владиміра Мономаха, Леонъ царевичь, въ 1116 г.
«иде... на куръ Олексія царя, и вдася городовъ ему Дунайскыхъ нѣколко ; и въ Дельстрѣ городѣ лестію убиста и два Сорочинина, посланая царемъ, мѣс. авг. въ 15 день».
«Въ се же лѣто, — замѣчаетъ вслѣдъ за тѣмъ лѣтописецъ, — князь великый Володимеръ посла Ивана Войтишича, и посажа посадники по Дунаю».
Списокъ городовъ Русскихъ, географическій памятникъ XIV в., несомнѣнно доказываетъ давность поселеній Русскихъ въ этихъ краяхъ. «А се имена градомъ всѣмъ Русскымъ далнимъ и ближнимъ: на Дунаѣ Видицовъ о седми стѣнь каменныхъ, Мдинъ; обону страну Дуная Тръновъ, ту лежить Св. Пятница; а по Дунаю Дрествинъ, Дичинъ, Килія; на устье Дуная Новое Село, Аколятря,
1. Святославъ говорилъ своей матери и боярамъ: «нелюбо ми есть въ Кіевѣ быти, хощу жити съ Персяславци въ Дунай, яко то есть середа въ земли моей, яко ту вся благая сходятся» и проч.
![]()
42
на море Карна, Каварна; а на сей странѣ Дуная: на устъ Днѣстра надъ моремъ Бѣлъгородъ, Чернъ, Аскый торгъ на Пруте рѣцѣ, Романовъ торгъ на Молдовѣ, Нѣмечь [1] въ горахъ, Корочюновъ камень, Сочава, Сереть, Баня, Нечюнъ, Коломыя, Городокъ на Черемошѣ, на Днѣстрѣ Хотѣнъ [1].
1. Ср. Надеждина «О Русск. народы, миѳ. и саг.» Русск. Бесѣда. 1857. С. 54 и сл. Его же «Обѣ этногр. изуч. народи. Русской» Зап. Геогр. Общ. I. Его же «О пут. по Слав. землямъ» Ж. Μ. Н. Пр. 1842. Іюнь. Шаф. Слав. Древн. § 30. 2. T. II. Кн. 1. С. 341. Кар. И. Г. P. IV. Прим. 389. Надеждинъ говоритъ, какъ очевидецъ:
«въ Молдавіи верхней (Цара-де-Сусъ), въ цинутахъ Ботошанскомъ, Дарохойскомъ, Сучавскомъ, Нямецкомъ, Бакейскомъ, Романскомъ и Ясскомъ, гдѣ населеніе чисто-Русское, живущее смѣшанно съ Румунами и особнякомъ, безошибочно можно полагать въ нѣсколько тысячь душъ» (Объ этн. изуч. нар. Русск. въ Зап. Г. Общ. I, 170).
— Есть Русскія поселенія и въ Валахіи, но меньше чѣмъ въ Молдавіи; однако въ Браиловѣ и окрестностяхъ живетъ много Русскихъ. Есть онѣ и въ Добруджѣ, особенно велики Русскія поселенія въ Тульчѣ, которыя въ шутку называются Малыми Адестами:
«тутъ на каждомъ шагу встрѣчаешь Великороссійскую бородку или Малороссійскій чупъ, въ каждомъ почти окошкѣ видишь южно-Русскій очипокъ или сѣверно-Русскій повойникъ». — «Лучшее зданіе городка есть новопостроенная православная Русская церковь, красующаяся на живописномъ, отвсюду видномъ возвышеніи, и, что всего замѣчательнѣе въ Турціи, и съ колоколами, въ которые благовѣстъ и трезвонъ, точно въ православной Россіи. Настоятель этой церкви отецъ Филиппъ, съ ногъ до головы Русакъ, человѣкъ отличнаго поведенія, весьма умный и притомъ искусный иконописецъ, пользуется всеобщимъ уваженіемъ; ему оказывается особенное вниманіе даже со стороны мѣстныхъ властей Мусульманскихъ». (Тамъ же. С. 178—179).
Вотъ что также замѣчаетъ Надеждинъ о знаменитой мѣстной ярмаркѣ при урочищѣ Кара-су, между Чернаводою и Кюстенджи, верстахъ въ 70-ти отъ Тульчи къ югу:
«Тутъ на совершенно голой степи, гдѣ нѣтъ ни кола, ни двора, навалило народу тьма тьмущая, со всего пространства между Дунаемъ и Балканами: не смотря на то, Русскіе были очень замѣтны; особенно вечеромъ, когда дневной шумъ и гамъ притихъ, вся пустынная глушь степи огласилась удалыми пѣснями Русскаго языка и напѣва.... Странно было, въ сосѣдствѣ Дуная и Балкановъ, слышать въ пѣсняхъ этихъ громозвучныя воспоминанія про «Волгу матушку», про «горы Московскія-Воробьевскія», даже про «матушку» про «Неву» съ ея «славнымъ Васильевскимъ островомъ». (С. 179).
Вопросъ объ отношеніяхъ Россіи и вообще міра Славянскаго къ Дунайскимъ княжествамъ въ прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ, стоитъ въ ряду важнѣйшихъ и насущнѣйшихъ нашихъ вопросовъ. Его современное положеніе въ литературѣ Русской служитъ однимъ изъ сильнѣйшихъ доказательствъ печальнаго современнаго состоянія нашей исторіи, нішіей литературы. Въ отношеніи Дунайскихъ княжествъ крайне необходимы для насъ тѣ же мѣропріятія, что и въ отношеніи Греціи для умственнаго и литературнаго сближенія нашего съ Молдаванами и Валахами, судьбы которыхъ уже издревле тѣсно связаны были съ судьбами Русскихъ, Поляковъ, Болгаръ и Сербовъ. (См. ниже въ «Приложеніяхъ»).
![]()
43
На куріальномъ языкѣ патріархіи Константинопольской XIV и XV в. нынѣшняя Молдавія называлась Россо-Влахіей (Зап. Геогр. Общ. I, с. 172). Длугошь же окончательно удостовѣряетъ насъ въ томъ, что нынѣшняя Молдавія до половины XIV в. была заселена Русскими, которые оттуда были вытѣснены (конечно не всѣ) Валахами: veteribus dominis et colonis Ruthenis, primum subdole, deinde abundante in dies multitudine, per violentiam expulsis, illam occuparunt, in Ruthenorumque ritus et mores, quo facilior proveniret occupatio, a propriis degenerantes, transmigrarunt. (Длуг. Hist. Pol. IX).
VI. Выше мы пришли къ необходимости допустить непрерывность Болгарскихъ поселеній въ Малой Азіи съ VII в. до настоящаго времени включительно.
Признавая вмѣстѣ съ тѣмъ давнишнюю обширность поселеній Русскихъ въ областяхъ при-Дунайскихъ, нѣтъ никакой возможности утверждать, что первое Русское поселеніе въ Малой Азіи основано было Некрасовцами въ XVIII стол., и что ранѣе этого времени Русскихъ поселеній въ Малой Азіи никогда не бывало.
Напротивъ, чѣмъ долѣе перебираешь въ умѣ различныя обстоятельства, тѣмъ сильнѣе убѣждаешься въ полной справедливости и основательности предположенія о томъ, что Русскіе переселялись въ Малую Азію и до Некрасовцевъ.
Вспомнимъ о значеніи Русской стихіи въ Молдавіи и Валахіи и даже въ Болгаріи до XIV в. (см. V). Если нынѣшніе Русскіе поселенцы на берегу Маньясскаго озера могли прійдти съ береговъ Дуная въ XIX стол., то отъ чего же многочисленныя Русскія поселенія на берегахъ Дуная до XIV в. и позже не могли высылать изъ среды своей поселенцевъ въ Малую Азію, гдѣ уже съ VII в. наприм. жили ихъ соплеменники и единовѣрцы Болгары,
![]()
44
съ которыми Русь находилась въ сношеніяхъ безпрерывныхъ и самыхъ дружественныхъ?
Извѣстны тѣ огромныя морскія силы Козаковъ, которыя они развернули въ Черномъ морѣ въ XVII и даже въ XVI вѣкѣ. Ниже въ примѣчаніи у меня приведены слова современниковъ, ясно свидѣтельствующія о томъ впечатлѣніи, которое производили эти Козацкіе походы не только на Турокъ, но и вообще на всѣхъ Европейцевъ. Еще въ 1590 г. Козаки разоряли и жгли Трапезунть, Синопъ и ихъ окрестности, миль на десять. Вспомнимъ о Загорьѣ и другихъ Славянскихъ названіяхъ мѣстностей около Трапезунта и Синопа, свидѣтельствующихъ о бытности нѣкогда въ этихъ мѣстахъ поселеній Славянскихъ. Частныя нападенія Козаковъ на эти мѣстности и ихъ удачи едва ли объяснимы одною ихъ удалью и отвагой и слабостью Турокъ. Едва ли не должно предположить, что они встрѣчали помощь и поддержку постоянную въ туземныхъ жителяхъ, которые имъ норовили, какъ своимъ землякамъ или по крайности единоплеменникамъ? [1]
1. Позволю себѣ привести слѣдующее мѣсто изъ Турецкаго историка Наимы Эфендія, по переводу П. С. Савельева Муг. Нум. CXLVIII и сл.
«Нападеніе Козаковъ на Синопъ, въ 1023 г. Въ мѣс. реджебѣ (въ авг. 1614 г.) Казацкія чайки вышли въ Черное море, разграбили сперва, по обыкновенію, деревни, лежащія на берегахъ Тунà (Дуная) и при морѣ. Взявъ проводниками себѣ рабовъ-отступниковъ, они пристали къ Анатолійскому берегу Чернаго моря, внезапно напали на крѣпость Синопъ, прозываемую Городомъ Любовниковъ, и овладѣли ею. Вступивъ въ эту древнюю крѣпость, они. умертвили въ пей всѣхъ правовѣрныхъ (а развѣ были въ ней и неправовѣрные?), ограбили ихъ дамы, увели женъ и дочерей, и зажегши со всѣхъ концовъ, обратили этотъ прекрасный городъ въ пустыню. Пока не вооружились противъ нихъ, они успѣли увести въ полонъ женъ и дочерей, и разсѣялись по морю. Въ этихъ обстоятельствахъ, Шекшеки Ибрагимъ Паша, узнавъ о ихъ набѣгѣ, на шестидесяти мелкихъ судахъ отправился для защиты береговъ Черноморскихъ. Вошедъ въ рѣку, черезъ которую должны были переправляться эти собаки, онъ остался сторожить ихъ; но проклятые, провѣдавъ объ этомъ, въ одномъ мѣстѣ на берегу Чернаго моря сошли, поставили судна свои на санки (кызакъ) и вздумали стащить ихъ но сушѣ до вершины рѣки. Но шайка Татаръ напала на нихъ; завязалось сраженіе; имѣнія и семейства, похищенныя изъ Синопа, были оставлены на мѣстѣ; изъ Козаковъ же, кто достался въ плѣнъ, а кто погибъ въ битвѣ. Ибрагимъ Паша перемѣнилъ маршрутъ и наблюдалъ, гдѣ выйдутъ остатки разбойниковъ. Онъ пошелъ противъ тѣхъ, которые избѣгли меча, и изъ нихъ также кто попалъ въ плѣнъ, а кто былъ убитъ. Въ первыхъ дняхъ рамазана (въ окт. 1644 г.) Ибрагимовы воины привели къ Порогу 20 человѣкъ кяфировъ-Козаковъ скованными».
Здѣсь невольно рождаются вопросы — кто были эти рабы-отступники, взятые козаками изъ деревни при-Дунайской? Конечно Болгары, если не Русскіе поселенцы, во всякомъ случаѣ Славяне, а не Татары, которые тоже жили тогда въ Буджакѣ (Бопланъ — въ Русск. перев. С. 33 и сл.). Къ чему же козаки брали бы всегда этихъ рабовъ-отступниковъ передъ походомъ своимъ на берега Анатолійскіе, если бы и тамъ тоже не было земляковъ ихъ, съ которыми они имѣли постоянныя связи, подобныя тѣмъ, что существуютъ у Русскихъ колоній Дунайской и Маньясской ; мѣстность Загора, чтò подлѣ Синопа, могла быть населена Славянами еще въ XVII и даже въ XVI в. Изъ приведеннаго мѣста также видно, что Турки тоже въ свою очередь не дремали и козакамъ трудно было справляться однимъ, безъ пособія со стороны нѣкоторыхъ туземцевъ, которые вѣроятно стерегли ихъ лодки, извѣщали о приближеніи Турокъ, скрывали ихъ, и пр.
![]()
45
Еще въ началѣ XVII стол. князья Грузинскіе сносились постоянно съ Козаками Запорожскими, дарили и жаловали ихъ, а тѣ въ свою очередь защищали и буксировали торговыя суда Грузинскія, плававшія въ Черномъ морѣ [1]. Не только Козаки, но и сама Москва постоянно сносилась съ Грузіею въ XVII и XVI стол. Окольничіе Бутурлинъ и Плещеевъ съ большимъ войскомъ проникли въ Дагестанъ, заняли Тарки и назвали его Новымъ городомъ; основали крѣпость и на Тузлукѣ. Извѣщая о своихъ успѣхахъ, воеводы наши писали въ Москву и къ царю Грузинскому,
1. См. ниже въ прим., также слѣдующія слова Петра де ла Валле: «les Cosaques de Pologne continuaient leur navigation sur les rivières de la Géorgie, et entretenaient une étroite alliance avec les Géorgiens». (Les Fameux Voyages de Pietro della Valle Gentil-homme Romain, surnommé l’illustre voyageur.... Paris. MDCLXII. III, 193). Тамъ же: «depuis peu le roi de Pologne avait envoyé deux ou trois vaisseaux chargés de présens au prince Teimuraz, qui était voisin de Guriel». A на стр. 192 (ibid.) «Guriel est plus méridional, proche de Cogne et de Trébisonde, qui appartiennent au Turc.» Ibid. p. 167: «les lettres du Persan étaient fort avantageuses aux Polaques, qui s’offrait de bâtir à ses dépens uue forteresse sur quelque port de la mer Noire, à l’embouchure d’une rivière du pays des Géorgiens voisin de Trébisonde, qui est ce qu’il nomme Guriel, et qui fait une partie du Royaume de Colchos. Et le roi de Perse ne s’offrait pas seulement à bâtir cette forteresse à ses dépens, et à la mettre puis après entre les mains des Cosaques, sous l’autorité du roi de Pologne; mais encore il s’offrait à la garder avec ses gens pour demeurer toujours dans l’obéissance des Polaques, de crainte que les Cosaques ne vinssent à s’établir dans ces provinces, et à faire quelque progrès contre les Turcs».
![]()
46
ожидая его войска по крайней мѣрѣ къ веснѣ, чтобы очистить всѣ горы отъ непріятеля, совершенно овладѣть Дагестаномъ и безпрепятственно строить въ немъ новыя крѣпости [1]. Но несчастная гибель Грузинскаго царя Александра имѣла самый неблагопріятный для насъ исходъ въ дѣлахъ Кавказскихъ.
Въ 1593 г. посланнику нашему дворянину Нащокину въ Константинополѣ, визирь говорилъ между прочимъ, что Султанъ запретитъ Хану Крымскому безпокоить Россію, «буде Царь сведетъ съ Дону Козаковъ своихъ и разрушитъ четыре новыя крѣпости, основанныя имъ на берегахъ сей рѣки и Терека, чтобы преградить намъ (Туркамъ) путь къ Дербенту». На увѣренія Нащокина въ благорасположеніи двора Московскаго къ Портѣ, визирь возразилъ: «Вы миролюбивы; но для чего же вступаете въ тѣсную связь съ Иверіею, подвластною Султану?» На это Нащокинъ въ свою очередь отвѣчалъ, «что связь наша съ Грузіею состоитъ въ единовѣріи, и что мы посылаемъ туда не войско, а священниковъ, и дозволяемъ ея жителямъ ѣздить въ Россію для торговли» [2]. Еще въ 1492 г. пріѣзжали въ Москву послы Грузинскіе съ просьбою Царю о покровительствѣ [3]. Вспомнимъ браки Изяслава Мстиславича, женатаго (въ 1154 г.) на одной княжнѣ изъ Абхазіи, гдѣ еще въ VI в. были христіанскія Церкви [4], и сына Андрея Боголюбскаго, Князя Георгія, женатаго (послѣ 1175 г.) на знаменитой Грузинской Царевнѣ Тамарѣ [5]. Помнить всѣ эти обстоятельства необходимо при рѣшеніи вопроса о степени доступности Малой Азіи для Русскихъ въ разныя времена. Такъ какъ путь въ нее открывался имъ не только черезъ Черное море, но и черезъ Арменію, то вовсе не лишнимъ будетъ распространиться нѣсколько
1. Карамз. И. Г. Р. (изд. Смирд. 1833). XI, 39 и сл.
2. Кар. И. Г. P. IX, 102. См. тамъ же с. 39 и сл. Снош. съ Турціею въ 1386 г.
3. Ibid. VІ, 232.
4. Ibid. II, пр. 334. См. Р. Л. I, 146. Посла Изяславъ сына своего, второе, противу мачесѣ своей, бѣ бо повелъ жену собѣ изъ Обезъ, и устрѣте ю Мстиславъ въ порозѣхъ.
5. Кар. И. Г. P. III, 143.
![]()
47
о знакомствѣ Русскихъ съ странами Каспійскими и Кавказскими и указать на нѣкоторыя обстоятельства ему благопріятствовавшія. Еще въ X в. грабили Руссы въ Каспійскомъ морѣ; извѣстны два ихъ похода въ 914 и въ 944 г. Святославъ въ 965 г. одолѣлъ Козаровъ, взялъ ихъ городъ Бѣлую Вѣжу; побѣдилъ Ясовъ и Касоговъ. Въ 968 г. Руссы, по свидѣтельству Ибнъ-Хаукала, разрушили городъ Болгаръ, Хазеранъ, Итиль и Семендеръ [1]. Мстиславъ, Князь Тмутараканскій, въ 1022 г. ходилъ на Касоговъ, одолѣлъ ихъ сильнаго Князя Редедю, проникъ въ его землю, овладѣлъ его имуществомъ, женою и дѣтьми и возложилъ дань на Касоговъ. Въ слѣдующемъ году онъ идетъ на Кіевъ противъ Ярослава съ Козарами и съ Касогами. Недавно отысканное г. Ханыковымъ мѣсто въ одномъ Персидскомъ поэтѣ ХII в. свидѣтельствуетъ о походѣ Русскихъ въ Шемаху между 1133—1195 г. Уже было упомянуто о бракѣ Георгія Андреевича съ Грузинскою царевною Тамарою, послѣ 1175 г. Извѣстно, что Русскіе служили въ войскахъ Монголовъ, будучи въ «неволѣ Татарской», а въ 1277 г, князья наши — Борисъ Ростовскій, Глѣбъ Бѣлозерскій, Ѳеодоръ Ярославскій и Андреи Городецкій, сынъ Невскаго, ходили войною на Ясовъ и завоевали городъ Дедяковъ въ южномъ Дагестанѣ. Но помимо сношеній враждебныхъ и непріязненныхъ, въ то же время съ этими странами имѣли Русскіе и безпрерывныя связи, мирныя и торговыя. Еще въ X и XI в, вели Русскіе значительную торговлю съ Козарами и Волжскими Булгарами; въ ХIII в. въ столицѣ послѣднихъ постоянно жили торговцы Русскіе и, какъ можно полагать, не въ маломъ количествѣ [2].
1. Fraehn - Ibn-Foszl. S. 64. замѣчаетъ про Семендеръ: «zwischen Itil u. Derbend gelegen».
2. Въ 1024 г. «бѣ мятежъ великъ и голодъ по всей той страііѣ; идоша по Волзѣ вси людье въ Болгары, и привезоша жито и тако ожиша». Р. Л. I, 64. См. тамъ же о муч. св. Аврааміѣ въ землѣ Болгарской, 1 апр. 1230 г. «усѣченъ бысть мѣс. апрѣля въ 1 день, его же Русь хрестьяне вземше тѣло положиша въ гробѣ, идѣже вси хрестьяне лежать, и створи Боги милость вскорѣ, за кровъ его, погорѣ у него большая половина города Великаго, а потомъ вставшая частъ загорашется днемъ дважды и трижды; такоже и бысть на много дни, мало остася города, а все погорѣ, и товара погорѣ множство безчислено, за кровь мученика Христова».
![]()
48
Знаменитый Арабскій путешественникъ XIV в., въ первой половинѣ столѣтія посѣтившій столицу Хановъ Сарай, такъ между прочимъ говоритъ о ея значеніи и населеніи:
«Serâ est au nombre des villes les plus belles, et sa grandeur est très considérable; elle est située dans une plaine et regorge d’habitants; elle possède de beaux marchés et de vastes rues. Nous montâmes un jour à cheval, en compagnie d’un des principaux habitants, afin de faire le tour de la ville et d’en connaître l’étendue. Notre demeure était à l’une de ses extrémités. Nous partimes de grand-matin, et nous n’arrivâmes à l’autre extrémité qu’après l’heure de midi. Alors nous fîmes la prière et prîmes notre repas. Enfin nous n’atteignîmes notre demeure qu’au coucher du soleil. Nous traversâmes aussi une fois la ville en largeur, aller et retour, dans l’espace d’une demi journée. Il faut observer que les maisons y sont contigues les unes aux autres, et qu’il n’y a ni ruines ni jardins. Il s’y trouve treize mosquées principales pour faire la prière du vendredi; l’une de celles-ci appartient aux châfeïtes. Quant aux autres mosquées, elles sont en très-grand nombre. Serâ est habité par des individus de plusieurs nations, parmi lesquels on distingue: 1) les Mongols; qui sont les indigènes et les maîtres du pays; une partie professe la religion musulmane; 2) les Ass (Ossètes), qui sont musulmans; 3) les Kifdjaks; 4) les Tcherkesses; 5) les Russes; 6) les Grecs, et tous ceux ci sont Chrétiens. Chaque nation habite un quartier séparé, où elle a ses marchés. Les négociants et les etrangers, originaires de deux Irâks, de l’Egypte, de la Syrie, etc. habitent un quartier qui est entouré d’un mur, afin de préserver les richesses de marchands» [1].
Въ 40 годахъ XIII в. Плано Карпйни былъ у Батыя на берегахъ Волги и у Гаюка въ Средней Азіи; у перваго, по его словамъ, войско состояло изъ 600,000 человѣкъ, изъ нихъ 150 тыс. было Татаръ, а 450 тыс. иноплеменниковъ, Христіанъ и другихъ подданныхъ. Изъ нашихъ лѣтописей намъ извѣстно, что Монголы уводили съ собою въ плѣнъ множество жителей,
1. Voyages d’Ibn-Batoutah, texte arabe, accompagné d’une traduction par C. Defrémery et le Dr. B. B. Sanguinetti. Paris. MDCCCLIV. II, 447—448.
![]()
49
а Плано Карпини, описывая свой путь отъ Владиміра Волынскаго до Кіева, говоритъ: «Жителей вездѣ мало, они истреблены Монголами или отведены ими въ плѣнъ». У Гаюка въ станѣ встрѣтилъ Плано Карпини двухъ сыновей Грузинскаго царя, посла халифа Багдадскаго и многихъ другихъ пословъ Сарацынскихъ, встрѣтилъ и князя Русскаго Ярослава, которому вездѣ давали первое мѣсто. Христіане, состоявшіе на службѣ у Гаюка, говорили Карпини, что Гаюкъ думаетъ самъ принять христіанство, «держитъ у себя христіанскихъ священниковъ и дозволяетъ имъ всенародно передъ своимъ шатромъ отправлять Божественную службу по обрядамъ Греческой Церкви». Этотъ же путешественникъ съ признательностью вспоминаетъ объ одномъ добромъ Русскомъ человѣкѣ, который весьма много ему помогалъ, когда онъ нуждался въ самомъ необходимомъ. Этотъ Русскій, именемъ Комъ, былъ искусный художникъ и любимецъ Гаюковъ. «Онъ сдѣлалъ, — говорить Плано-Карпини, — печать для Хана и тронъ изъ слоновой кости, украшенный золотомъ и драгоцѣнными камнями съ разными изображеніями, и съ удовольствіемъ показывалъ намъ свою работу». Передъ вступленіемъ въ переговоры съ Плано Карпини Гаюкъ приказалъ спросить у него, есть ли у папы люди, знающіе языкъ Татарскій, Русскій или Арабскій. Значитъ Русскихъ не мало было при Монголахъ. И дѣйствительно: въ 1253 г. былъ въ Ордѣ посланникъ Людовика IX. Рубруквисъ и нашелъ при дворѣ ханскомъ Русскихъ архитектора и дьякона, а въ станѣ Батыя, кочевавшаго на Волгѣ, и въ его окрестностяхъ онъ же видѣлъ множество Русскихъ, Венгровъ и Ясовъ, которые скитались въ степяхъ и грабили путешественниковъ. Въ 1265 г. открыта была Саранская епархія, а въ 1301 г. второй ея епископъ Ѳеогностъ уже обращался къ Патріарху съ вопросомъ о крещеніи Татаръ. «Приходящимъ отъ Татаръ и хотящимъ креститися ....» Много страдая и терпя отъ Монголовъ, Русскіе рано однако начали имѣть на нихъ свое вліяніе. Племянникъ Бергая, преемника Батыева, царевичь Петръ тайно бѣжалъ изъ Орды въ Ростовъ, крестился, построилъ монастырь ори Св. Игнатіи Ростовскомъ, вступилъ въ бракъ и овдовѣвъ, скончался въ иночествѣ ок. 1290 г.
![]()
50
Баскакъ Бога крестился въ Устюгѣ въ 1262 г. Вскорѣ послѣ 1279 г. князь Ѳеодоръ Ярославскій женился въ Ордѣ на дочери хана Менгу-Темира, а князь Глѣбъ Ростовскій еще въ 1257 г. на дочери хана Хубилая, который самъ былъ христіаниномъ. Въ 1302 г. два князя Ростовскихъ, а въ 1305 г. князь Костромскій женились также въ Ордѣ. Сынъ князя Гахмета прибылъ изъ Орды въ Мещеру въ 1298 г., крестился самъ и увлекъ за собою многихъ Татаръ. Родоначальникъ Годунова Четъ съ нѣсколькими Мурзами выѣхалъ изъ Орды къ Ивану Калитѣ и крестился. Два сына хана Кульпы, убитые вмѣстѣ съ отцомъ въ 1359 г., были тоже христіане. Монголы, грабя и раззоряя Русь, тѣмъ не менѣе открыто сознавали нравственное ея превосходство надъ собою; такъ ханъ писалъ великому князю о святителѣ Алексіѣ: «мы слышали, что небо ни въ чемъ не отказываетъ молитвѣ главнаго попа вашего: да испроситъ же онъ здравіе моей женѣ». При святителѣ, исцѣлившемъ Тайдулу, много знаменитыхъ мурзъ, выѣхавъ въ Россію, приняли христіанство. Нечего и говорить о вліяніи Русскихъ на Татаръ во времена позднѣйшія, особенно послѣ Куликовской битвы, когда Русь перешла уже въ движеніе наступательное,
Въ XIV в. вольница Новгородская не разъ разгуливала внизъ по Волгѣ, спускалась и въ Каму; такъ Новгородскій Лѣт. подъ 1366 г. записалъ: «ходили изъ Новгорода люди молодые на Волгу безъ Новгородскаго слова» т. е. безъ спросу господина Вел. Новгорода; «а воеводою — продолжаетъ онъ — Есинъ Варѳоломеевичь, Василій Ѳеодоровичь, Александръ Обакуновичь; тогожъ лѣта пріидоша вси здрави въ Новгородъ». Троицкая Лѣт. говоритъ объ этомъ нѣсколько подробнѣе: «Пройдоша Волгой изъ Новгорода изъ Великаго 150 ушкуевъ, Новгородци разбойници ушкуйници, избиша Татаръ множество, Бесерменъ и Орменъ въ Новѣгородѣ въ Нижнемъ, женъ и дѣтей, товаръ ихъ пограбиша, а съсуды ихъ, кербати и лодьи и учацы и набусы и струги, то все посѣкоша, а сами отъидоша въ Каму, и пройдоша до Болгаръ, такоже творяще и воююще».
Еще ранѣе, именно въ 1360 г. ходили Новгородскіе разбойники на Болгарскій городъ Жукотинъ, что стоялъ близъ устья Камы, въ Лаишевскомъ уѣздѣ — «и множество Татаръ побита,
![]()
51
и богатство ихъ взяша, и за то христіане пограблени быша въ Болгарѣхъ отъ Татаръ» (Ник. Л.).
Отъ второй половины XIV в. имѣемъ извѣстія и о другихъ подобныхъ шалостяхъ Новгородскихъ молодыхъ людей, ушкуйниковъ. Въ 70 годахъ они неоднократно разгуливали по Волгѣ, Камѣ и Вяткѣ. Такъ въ 1371 г. они овладѣли Костромой и Ярославлемъ, а въ 1375 г. въ числѣ двухъ тысячь подошли къ Костромѣ, разбили вышедшихъ противъ нихъ 5 тысячъ вооруженныхъ Костромичей, овладѣли городомъ и безчинствовали въ немъ цѣлую недѣлю; ограбили купеческія лавки, полонили многихъ жителей и, покидавъ въ Волгу, чего не могли взять съ собою, пустились къ Нижнему, захватили и тамъ многихъ Русскихъ и продали ихъ въ неволю восточнымъ купцамъ въ Болгарахъ. Разбираемые охотой силы-удали поотвѣдать, богатырскихъ плечь порасправить, они пошли далѣе внизъ по Волгѣ, къ Сараю, «гости христіанскія грабяче и біюще», дошли безпрепятственно до самой Астрахани (Хазитороканя), гдѣ большая часть ихъ погибла, и то въ слѣдствіе хитрости тамошняго князя Монгольскаго Саньчея. Въ 1379 г. подобная же шайка разбойниковъ была истреблена Вятчанами близъ Казани.
Мы рѣшились напомнить читателю эти всѣмъ извѣстные факты, единственно съ тою цѣлію, чтобы показать, что въ XIV в. Волга была почти совершенно въ рукахъ Русскихъ, изъ которыхъ одни непрестанно плавали по ней въ видахъ грабежа, другіе, болѣе честные, но одушевляемые не меньшею отвагой, удалью и предпріимчивостью — съ цѣлями торговыми. Дѣйствительно, какъ мы уже видѣли, купцы Русскіе проживали въ Сараѣ, и занимали въ немъ особый кварталъ въ XIV в. То же самое, конечно, было и въ XIII в., когда уже существовала Сарайская епархія, когда немало Татаръ приняли св. крещеніе.
Знаменитый Французскій оріенталистъ Катрмеръ въ переводѣ своемъ сочиненія Макризи о Мамлюкахъ, въ одномъ изъ своихъ примѣчаній, изумляющихъ громадною начитанностью и ученостью, по поводу краткаго разсказа Макризи о посольствѣ султана Египетскаго Бибара къ хану Монгольскому Бергаю или Береке въ 1263 г., сообщаетъ болѣе подробное описаніе этого посольства на берега Волги,
![]()
52
на основаніи Арабскихъ писателей Ибнъ-Ферата, Новаири, продолжателя Эльмакина и друг. [1] Посланники Египетскіе прибыли въ Константинополь, — но привожу слова Катрмера:
«Ils se rendirent à Istambol, et ensuite à Deksaïta (peut-être la ville d’Odessa), qui est le port où viennent aborder les vaisseaux de Soudak. Puis ils se remirent en mer, et abordèrent sur la côte opposée. Ce trajet exige ordinairement dix journées de navigation; mais quelquefois on le fait en deux jours, lorsque l’on est favorisé par un très-bon vent».
Въ Судакѣ они встрѣтили начальника округа (canton) —
«qui les conduisit à la ville de Krim [2], bâtie à une journée des bords de4 la mer, et habitée par diverses nations de Kaptchaks, de Russes et d’Alains»
1. Hist. des sultans Mamlouks, de l’Egypte, écrite en Arabe par Taki-Eddin-Ahmed-Makrizi, trad. en français et accomp. de notes philol., histor., géogr. par M. Quatremère. Paris. I, p. 213 etc. Note 96.
2. Городъ Крымъ находился недалеко отъ Каѳы, былъ весьма многолюденъ и обширенъ. Ибнъ-Батута, посѣтившій его въ 30-хъ годахъ XIV вѣка, такъ его описываетъ, называя его Kiram (Eski-kirim ou Solghât) —
«ville grande et belle, qui fait partie des Etats du sultan illustre, Mohammed Uzbec Khân; elle a un gouverneur nommé par lui et appelle Toloctomoûr. Nous avions été accompagnés pendant le voyage par un des serviteurs de cet émir. Cette homme ayant annoncé à son maître notre arrivée, celui-ci m’envoya un cheval par son imam Sa’deddin. Nous logeâmes dans un ermitage, dont le supérieur était Zâdeh alkhoraçany. Ce cheïkh nous témoigna de la considération, nous complimenta sur notre arrivée, et nous traita généreusement. Il est fort vénéré de ces peuples; je vis les habitants de la ville, kâdhis, prédicateurs, jurisconsultes et autres, venir le saluer. Ce cheïkh Zâdeh m’apprit qu’un moine chrétien habitait un monastère situé hors de la ville, qu’il s’y livrait aux pratiques de la dévotion et jeûnait très fréquemment; qu’il allait même jusqu’à jeûner quarante jours de suite, après quoi il rompait le jeûne avec une seule fève; entïn, qu’il découvrait clairement les choses cachées. Le cheïkh me pria de l’accompagner dans une visite à ce personnage. Je refusai; mais, dans la suite, je me repentis’de ne l’avoir pas vu, et de ne pas avoir ainsi reconnu la vérité de ce qu’on disait de lui». (Voy. d’Ibn-Batoulah, etc. II, 359—360).
Капчаки или Кифд’жаки были христіане. Такъ описываетъ ихъ степь Ибнъ-Батута, называя ее Decht Kifdjak:
«Cette plaine est verdoyante et fleurie; mais il ne s’y trouve ni montagne, ni arbre, ni colline, nipente. Il n’y a pas de bois à brûler, et l’on ni connaît point d’autre conbustible que la fiente d’animaux, laquelle est appelée tezec (bouse). Tu verrais les principaux d’entre les indigènes ramasser ce fumier, et le porter dans les pans de leurs vêtements. On ne voyage pas dans cette plaine sinon sur des chariots. Elle s’étend l’espace de six mois de marche, dont trois dans les états du sultan Mohammed Uzbec, et trois dans ceux d’autres princes. Le lendemain de notre arrivée dans ce port, un des marchands, nos compagnons, alla trouver ceux des habitants de cette plaine qui appartiennent à la nation connue sous le nom de Kifdjak et qui professent la religion chrétienne. Il loua d’eux un chariot traîné par des chevaux. Nous y montâmes, et nous arrivâmes à la ville de Cafa, grande cilé qui s’étend sur le bord de la mer et qui est habitée par des chrétiens, la plupart Génois....» (ibid. p. 356-357).
![]()
53
«Après avoir parcouru l’espace de vingt jours, un désert immense, couvert de tentes et des troupeaux, ils arrivèrent au fleuve Etil (le Volga), sur les bords duquel est la résidenee du prince Bérékeh. Cette rivière dont les eaux sont douces, a la môme largeur que le Nil, et l’on y voit continuellement naviguer des barques russes».
Плаванье Русскихъ судовъ по Волгѣ, замѣченное въ Сараѣ ок. 1263 г., не можетъ насъ удивлять, такъ какъ мы знаемъ, что Русскія поселенія въ Сараѣ и въ окрестностяхъ были столь многочисленны, что потребовалось основать особую епархію Саранскую въ 1265 г.
Мы убѣждены, что читателю не покажется парадоксомъ, если мы скажемъ, что неволя Татарская, вредная для Русскихъ во многихъ отношеніяхъ, не стѣснила однако ихъ международныхъ сношеній, по крайности съ Азіею, и даже расширила ихъ. Мы поступили бы совершенно неосторожно, если бы стали утверждать, что торговыя связи Русскихъ съ южною Азіею, происходившія въ X и даже IX в., совершенно прекратились во времена послѣдующія. Современникъ Рюрика и Олега, Арабскій писатель Ибнъ-Хордатъ-Бегъ, умершій уже старикомъ въ 912 г. и служившій почтмейстеромъ и полиціймейстеромъ въ Джебалѣ (древней Мидіи), вотъ что между прочимъ передаетъ намъ въ своей книгѣ о странахъ и дорогахъ:
«Русскіе изъ племени Славянъ вывозятъ мѣха бобровъ и чернобурыхъ лисицъ изъ самыхъ отдаленныхъ краевъ Славянской земли и продаютъ ихъ на берегахъ Румскаго моря: тутъ царь Румскій беретъ съ нихъ десятину. Когда имъ вздумается, они отправляются на Славянскую рѣку и пріѣзжаютъ въ заливъ города Хозаръ: тутъ даютъ они десятину владѣтелю этой земли [1].
1. Френъ, указавъ на слова Идриси — flumen Ross (Russiae) Athel (т. e. Волга) vocatum, замѣтилъ однако, что 1) здѣсь по всей вѣроятности испорченъ текстъ, и исправивъ его, прочелъ такъ: «und es ist kein Eingang in dieses Meer als von» — 2) если Идриси и назвалъ Итиль рѣкою Русскою, то по ошибкѣ, смѣшавъ Донъ съ Волгою, такъ какъ многіе Арабскіе географы считали Донъ рукавомъ Волги. (Fraehn, Ibn-Fossl. Ber. S. 38). Поэтому-то Френъ и сказалъ, что слова Идриси «Итиль рѣка Руссовъ» едва ли могутъ служить подтвержденіемъ догадки знаменитаго Нѣмецкаго оріенталиста Гаммера, который подъ именемъ Расъ (Корана) разумѣлъ прежде рѣку Араксъ, но потомъ перемѣнилъ свое мнѣніе — «mais depuis que j’ai trouvé le Ρως dans la liste des grands fleuves asiatiques donnée par Agathemeros (chap. X), j’ai clé convaincu que le Rha ou Wolga et le Ros sont la même chose» (cm. Fraehn ib. S.37).
— Есть мнѣніе, что Волга, слывущая и теперь у Мордвы подъ именемъ Рау, и у восточныхъ писателей по преимуществу называвшаяся Идель (т. е. рѣка), а у нынѣшнихъ Чувашей Адаль, своимъ названіемъ Ра (Ῥἄ у Птолемея, Rha у Амміана) и Росъ (Ρως у Агаѳемера) обязана своимъ происхожденіемъ какому нибудь Финскому или Тюркскому нарѣчію. Очень можетъ быть, что предположеніе о Финскомъ или Тюркскомъ происхожденіи названій Волги Ра и Рос (Ρως) со временемъ и оправдается, а пока найдутся въ Финскихъ или Тюркскихъ нарѣчіяхъ подходящія имъ слова или корни, не слѣдуетъ забывать, что въ языкѣ Славянскомъ слово рѣ-ка имѣетъ при себѣ корень рѣ сходный съ Греч. ῥέω теку, что въ томъ же Славянскомъ языкѣ находятся слова русло, русалка (жилица водъ), есть и собственное рѣчное имя Росъ, т. е. Ръсъ. Срв. бъдѣти — будити, дъхнѫти — духъ и гнѣвъмь — гнѣвомъ и пр. — бесѣда и бесада, грѣхъ и грахъ, трава и трѣва, вѣı-аниѥ и ваı-аниѥ и пр.
— Желательно повѣрить слова Идриси — flumen Ross Athel vocatum. Ибнъ-Хордатъ-Бегъ († 914 г.) называетъ Волгу рѣкою Славянскою, а Русскихъ онъ считалъ Славянами — «Русскіе изъ племени Славянъ». Аль-Истахри говоритъ, что Русскіе раздѣлены на три племени: одни живутъ въ сосѣдствѣ Булгаръ, а князь ихъ живетъ въ Кутабѣ, городѣ, который больше гор. Булгаръ; другіе называются Славяне, третьи Утаніэ, князь ихъ живетъ въ Арбѣ. (Das Buch d. Länder von Schech Ebn-Ishak el Farsi el Isztachri, aus d. Arab. von A. D. Mordtmann. Nebst ein. Vorworte v. Prof. C. Rilter. Mit 6 Karten, Hamburg. 1845. S. 106).
— Вспомнимъ слова Нестора, въ началѣ Лѣтописи:
«Днѣпръ потече изъ Оковьскаго лѣса, и потечеть на полъдне ; а Двина изъ того же лѣса потечегь, а идеть на полунощье, и внидеть въ море Варяжьское; изъ того же лѣса потече Волга на въстокъ, и вьтечеть семьюдесятъ жерелъ въ море Хвалисьское. Тѣмже и изъ Руси можетъ ити въ Болгары и въ Хвалисы, на въстокъ доити въ жребіи Симовъ; а по Двинѣ въ Варяги, изъ Варягъ до Рима» и пр.
Мы знаемъ, что Русскіе постоянно плавали по Волгѣ не только въ XIV и VV в., но и въ XI и даже X в. См. разк. Ибнъ Фодлана о Руссахъ въ Хозарскомъ городѣ Итилѣ. Плавали Русскіе по Волгѣ и въ первыхъ годахъ X в. и въ IX в. ; такъ Ибнъ-Хордатъ-Бегъ говоритъ, что Русскіе изъ племени Славянъ «ѣздятъ и къ Хозарскому заливу рѣкою Славянскою», т. е. Волгою. Неизвѣстный Арабскій авторъ «Книги странъ» говоритъ, что «Славянскіе купцы.... ходятъ — по Славянскому морю къ заливу Хозаръ, а потомъ плывутъ по Хорасанскому морю» (т. е. Каспійскому). Почтенный Славянистъ нашъ И. И. Срезневскій весьма вѣрно замѣтилъ: «Славянское море, которымъ плыли къ Итилю изъ Славянской земли, есть, конечно, не море, а рѣка Волга» — и основательно то доказалъ. (С. 61).
![]()
54
Затѣмъ они ѣдутъ въ море Джурджанское и тамъ пристаютъ къ любому берегу, а это море въ поперечникѣ простирается на 500 Фарсаховъ. Иногда случается, что они везутъ свои товары изъ Джурджана черезъ Ибиль въ Багдадъ».
![]()
55
Неизвѣстный Арабскій авторъ «Книги странъ», жившій по всей вѣроятности въ X в., повторяетъ почти то же самое о торговыхъ сношеніяхъ Русскихъ съ Азіею. Вотъ его слова:
«Славянскіе купцы вывозятъ мѣха лисицъ и бобровъ изъ самыхъ отдаленныхъ странъ Славянскихъ къ Румскому морю, гдѣ и платятъ пошлину Румскому царю. Они ходятъ моремъ и къ Жиду Самкушу и потомъ сухимъ путемъ въ Славянскую землю, а далѣе къ Славянскому морю къ заливу Хозаръ, гдѣ должны платить пошлину Хозарскому владѣтелю; потомъ плывутъ къ Хорасанскому морю въ ту рѣку, которая называется Славянскою; иногда входятъ въ Джорджанъ, и тамъ распродаютъ свой товаръ. Всѣ эти товары приходятъ въ Рей, остающійся рынкомъ для всего свѣта» [1].
Въ городѣ Реѣ, что близъ Тегерана, производилась, но замѣчанію того же автора, обширная торговля съ Арменіей, Адербиджаномъ, Хорасаномъ, землей Хозарской и Берджаномъ (Молдавіей). Ибнъ-Хордать-Бегъ говоритъ, что Русскіе возятъ свои товары въ Багдадъ. Димешки, сказавъ объ обширности пространства, занимаемаго Славянами, прибавляетъ: «вотъ потому-то и находили Славянскихъ плѣнниковъ въ Испаніи и въ Хорасанѣ, по причинѣ тѣхъ войнъ, которыя вели они съ Турками и съ Греками» [2].
Въ IX—X в. проникали Русскіе въ страны Каспійскія и Кавказскія, какъ въ видахъ торговыхъ, такъ и съ цѣлью пограбить, въ видахъ воинственныхъ.
Въ XV в. предпріимчивые и любознательные торговцы посѣщаютъ эти страны весьма часто; одинъ изъ нихъ, пошедшій далѣе ихъ всѣхъ, незабвенный нашъ Тверской торговецъ Аѳанасій Никитинъ оставилъ даже свои путевыя записки, одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ памятниковъ старой Русской словесности. И. И. Срезневскій въ заключеніи своихъ превосходныхъ комментарій къ «Хоженію за три моря» и на основаніи многочисленныхъ изслѣдованій и сравненій съ полнымъ правомъ выразился
1. См. ст. И. И. Срезневскаго — Слѣды давняго знакомства Русскихъ съ южной Азіей (Вѣстн. Русск. Геогр. Общ. 1854. Кн. I).
2. Mém. de l’Acad. de St. Pétersb. VI. Charmoy. Relation de Massoudy. p. 352.
![]()
56
о запискахъ Русскаго человѣка XV в. такимъ образомъ: «По времени, когда писаны, его записки принадлежатъ къ числу самыхъ важныхъ памятниковъ своего рода: разсказы Ди Конти и отчеты Васко ди Гама одни могутъ быть поставлены въ ровень съ Хоженіемъ Никитина. Не ниже ихъ это Хоженіе ни по слогу, хотя и можетъ онъ намъ теперь казаться слишкомъ мало-литературнымъ, ни по простодушію и отрывочности замѣчаній, ни по довѣрчивости къ разказамъ туземцевъ, заставившей его иногда повторять и невѣроятное. А что умноразнообразна была наблюдательность Никитина, въ этомъ, кажется, нельзя сомнѣваться. И въ этомъ отношеніи Никитинъ не ниже, если не выше его современниковъ» [1].
Имѣемъ ли мы какое нибудь право предполагать, что первые преемники и послѣдователи Русскихъ торговцевъ, упоминаемыхъ Ибнъ-Хордатъ-Бегомъ и неизвѣстнымъ сочинителемъ «Книги странъ», появляются только въ XV в.? Имѣемъ ли хотя малѣйшее основаніе утверждать, что въ продолжительный періодъ времени — XI — XIV в. — мирныя связи Русскихъ съ востокомъ были совершенно прерваны? Пишущій эти строки съ своей стороны несомнѣнно убѣжденъ, что со временемъ будутъ открыты положительныя извѣстія объ этихъ связяхъ, особенно въ писателяхъ восточныхъ; пока же проситъ читателя обратить вниманье на нѣкоторыя соображенія и факты, которые одни ставятъ выше всякаго сомнѣнья то положеніе, что мирныя связи Русскихъ съ востокомъ, странами за-Каспійскими и за-Кавказскими, не прерывались въ періодъ XI—XIV в.
Слѣдуетъ помнить походы Русскихъ въ Каспійскомъ морѣ въ 914, 944 г., ослабленіе и разрушеніе могущественной державы Хозарской, походы Святослава на Ясовъ и Касоговъ въ въ X в., а Мстислава въ XI в., походъ Русскихъ на Шемаху въ XII в., брачные союзы Русскихъ князей XII в. съ Абхазіею и Грузіею, силу и значеніе княжества Тмутараканскаго, существованіе Русскихъ поселеній, и не малочисленныхъ, въ земляхъ при-Донскихъ, и по завоеваніи ихъ Половцами, а потомъ Татарами, безпрерывныя сношенія съ ними Русскихъ, -
1. Учен. Зап. II Огд. Имп. Ак. Наукъ, Кн. II, вып. 2, С. 303—300.
![]()
57
постоянное пребываніе Русскихъ, воиновъ, ремесленниковъ и торговцевъ, между Татарами на Волгѣ, въ Средней Азіи, въ Дагестанѣ.
Въ сказаніяхъ Русскихъ XV в. о земляхъ за Араратомъ, о жизни Тамерлана, земли за-Кавказскія и за-Каспійскія называются но большей части именами народными, что указываетъ на ихъ источникъ, не книжный, а народный [1].
Изъ того, что имена эти записаны въ памятникахъ XV в., нелѣпо было бы заключать, что эти имена не были извѣстны въ XIV в. и раньше.
Испанскій путешественникъ Рюи Гонсалесъ де Клавихо, посланный къ Тамерлану Генрихомъ III Кастильскимъ, видѣлъ въ 1404 г. въ Самаркандѣ Русскихъ торговцевъ, вмѣстѣ съ Татарскими, съ кожами, мѣхами и льняными тканями. «За полвѣка передъ тѣмъ, — замѣчаетъ И. И. Срезневскій, основываясь на показаніи Шегабъ-Эддина, въ его Живописныхъ путешествіяхъ, — льняныя одежды изъ земли Русской вмѣстѣ съ тканями изъ Александріи были въ ходу и почетѣ почти за полторы тысячи верстъ за Самаркандомъ на югъ, на полудорогѣ изъ него въ Калькутту, въ Дели, что въ сѣверной Индіи» [2]. По восточнымъ сказаніямъ о походѣ Тамерлана на Русь, войска его «обогатились у насъ несмѣтною добычею и навьючили вельблюдовъ слитками золота, серебра, мѣхами драгоцѣнными, кусками тонкаго полотна Антіохійскаго и Русскаго [3]. Русскіе, знакомые съ землями Кавказскими, задолго до Татаръ и во время ихъ владычества, не прерывали своихъ давнишнихъ связей.
Мы уже имѣли случай указать на бытность Русскихъ князей и ихъ войскъ въ южномъ Дагестанѣ въ 1277 г., здѣсь же укажемъ только на слѣдующія два обстоятельства изъ XIV в.
Если бы съ землями Кавказскими Русскіе не имѣли постоянныхъ сношеній, то какимъ бы образомъ вошли въ наши лѣтописи напр. слѣдующія слова: подъ 1345г. —
1. Уч. Зап. Кн. II, вып. 2, статья И. И. Срезневскаго, с. 228 и сл.
2. Тамъ же, стр. 226.
3. Карамзина И. Г. Р. V, 131.
![]()
58
«бысть моръ силенъ зѣло подъ восточною страною на Орначи и на Азсторокани и на Сараи, и на прочихъ градѣхъ страннѣхъ, на христіанахъ и на Арменехъ, и на Фрязѣхъ и на Черкасѣхъ, и на Татарѣхъ, и на Обязѣхъ и яко не бысть кому погребати ихъ».
Изъ разсказа Лѣтописи о кончинѣ князя Тверскаго Михаила Ярославича, въ 1319 г., въ Ордѣ, кочевавшей въ то время сначала у Азовскаго моря, потомъ въ Дагестанѣ, за Терекомъ, близъ Дербента [1], узнаемъ, что тамъ было много Русскихъ: «Бяхужъ тамо мнози народи, аки песокъ собравшеся», «тогда всѣ земли сошлись тамо... и Цареградцы и Нѣмцы и Литва и Русь и мнози православніи». Съ княземъ Михаиломъ были священныя книги, которыя онъ читалъ передъ смертью. Были при немъ и священники — «бѣ бо съ нимъ игуменъ, говоритъ Никон. Лѣтопись, да два попа инока, два попа, да дьяконъ мірскіе». Съ нимъ было не мало его слугъ, которые и уговаривали его бѣжать. Были въ то время въ Ордѣ и другіе Русскіе, которые ни мало не сочувствовали князю Михаилу, напротивъ, смѣялись надъ нимъ. «Рече же отъ своихъ единъ: господине княже! видѣши ли се, колико народа множество стоящихъ, видяще тя въ таковой укоризнѣ, а прежь тя слышаще царствующа тя во своей земли?...» Убійцами Михаила были Романецъ и Иванецъ, быть можетъ тоже Русскіе, но во всякомъ случаѣ христіане. «Вежу же его разграбиша Русь и Татарове; всѣхъ сущихъ съ нимъ христіанъ и Татаръ, служащихъ ему, имающе изобнажаху нагихъ и влечаху, терзающе яко злодѣевъ и розведше поковаша». Весьма любопытны нѣкоторыя подробности объ отвезеніи въ Русь тѣла Михайлова; онѣ весьма полезны для соображенія при разсмотрѣніи вопроса о тогдашней доступности для Русскихъ земель Кавказскихъ. Такъ Лѣтопись (Ник.) разсказываетъ, что тѣло Михайлово привезено было въ Мощарыкъ (т. е. Маджары на р. Кумѣ), «ту суще гости Рустіи восхотѣша поставити въ церкве плащанищею покрывше, и не даша имъ, по въ хлѣвинѣ». Потомъ привезли тѣло въ Бездежь, что нынѣ, по мнѣнію Карамзина, Везедево, ниже Енотаевска, на рукавѣ Волги.
1. «За р. Теркомъ, на рѣцѣ на Севенцѣ (нынѣ Сунжа) подъ городомъ подъ Тетяковымъ, мивувше вси горы высокыя, Ясьскія и Черкаскія, близь Воротъ Желѣзныхъ».
![]()
59
«И яко же быша близъ града, и мнози изъ града видѣша, около саней множество народа со свѣщами, а иныхъ на конѣхъ съ фонари по воздуху ѣздящихъ; и тако привезоша во градъ и не поставиша въ церкви, но во дворѣ». Далѣе разсказываетъ лѣтописецъ, какъ два стража въ страхѣ великомъ были свержены съ саней «и далече отшетнуты, и едва возставше и въ себе пришедше, и шедше, исповѣдаша вся бывшая сущимъ ту священникомъ, отъ нихъ же слышавше сіе написахомъ достовѣрно».
Въ числѣ обстоятельствъ, благопріятствовавшихъ связямъ Русскихъ съ землями Кавказскими, я указалъ, между прочимъ, и на поселенія Русскихъ въ земляхъ при-Донскихъ.
Въ нашихъ лѣтописяхъ подъ 1499 г., кажется, въ первый разъ упоминаются козаки Азовскіе: въ этомъ году приходили они съ Татарами Ордынскими подъ Козельскъ. Князья Перемышльскій и Одоевскій разбили ихъ, иныхъ взяли въ плѣнъ и привели въ Москву (И. Г. P. VI, Пр. 495). Въ переговорахъ Московскаго Двора съ Пртою 1516 г. упоминаются также козаки Азовскіе. «Великій князь требовалъ, чтобы султанъ запретилъ имъ тревожить нашу Украйну и хватать людей, которые посылаются оттуда въ степи для развѣдыванія о Крымцахъ и Ногаяхъ» (ib. VII, Пр. 136).
Ногайскій мурза Белекъ жаловался Ивану Васильевичу Грозному на Козаковъ Азовскихъ и между прочимъ писалъ о нихъ: «Бѣлаго князя Черкасы бѣглые холопи были». А царь Иванъ Васильевичъ въ переговорахъ своихъ съ ханомъ Крымскимъ говорилъ: «Нашихъ Козаковъ на Дону нѣтъ никого; а живутъ на Дону изъ нашего государства бѣглые люди»; или въ другомъ мѣстѣ: «А которые на Дону живутъ, давно бѣгая изъ нашего государства» (И. Г. P. VIII, Пр. 251).
Теперь естественно возникаетъ вопросъ: эти бѣглые Русскіе люди, про которыхъ въ половинѣ XVI в. говорили, что они давно бѣгаютъ, и о которыхъ упоминаютъ лѣтописи въ к. XV в., эги бѣглые Русскіе люди, поселяясь на Дону, нашли ли тамъ уже Русскихъ поселенцевъ, своихъ земляковъ и единовѣрцевъ, или же они были первыми поселенцами этого края? Позволяю себѣ думать, что и до этихъ бѣглыхъ людей были Руссія поселенія на Дону: такъ еще въ 1265 г. открыта была Сарайская епархія,
![]()
60
а въ XIV в. не разъ возникали споры о границахъ Рязанской и Сарайской епархій; наконецъ было рѣшено, что Рязанская оканчивается при впаденіи Хопра въ Донъ. Спрашивается, къ чему было учреждать цѣлую епархію, если бы поселенія Русскія были незначительны? Выше мы видѣли, что въ началѣ XIV в. были православныя церкви въ Маджарахъ, на р. Кумѣ, въ Бездежѣ, ниже Енотаевска. Отчего не могло быть и Русскихъ поселеній въ краѣ при-Донскомъ, ниже впаденія Хопра въ Донъ?
Въ XIII и въ XII в. въ этихъ мѣстахъ, между Волгой, Дономъ и Днѣпромъ, кочевали Половцы.
Съ половины XI до начала XIII в. сношенія Руси съ Половцами были почти безпрерывныя. Помимо враждебныхъ отношеній, вскорѣ должны были образоваться и дружественныя. Нѣтъ сомнѣнія, что не только Половцы мѣшались въ дѣла Русскія, но и наоборотъ; если князья и даже княгини наши вступали въ браки съ Половцами, то точно также вступали и изъ народа и изъ дружины. Эти мирныя связи конечно не могли не имѣть на Половцевъ нѣкотораго вліянія, усиливавшагося Русскими плѣнниками, которыхъ они нерѣдко уводили въ большомъ количествѣ. Напрасно мы стали бы предполагать, что люди Русскіе, уводимые Половцами въ плѣнъ, были всегда убиваемы или же отдаваемы на самыя тяжкія мученья. Очень вѣроятно, что не обходилось и безъ этихъ случаевъ, но они бывали непремѣнно исключеніями; такъ какъ Половцамъ не трудно было увидать, что Русскіе далеко превосходятъ ихъ во многихъ отношеніяхъ, ихъ собственный интересъ заставлялъ приманивать къ себѣ Русскихъ. При безпрерывности связей Руси съ Половцами, не могло не возникнуть явленія самого обыкновеннаго въ исторіи международныхъ сношеній. Съ той и другой стороны должны были являться перебѣжчики, люди бѣглые. Между Русью и Половцами не могло не образоваться связей торговыхъ ; — черезъ земли Половецкія лежалъ путь Русскимъ къ землямъ Кавказскимъ, съ которыми Русь нерѣдко сносилась въ XII в.
На основаніи однихъ этихъ такъ сказать апріорическихъ соображеній, можно рѣшительно отказаться отвѣчать отрицательно на вопросъ,
![]()
61
не было ли Русскихъ поселеній въ земляхъ при-Донскихъ и до Татаръ, при Половцахъ, въ XII в. и раньше?
По смерти Петра Великаго, весьма много заботившагося объ Астраханскомъ портѣ и о судоходствѣ на Каспійскомъ морѣ, тамошній флотъ, весьма въ его время значительный, отъ совершеннаго имъ пренебреженія сталъ постепенно приходить въ упадокъ. Отъ прекращенія крейсерствъ естественно должно было ослабѣть торговое судоходство; вѣроятно отъ недостатка средствъ къ пропитанію, люди, служившіе во флотѣ и любившіе свое ремесло, стали толпами переходить на сторону Персіянъ ; появились морскіе разбойники, Русскіе люди. Около 1735 г. Русскій консулъ въ Гилянѣ доносилъ Русскому правительству, что «приходящіе на купеческихъ морскихъ судахъ въ Гилянъ и въ другія на тамошнемъ Каспійскомъ морѣ лежащія пристани музуры (матросы) многіе тамъ остаются и не токмо сами строютъ въ Персіи мореходныя суда, но и другихъ дѣланію тѣхъ судовъ обучаютъ» [1].
Въ слѣдствіе этого велѣно было консулу въ Гилянѣ удерживать музуръ отъ побѣговъ, а Астраханскихъ купцовъ обязать подпискою, «подъ опасеніемъ штрафа и лишенія пожитка, не отпускать въ Персію музуръ и не продавать судовъ».
Явились и морскіе разбойники «Русскіе воровскіе люди». Такъ, бывшій въ Петербургѣ въ 1737 г. Персидскій посолъ представлялъ, что «нынѣ, но полученнымъ письмамъ изъ Баки, вновь появились разбойники изъ Россійской націи, человѣкъ съ семьдесятъ на судахъ, и живутъ близь Баки, на островѣ Акрабѣ (?), для грабежа проѣзжихъ людей, и уже три суда Астраханскихъ купцовъ ограбили» [2]. Въ 1767 г. появился у Персидскихъ береговъ одинъ отчаянный корсаръ «обусурманившійся» Русскій человѣкъ Иванъ Столаревъ, сталъ строить въ Энзиляхъ суда и расхаживать по морю, но вскорѣ обжегся порохомъ и умеръ. — Вице-адмиралъ Крюйсъ въ запискѣ своей о Донѣ, Азовскомъ морѣ и пр., составленной имъ по приказанію Петра Великаго
1. Астрах. Портъ съ 1725 по 1781 г. ст. г. Соколова. (Морск. Сб. 1849. С. 469).
2. Тамъ же. С. 470. 3. Тамъ же. С. 474.
![]()
62
и поднесенной имъ въ 1699 г. царевичу Алексѣю Петровичу, говоритъ, между прочимъ, что, не терпя притѣсненій Польши, при видѣ казней, постигшихъ Павлюка, Остряницу, многіе изъ Козаковъ Малороссійскихъ стали пуще прежняго искать себѣ убѣжища въ другихъ странахъ и 4 тысячи человѣкъ «изъ разумнѣйшихъ Козаковъ», собравшись съ женами и дѣтьми, рѣшились переселиться въ Персію, имѣвшую тогда войну съ Турками. «Такимъ образомъ перешли они, по обыкновенію своему, въ обозѣ, болѣе 120 миль черезъ земли Крымскихъ и Ногайскихъ Татаръ, съ которыми они часто имѣли сраженіе», но на Дону они повстрѣчались съ козаками Донскими, которые отговорили ихъ отъ такого намѣренья [1].
И такъ, если Русскіе люди въ 18 и 17 стол. могли перебѣгать и переходить къ Персіянамъ весьма значительными массами, то отъ чего не могли переходить такимъ же образомъ и къ Половцамъ, съ которыми Русь находилась въ сношеніяхъ постоянныхъ и безпрерывныхъ?
Не только въ 18 стол., но и въ послѣднее время въ Хивѣ, Бухарѣ, Ташкентѣ и Коканѣ жило не мало Русскихъ людей, не только плѣнниковъ и невольниковъ, захваченныхъ и перепроданныхъ Киргизами, но и бѣглыхъ и гулящихъ людей, которые, избѣгая преслѣдованій и наказаній, или просто увлекаемые Русскою удалью и молодечествомъ, вступали на службу Азіатовъ. Очень не гуманно обращаясь съ Русскими плѣнниниками, они тѣмъ не менѣе стараются воспользоваться ихъ умомъ и тѣми знаніями, которыхъ за собою они не вѣдаютъ.
Въ 1822 г. въ одномъ изъ нашихъ журналовъ писали объ одномъ Русскомъ человѣкѣ, находившемся въ то время въ неволѣ въ Бухарѣ. Въ 80 годахъ прошлаго столѣтія, Андрей Родиковъ, капралъ Оренбургскаго гарнизона, былъ взятъ въ плѣнъ Киргизами и проданъ въ Бухару.
Ханъ Бухарскій произвелъ его въ топчи-баши, поручилъ ему начальство надъ артиллеріею, бралъ его въ походы противъ Персіянъ, Авганцевъ, Хивинцевъ.
1. Старинн. переводъ Розыск. о Донѣ, Азовск. морѣ, Воронежѣ и Азовѣ, учиненныя по повел. Петра В. и пр. Отеч. Зап. Свиньина. Ч. XX. № 53. С. 183—186.
![]()
63
Въ 1822 г. Родикову было 70 лѣтъ; онъ тосковалъ по Россіи, но не имѣлъ возможности убѣжать.
Какъ всѣхъ Русскихъ плѣнниковъ, его принудили принять исламизмъ, однако въ тайнѣ онъ остался вѣренъ христіанству. Почти каждую недѣлю Русскіе невольники собираются, говорили тогда, молиться къ Родикову, который, кромѣ исправленія должности топчи-баши, завелъ въ Бухарѣ свою лавку и занимается торговлею. Въ Свѣтлое Христово Воскресенье всѣ Русскіе въ Бухарѣ отправляются къ Родикову, «запираются въ его тѣсную каморку и слушаютъ заутреню, которую отправляютъ Родиковъ и Василій Егоровъ, плѣнный дьячекъ изъ Оренбурга. У нихъ есть всѣ священныя и церковныя книги, которыя получили они отъ Русскихъ купцевъ, бывшихъ въ Бухаріи». Въ 1822 г. въ Бухарѣ проживало 34 человѣка Русскихъ плѣнныхъ, изъ коихъ 27 мужчинъ и 7 женщинъ [1].
Сибирскіе козаки Милюшинъ и Батарышкинъ, бывшіе въ плѣну у Коканцевъ съ 1849 по 1852 г., по возвращеніи своемъ на родину, разсказывали между прочимъ, напр. про Туркестанъ (Азретъ): «Городъ этотъ имѣетъ болѣе 1000 домовъ; окруженъ стѣною, которая во многихъ мѣстахъ развалилась, и населенъ большею частью бѣглыми изъ разныхъ странъ. Одинъ Сибирскій казакъ по имени Алексѣй Пыжиковъ, служитъ тамъ сотникомъ (юзъ-баши) у пушекъ.
Когда Козаковъ нашихъ и ихъ товарищей, которые потомъ померли, привели въ Коканъ, то ханъ приказалъ имъ обрить головы и передать раису (муллѣ) для обращенія въ мусульманство. Вопреки однако совѣту нашихъ единовѣрцевъ Русскихъ, находящихся въ Коканѣ, мы двое сутокъ не соглашались на бритье головы, наконецъ на третьи уступили силѣ. Насъ обрили, перерядили въ Азіатское платье и передали раису.
Въ самомъ Коканѣ бѣглыхъ Русскихъ и Татаръ будетъ около ста человѣкъ. Они встрѣчаются и въ другихъ городахъ и особенно въ Ташкентѣ, гдѣ ихъ даже болѣе, чѣмъ въ Коканѣ. Многіе изъ Русскихъ состоятъ въ ханской службѣ, но всѣ въ тайнѣ соблюдаютъ православную вѣру и желаютъ возвратиться на родину;
1. Отеч. Зап. Свиньина. Ч. XI. № 29. С. 366 и сл.
![]()
64
ихъ удерживаетъ только боязнь наказанія. Изъ нихъ мы помнимъ имена: Степана Аверьянова, который служитъ юзъ-башею у орудій; Ивана Кузнецова, Семипалатинскаго купеческаго сына, занимающагося торговлею; козака Ефима Мусова; солдата Митрофана Демина и козака Петра Коновалова.
У раиса мы прожили мѣсяца два (январь и февраль 1850). Тамъ насъ содержали хорошо, хотя и подъ присмотромъ, и, между прочимъ, учили по-Татарски, но обрѣзаться мы не соглашались, а когда, послѣ двухнедѣльной болѣзни, раисъ умеръ, мы ушли изъ его дома на волю и поселились у Степана Аверьянова, гдѣ жили мѣсяца два или три (съ марта 1850 г.)» [1].
Съ Половцами Русскіе находились въ несравненно болѣе тѣсныхъ и неразрывныхъ связяхъ, чѣмъ даже въ настоящее время съ Хивою, Бухарою, Ташкентомъ и Коканомъ. Земля Половецкая, болѣе сихъ послѣднихъ, была подвержена Русскому вліянію; отчего въ ней плѣнники Русскіе не могли пользоваться нѣкоторымъ значеніемъ? отчего же въ ней не могло быть Русскихъ бѣглыхъ и гулящихъ людей?
Нельзя не замѣтить, что успѣшная обработка исторіи древней Руси встрѣчаетъ себѣ сильное препятствіе въ тѣхъ понятіяхъ, что съ одной стороны не позволяютъ изслѣдователю принимать то, что весьма само но себѣ вѣроятно и даже необходимо, хотя письменно и не засвидѣтельствовано [2], а съ другой стороны поддерживаютъ въ немъ мысль ограничиваться одними отечественными источниками, напр. лѣтописями, тогда какъ онѣ недостаточны. Сюда же надо отнести старую привычку обращать вниманіе только на одну жизнь государственную и политическую; какъ будто бы судьба Русскихъ, вѣрныхъ своей народности, не живущихъ однако въ Русской территоріи, не составляетъ органической части Русской исторіи? Отъ того забываютъ даже и упомянуть о той землѣ Русской, которая отошла къ народу иноплеменному, хотя и сохранила свою народность.
1. Вѣстникъ Русскаго Географ. Общ. 1856. Кн. IV. Смѣсь. С. 21 и сл.
2. Изслѣдователь въ наше время ни на единый мигъ не долженъ забывать, что есть факты двоякаго рода: явные и тайные, и что послѣдніе гораздо важнѣе.
![]()
65
Изъ того, что Русскія лѣтописи ничего не говорятъ о Русскихъ поселеніяхъ въ землѣ Половецкой, еще не слѣдуетъ заключать, чтобы ихъ и не было.
Не могло въ ней не быть Русскихъ бѣглыхъ и воровскихъ людей, однако лѣтописи тоже молчатъ о нихъ.
Кіевскій лѣтописецъ подъ 1159 г. говоритъ: «Приде Изяславу болши помочь къ Бѣлугороду, приде бо къ нему Башкордъ въ 20 тысячь, отчимъ Святославль Володимирича: бѣ бо мати его бѣжала въ ІІоловци и шла за нь» (P. Л. II, 85).
Княгиня могла бѣжать къ Половцамъ; какъ же не бѣгать было простымъ людямъ?
Пишущій эти строки смѣетъ думать, что при рѣшеніи подобныхъ вопросовъ, не мѣшаетъ иногда принимать въ соображеніе народный характеръ, аналогическія явленія другаго времени и при другихъ обстоятельствахъ.
Когда Изяславъ Ярославичь въ 1068 г. привелъ на землю Кіевскую Ляховъ, то Кіевляне послали сказать его братьямъ, князьямъ Святославу и Всеволоду: «а поидета въ городъ отца своего; аще ли не хочета, то намъ неволя: зажегше градъ свой, ступимъ въ Греческую землю» (Р. Л. I, 74).
Въ 1174 г. вышла изъ Великаго Новагорода одна партія его жителей, спустилась по Волгѣ до Камы и основала поселеніе на берегу ея. Воодушевляемые желаніемъ, столь прирожденнымъ Русскому, «новыхъ землицъ отыскивать», «пустую землю въ живущую полнити», подчинили себѣ Вотяковъ, овладѣли городомъ Вяткою, завели въ этомъ краѣ и другія поселенія, основали новый городъ Хлыновъ и принявъ къ себѣ многихъ Двинскихъ жителей, образовали самостоятельную общину, которая и просуществовала такъ около двухъ сотъ семидесяти осьми лѣтъ, «наблюдая обычаи Новогородскіе, повинуясь сановникамъ избираемымъ и духовенству» (Кар.). Лѣтописцы современные ни слова не упоминаютъ объ этомъ происшествіи.
Не надо забывать, что бояре наши весьма дорожили своимъ правомъ отъѣзда.
Козаки Азовскіе, бѣглые Русскіе люди, приходятъ вмѣстѣ ёъ Татарами грабить Россію.
Плано-Карпини, около 1 247 г. проѣзжавшій землю Половецкую,
![]()
66
говоря однажды о жестокости Баскаковъ, замѣтилъ: такъ они истребили великое число Русскихъ, жившихъ въ землѣ Половецкой.
Карамзинъ, въ одномъ изъ драгоцѣннѣйшихъ своихъ примѣчаній, замѣтилъ: «Путешественникъ XIII в., Рубруквисъ, сказываетъ, что между Волгою и Дономъ жили многіе Русскіе, Аланскіе, Венгерскіе или Башкирскіе разбойники, составляя какъ бы народъ особенный (см. его Voyage въ Бержерон. собр. стр. 20 и 38): вѣроятно, что они именуются въ нашихъ лѣтописяхъ Бродниками, то есть бродягами, сволочью» (II Пр. 302, см. III, прим. 164 и 304).
Въ XII в. Русскимъ тѣмъ легче было селиться въ землѣ Половецкой, что тамъ могли быть поселенія Русскія и весьма немалозначительныя, со временъ княжества Тмутараканскаго, имя котораго въ послѣдній разъ упоминается нашими лѣтописями подъ 1094 г.
Въ Тмутаракани и окрестностяхъ должны были быть поселенія Русскія еще въ X в., когда Владиміръ послалъ туда сына своего Мстислава, который около 1022 г. ходилъ на Касоговъ и побѣдилъ ихъ, проникъ въ ихъ землю и наложилъ на нихъ дань. По обѣту, данному имъ передъ битвою, онъ построилъ въ Тмутаракани церковь — «заложи церковь святыя Богородица, и созда ю, яже стоить и до сего дне Тмутарокани».
Подъ 1023 г. говоритъ лѣтописецъ, что Мстиславъ ходилъ на Ярослава съ Хозарами и Касогами ; а подъ 1024 г., что Мстиславъ пришелъ изъ Тмутараканя въ Кіевъ, но Кіевляне его не приняли и онъ удалился въ Черниговъ. Ярославъ же былъ тогда въ Новѣгородѣ. Призвавъ къ себѣ Варяговъ изъ-за моря, пошелъ онъ противъ Мстислава, который вышелъ имъ на встрѣчу къ Листвену, что на р. Рудѣ, близъ Городни. Мстиславъ поставилъ Сѣверянъ впереди, а на правомъ и лѣвомъ крылѣ свою дружину. Въ бурную, грозную ночь завязалось сраженіе. Сѣверяне зачали биться съ Варягами и много ихъ пало; тогда Мстиславъ повелъ свою дружину на Варяговъ и избилъ ихъ. Ярославъ былъ разбитъ и бѣжалъ въ Новгородъ. Утромъ, обходя поле битвы, сказалъ Мстиславъ: «кто сему не радъ? се лежить Сѣверянинъ, а се Варягъ, а дружина своя цѣла».
![]()
67
Мстиславъ послалъ сказать Ярославу: «сади въ своемъ Кыевѣ, ты еси старѣйшій братъ, а мнѣ буди си сторона». Братья помирились и Ярославъ сѣлъ въ Кіевѣ, а Мстиславъ въ Черниговѣ. И раздѣлили уже въ 1025 г. по Днѣпръ Русскую землю, «Ярославъ прія сю сторону, а Мстиславъ ону; и начаста жити мирно и въ браголюбствѣ, и уста усобица и мятежь, и бысть тишина велика въ земли».
Въ 1031 г. умеръ сынъ Мстиславовъ Евстафій, а въ 1036 г. самъ Мстиславъ. «По семъ же перея власть его всю Ярославъ, и бысть самовластець Русьстѣй земли».
Татищевъ, вѣроятно основываясь на источникѣ, до насъ недошедшемъ, замѣтилъ, что Евстафій умеръ въ Тмутаракани.
Въ продолженіе цѣлаго ряда годовъ, лѣтопись молчитъ о Тмутарокани и только подъ 1064 г. прерывается ея молчаніе, когда говорится въ ней о бѣгствѣ въ Тмутарокань Ростислава, сына Владимірова, внука Ярославова; съ нимъ бѣжали Порѣй и Вышата, сынъ Остромира, воеводы Новгородскаго. Нѣтъ сомнѣнія, онъ пришелъ въ Тмутарокань съ болѣе или менѣе значительными силами: «и пришедъ выгна Глѣба изъ Тмутароканя, а самъ сѣде въ него мѣсто». Въ томъ же или въ слѣдующемъ 1065 г. князь Черниговскій Святославъ Ярославичь пошелъ въ Тмутарокань на Ростислава, чтобы снова посадить туда сына своего Глѣба. Ростиславъ вышелъ изъ города не изъ боязни, но не хотя подымать оружія противъ своего дяди. Святославъ вошелъ въ Тмутарокань, посадилъ снова сына своего Глѣба и воротился назадъ въ Черниговъ. Ростиславъ вернулся въ Тмутарокань, выгналъ Глѣба, который удалился къ своему отцу, и снова сѣлъ княжить въ Тмутарокани.
Подъ 1065 г. лѣтописецъ передаетъ намъ слѣдующій разсказъ: «Ростиславу сушу Тмутарокани, и емлющу дань у Касогъ и въ инѣхъ странахъ, сего же убоявшеся Грьци, послаша съ лестью Котопана; оному же пришедшу къ Ростиславу и ввѣрившуся ему, чтяшеть и Ростиславъ». Но этотъ Котопанъ поднесъ ему яду и, уѣхавъ въ Херсонь, объявилъ, что князь Ростиславъ умретъ въ извѣстный день; такъ и случилось. «Сего же Катопана побита каменьемъ Корсуньстіи люди». —
Съ чего, спрашивается, было Херсонцамъ мстить за Ростислава, если они не были ему преданы въ извѣстной степени?
![]()
68
Не вижу рѣшительно никакого основанія отвѣчать отрицательно на вопросъ: не было ли въ Херсонѣ XI в. или его окрестностяхъ Русской стихіи, Русскихъ поселеній? Сношенія Руси съ полуостровомъ Таврическимъ въ XII в. были прочныя и постоянныя: такъ туда шелъ извѣстный Соляный путь, иногда тревожимый Половцами и дорого князьями нашими цѣнимый [1].
Въ XIII в., какъ мы уже видѣли, были поселенія Русскія на полуостровѣ, по крайности въ гор. Крымѣ. Отчего не могло быть ихъ въ XII в., когда Русь вела съ Крымомъ сношенія безпрерывныя? Смѣю думать, что и въ XI и въ X в. Славяне Русскіе не менѣе часто бывали на полуостровѣ. При семъ надо помнить Русскіе договоры съ Греками и походъ Владиміра на Корсунь. Выслушавъ всѣ мнѣнія отправленныхъ имъ людей для узнанія лучшей вѣры, и остановившись наконецъ на Греческой, Владиміръ, по словамъ лѣтописи, спросилъ бояръ: «гдѣ крещеніе пріимемъ?» они же рекоша: «гдѣ ти любо», «и минувшу лѣту иде Володимеръ (988) съ вои на Корсунь, градъ Гречьскій, и затворишася Корсуняне въ градѣ; и ста Володимеръ объ онъ полъ города въ лимени, дали града стрѣлище едино, и боряхуся крѣпко изъ града, Володимеръ же объстоя градъ. Изнеможаху въ градѣ людье, и рече Володимеръ къ гражанамъ: «аще ся не вдасте, имамъ стояти и за 3 лѣта». Они же не послушаша того, Володимеръ же изряди воѣ своѣ, и повелѣ приспу сыпати къ граду. Симъ же спущимъ, Корсуняне подъкопавше стѣну градьскую, крадуще сыплемую персть, и ношаху къ собѣ въ градъ, сыплюще посредѣ града; воини же присыпаху болѣ, а Володимеръ стояніе. И мужъ Корсунянинъ стрѣли, имянемъ Наставъ, напсавъ еще на стрѣлѣ:
1. «Вложи Богъ въ сердце Мьстиславу Изяславичу мысль благу о Русской земли, занеже ей хотяше добра всимъ сердцемъ; и созва братью свою и нача думати съ ними, река имъ тако: «братье! пожальтеси о Русской земли и о своей отцинѣ и дѣдинѣ, оже несуть хрестьяны на всяко лѣто у вѣжѣ свои, а съ нами роту взимаюче, всегда переступаюче; а уже у насъ и Гречьскій путь изъотимають, и Соляный, и Залозный; а лѣпо ны было, братье, възряче на Божію помочь и на молитву святоѣ Богородици, поискати отець своихъ и дѣдъ своихъ пути и чести». (Р. Л. II, 97). Залозный путь шелъ, по всей вѣроятности, на юго-востокъ, на Кавказъ.
![]()
69
«кладязи яже суть за тобою отъ востока, изъ того вода идетъ по трубѣ; копавъ переими». Володимеръ же се слышавъ, возрѣвъ на небо, рече: «аще се ся сбудеть, и самъ ся крещу». Корсунь былъ взятъ и отправлено посольство къ Василію и Константину съ просьбою о рукѣ царевны Анны. Подробности, сюда относящіяся, слишкомъ хорошо извѣстны каждому. Вспомнимъ только, что Владиміръ называетъ Херсонъ «градомъ славнымъ», что въ Цареградѣ, убѣждая царевну Анну пойти за Владиміра, говорили ей между прочимъ: «видиши ли колько зла сотвориша Русь Грекомъ». Слѣдовательно обладанію Херсонемъ Греки придавали великое зиаченіе! Владиміръ, по словамъ лѣтописца, крестился въ церкви Св. Василія, «и есть церки та стоящи въ Корсунѣ градѣ, на мѣстѣ посреди града, идѣже торгъ дѣютъ Корсуняне; полата же Володимеря съ края церкве стоить и до сего дня, а царицина полата за олтаремъ».
Владиміръ, отправляясь въ Русь, взялъ съ собою царицу, «и Настаса, и попы Корсуньски, съ мощми святаго Климента и Фифа, ученика его, пойма съсуды церковьныя, иконы на благословенье себѣ. Постави же церковь въ Корсунѣ на горѣ, юже съсыпаша средѣ града, крадуще цриспу, яже церки стоить и до сего дне».
Если считать, что Несторъ, окончилъ свою лѣтопись въ 1112 г., то слѣдуетъ непремѣнно заключать, что не только въ нач. XII в., но и въ XI в., сношенія Руси съ Крымомъ были безпрерывныя, иначе бы Несторъ не говорилъ вскользь и мимоходомъ о томъ, что въ Херсонѣ то-то и то-то «стоитъ и до сего дне». Ему и въ голову не приходило, что читатель станетъ заподозривать его извѣстіе; онъ былъ убѣжденъ, что каждому легко провѣрить его слова. Точно въ такомъ же тонѣ сообщилъ онъ и слѣдующее извѣстіе объ Ольгѣ : «ловища ея суть по всей земли, знамянья и повосты, и сани ее стоять въ Плесковѣ и до сего дне, и по Днѣпру перевѣсиіца и по Деснѣ, и есть село ее Ольжичи и доселѣ».
Въ настоящее время, когда несомнѣнно извѣстно, что за долго до принятія христіанства Владиміромъ, въ Кіевѣ уже жило много христіанъ, нѣтъ возможности сомнѣваться, чтобы въ войскѣ Владиміра, съ которымъ онъ пошелъ на Херсонь, не было бы христіанъ и притомъ людей грамотныхъ.
![]()
70
Довольно вспомнить договоры Русскихъ съ Греками 911, 945 и 971 г., подлинность которыхъ несомнѣнна ; они убѣдительно доказываютъ бытность на Руси X в. христіанъ и людей грамотныхъ.
Несторъ разсказываетъ, что Настасъ Корсунянинъ написалъ и пустилъ свое посланіе со стрѣлою въ лагерь Русскій. Мы не имѣемъ никакого основанія утверждать, что Несторъ это происшествіе выдумалъ. «Володимеръ же се слышавъ» — Владиміру прочли, такъ какъ онъ былъ неграмотенъ.
Здѣсь позволю себѣ замѣтить, что походъ Владиміровъ на Херсонь въ 988 г. непремѣнно долженъ былъ быть приготовленъ цѣлымъ рядомъ долгихъ и частыхъ, какъ враждебныхъ, такъ и мирныхъ сношеній Славянъ Русскихъ съ полуостровомъ Таврическимъ. Житіе Св. Стефана Сурожскаго, сохранившее намъ драгоцѣнное извѣстіе о грабежахъ Новгородскаго (?) князя, опустошавшаго мѣста отъ Корсуня до Керчи и о его походѣ въ большихъ силахъ на Сурожъ, опредѣляетъ довольно приблизительно и самое время этого похода, замѣчая, что это происходило «по смерти святаго мало лѣтъ минувши», Житіе передаетъ, что пораженный чудомъ, Новгородскій князь крестился у архіепископа Филарета, преемника Стефанова. Съ княземъ крестились и главные изъ его людей.
Почтенный, многоуважаемый авторъ Исторіи Русской Церкви (Харьковъ 1849. Пер. 1, стр. 6), сообразивъ, что Стефанъ скончался ок. 750 г. и что Филаретъ былъ его преемникомъ, весьма основательно заключилъ, что событіе это должно было происходить около 755 г.
Нѣтъ сомнѣнія, что въ періодъ времени отъ 755 до 988 г. Русскіе имѣли съ Крымомъ сношіенія неоднократныя, не только враждебныя, но и мирныя. За долго до Аскольда и Дира ходили Славяне Русскіе по Черному морю въ Цареградъ, что видно изъ древняго полумиѳическаго преданія, сообщеннаго намъ Несторомъ о Кіѣ, основателѣ Кіева. Изъ словъ его видать, что это преданіе было весьма распространено въ его время, чисто народное и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма древнее. Какъ плавали Славяне Русскіе еще въ IX в. въ Каспійскомъ морѣ, посѣщали Рей и Багдадъ, какъ торговали и жили въ Цареградѣ въ X,
![]()
71
а конечно и въ IX в., такъ ходили въ X и въ IX в. и въ Крымъ, торговали и жили въ немъ. Какъ древенъ былъ Греческій путь, такъ точно и дорога въ Крымъ, Соляный путь.
Скажу болѣе: по моему мнѣнію, весьма вѣроятно предположить о нѣкоторыхъ поселеніяхъ Русскихъ въ Крыму до 988 г., до похода Владиміра на Херсонь. Въ то время на полуостровѣ Владиміръ имѣлъ своихъ сторонниковъ, которые норовили и помогали ему, что открывается изъ его угрозы гражданамъ Херсонскимъ, въ случаѣ, если они не сдадутъ ему города, то онъ простоитъ тутъ и три лѣта — «аще ся не сдаете, имамъ стояти и за 3 лѣта». Настасъ Корсунянинъ не могъ и подумать объ измѣнѣ своему городу, если бы онъ не имѣлъ никакихъ понятій о Владимірѣ, его людяхъ. Весьма вѣроятно, что Настасъ былъ самъ Русскій или Славянинъ, проживавшій въ Херсонѣ, христіанинъ и грамотный, знавшій, что въ станѣ Владиміра были такіе же христіане и такіе же грамотные люди, какъ и онъ самъ.
Въ драгоцѣнномъ Паннонскомь жизнеописаніи Константина философэ, находится одно извѣстіе, до сихъ поръ не объясненное достаточно и тѣмъ не менѣе важное относительно вопроса насъ занимающаго. Въ бытность св. Константина въ Херсонѣ, онъ встрѣтился тамъ съ Русскимъ христіаниномъ и нашелъ евангеліе и псалтырь, писанныя по русски. Вотъ это подлинное извѣстіе:
«И обрѣт же Константинъ тоу еуангеліе и ѱалтирь Роушьскыми (= Росьскы и Русскыми) писмены писано, и человѣка обрѣть глаголюща тою бесѣдою, и бесѣдовавъ (= бесѣдова) съ нимъ, и силоу рѣчи прїемь, своей бесѣдѣ прикладае различîи письменъ ( = различная письмена), гласнаа и сьгласнаа, и къ Богоу молитвоу дрьже (вар. творя), и вскорѣ начетъ чисти и сказовати. И дивляхоу се емоу, Бога хвалеще» [1].
1. И. И. Срезневскій весьма, по-моему, основательно и остроумно возразилъ Шафарику на то, что Русскія письмена эти — Готѳскія или Варяго-Русскія, а не Славянскія. «Будь этотъ Русскій языкъ, говоритъ нашъ почтенный Славянистъ, не Славянское нарѣчіе, а какое нибудь чужое, отличное не однимъ выговоромъ словъ, Константинъ не могъ бы съ перваго разу вступить въ разговоръ съ Русскимъ и «принять силу рѣчи» съ одною помощію сравненія ея съ своимъ природнымъ языкомъ — съ своею бесѣдою, замѣчая отличія произношенія звуковъ гласныхъ и согласныхъ. При этомъ, безъ сомнѣнія, надобно допустить предположеніе, что природнымъ языкомъ Константина былъ языкъ Славянскій, предположеніе впрочемъ совершенно умѣстное, доказываемое правильностію словосочиненія и словоизмѣненія въ древнѣйшихъ текстахъ чтеній евангельскихъ. Если же допустить, что подъ именемъ Русскаго языка жизнеописатель разумѣлъ одно изъ нарѣчій Нѣмецкихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ зналъ, о чемъ говорилъ, то и природнымъ языкомъ Константина надобно считать Нѣмецкій, — или же по крайней мѣрѣ надобно отдѣлить, какъ позднѣйшую вставку, выраженія: «своей бесѣдѣ прикладае, различіи письменъ гласная и сьгласнаа». (Изв. II Отд. Ак. H. T. I. С. 296). Позволяю себѣ прибавить здѣсь, что въ томъ случаѣ, если Русскія письмена — Варяжскія или Готѳскія, то надобно отдѣлить, какъ позднѣйшую вставку, и слова: «и бесѣдовавъ съ нимъ и силу рѣчи пріемъ» — такъ какъ Константинъ Философъ, былъ ли онъ Грекъ или Славянинъ, не могъ бесѣдовать по-Нѣмецки, и такъ скоро пріять силу рѣчи.
Если считать позднѣйшею вставкою всѣ эти слова и выраженія, то и всѣ предъидущія слова — такая же вставка; иначе въ ней нѣтъ никакого смысла. Почтенный профессоръ Горскій приписываетъ это мѣсто Русскому вліянію и позднѣйшему времени. Едва ли нельзя не усомниться въ возможности когда либо доказать неопровержимыми доводами, что это мѣсто — простой вымыселъ. Допустивъ это послѣднее, все-таки надо согласиться, что выдумать это могъ только одинъ Русскій; Болгарину же напр. никогда этого не могло придти въ голову. Мѣсто это однако находится не только въ Русскихъ спискахъ Житія Кириллова, но и въ Болгарскомъ, именно Рыльскомъ XV вѣка. Правописаніе послѣдняго едва ли содержитъ какіе либо намеки на Русское вліяніе, на Русское письмо. О. М. Бодянскій полагаетъ, что это извѣстіе выдумано во время «вѣроисповѣдной борьбы Русскихъ съ западными соплеменниками». (О врем. изобрѣт. Слав. письм. С. LVII. Прим. 97).
![]()
72
Совершенно независимымъ путемъ пришедши къ предположенію, весьма вѣроятному, о томъ, что на полуостровѣ Таврическомъ могли проживать Славяне Русскіе и христіане въ X и даже въ IX в., мы находимъ извѣстіе о томъ, что въ первой половинѣ IX в. Константинъ философъ нашелъ въ Херсонѣ одного Русскаго Славянина, у котораго видѣлъ евангеліе и псалтырь, писанныя Русскими письменами [1].
Признаюсь, не вижу никакой необходимости отвергать пока безусловно все эго мѣсто; довольно только вспомнить, что задолго до Кирилла и Меѳодія Славяне принимали христіанство,
1. Нѣтъ никакой необходимости полагать, что то было цѣлое евангеліе, цѣлый псалтырь. Нельзя здѣсь не помнить, что христіанство стало распространяться у Славянъ задолго до IX в., что Лѣт. Межиборск. Еп. говоритъ о Вернерѣ (около 1101 г.): «Libros schlavonicae linguae sibi fieri jussit, ut latinae linguae charactere idiomata linguae Schlavorum exprimeret». A про Старградскаго свящ. Бруно (ок. 1156 г.) у Бодричей говоритъ Гельмольдъ: «Quibus sacerdos Dei Bruno juxta creditant sibi legationem sufficienter administraxit verbum Dei, habens sermones conscriptos verbis slavicis, quos pronunciaret opportune». Изъ нѣдръ же восточной церкви могли задолго до IX в. выходить проповѣдники (сами же крещеные Славяне) и пользоваться народнымъ словомъ. Подвигъ св. Славянскихъ апостоловъ тѣмъ ни сколько не умаляется.
![]()
73
имѣли письменность, употребляли особыя черты и рѣзы, Греческій и Римскія письмена. Богатство и обработанность языка памятниковъ Славянскихъ IX в., дошедшихъ до насъ въ спискахъ XI в., позволяютъ кажется предположить періодъ болѣе или менѣе слабыхъ попытокъ, не оставшихся однако безъ послѣдствій и приготовившихъ цвѣтущее, по истинѣ изумительное состояніе Славянской прозы IX и X в.
Какъ бы то ни было, но Русскія поселенія на полуостровѣ Таврическомъ въ XI в., какъ нельзя болѣе вѣроятны. Княжество Тмутароканское пользовалось въ то время не малымъ значеніемъ: «Ростиславу сущу Тмуторокани, и емлющу дань у Касогъ и въ инѣхъ странахъ, сего же убоявшеся Гръци». Греки подослали Катопана, который и отравилъ князя Ростислава. «Сего же Катопана побиша каменьемъ Корсуньстіи людье» [1]. —
Слѣдующее за тѣмъ извѣстіе въ нашей лѣтописи о Тмутарокани стоитъ подъ 1078 г.
«Сѣде Борисъ Черниговѣ мѣс. мая 4 день, и бысть княженья его 8 дній, и бѣже Тмуторокашо къ Романови».
Въ 1078 г. Олегъ Святославичь, жившій до того у Всеволода въ Черниговѣ, «бѣже... Тмутороканю» 10 Апрѣля. Въ этомъ же году «приведе Олегъ и Борисъ поганыя на Русьскую землю, и поидоста на Всеволода съ Половци». На Сожицѣ былъ разбитъ Всеволодъ, «и побѣдиша Половци Русь, и мнози убьени быша ту». Олегъ и Борисъ отправились въ Черниговъ, гдѣ были однако не долго. Изяславъ съ Ярополкомъ и Всеволодъ съ Владиміромъ пошли вскорѣ противъ нихъ. Борисъ былъ убитъ, а Олегъ «побѣже въ малѣ дружинѣ, и одва утече; бѣжа Тмутороканю».
По смерти Изяслава, убитаго въ этой битвѣ, Всеволодъ, его братъ, сѣлъ въ Кіевѣ, а сынъ послѣдняго, Владиміръ, въ Черниговѣ.
1. Если еще въ XVI в. христіане Крымскіе знали по преданію мѣсто, гдѣ крестился Владиміръ, то нельзя кажется сомнѣваться, что у Русскихъ XI—XII в. Херсонъ былъ въ великомъ почетѣ. Конечно, князья и др. не оставляли тамошнюю церковь, построенную Владиміромъ, ни приношеніями, ни вкладами. Нѣтъ никакой нужды утверждать, что въ церкви этой, со временъ Владиміра, въ богослуженіи былъ принятъ Греческій, а не Славянскій языкъ.
![]()
74
Въ 1079 г. «приде Романъ съ Половци къ Воину, Всеволодъ же ста у Переяславля и створи миръ съ Половци ; и возвратися Романъ съ Половци вспять, и убиша и Половци мѣс. авг. 2 день; суть кости его и доселѣ тамо лежаче, сына Святославля, внука Ярославля; а Олга емше поточиша и за море Царюграду. Всеволодъ же посади посадника Ратибора Тмуторокани».
Въ 1081 г. 18 мая «бѣжа Игоревичь Давыдъ съ Володаремъ Ростиславичемъ» — «и придоста Тмутороканю, и яста Ратибора и сѣдоета Тмуторокани».
Безъ сомнѣнія, они пришли вооруженною силою, иначе бы имъ не выгнать было посадника Ратибора, который конечно же защищался, слѣдовательно имѣлъ самъ свою вооруженную силу.
Въ 1083 г. Олегъ Святославичь, прожившій передъ тѣмъ на островѣ Родосѣ два года и двѣ зимы, явился къ Тмутароканю и, какъ справедливо замѣтилъ Карамзинъ, овладѣлъ имъ вѣроятно съ помощію Грековъ. «Приде Олегъ изъ Грекъ Тмутороканю, и я Давыда и Володаря Ростиславича, и еѣде Тмуторокани; и сѣче Козары, иже бѣша свѣтници на убьенье брата его и на самого, а Давыда и Володаря пусти».
Наконецъ послѣднее извѣстіе, встрѣчающееся въ нашихъ лѣтописяхъ о Тмутарокани, стоитъ подъ 1094 г.: «приде Олегъ съ Половци, изъ Тмутороканя приде Чернигову, Володимеръ же затворися въ градѣ, Олегъ же приде къ граду и пожже около града, и манастырѣ пожже; Володимеръ же створи миръ съ Олгомъ, и иде изъ града на столъ отець Переяславлю, а Олегъ вниде въ градъ отца своего. Половци же начаша воевати около Чернигова, Олгови не взбранящю, бѣ бо самъ повелѣлъ имъ воевати. Се уже третьее наведе поганыя на землю Половецкую; его же грѣха дабы ѝ Богъ простилъ, занеже много хрестьянъ изгублено бысть а друзіи полойени и расточени по землямъ» [1].
1. Подъ 1093 г. лѣтописецъ жалуется на грабежи и опустошенія Половецкія : «лукавіи сынове Измаилеви пожигаху села и гумна, и многы церкви запалиша огнемъ....» «Половци воеваша много и възвратишася къ Торцьскому, и изнемогоша людье въ градѣ гладомъ, и предашася ратнымъ ; Половци же, пріимше градъ, запалиша и огнемъ, люди раздѣлиша и ведоша въ вежѣ къ сердоболемъ своимъ и сродникомъ своимъ. Много роду хрестьяньска стражюще: пéчални, мучими, зимою оцѣпляеми, въ алчи и въ жажи и въ бѣдѣ опустѣвше лици, почернѣвше тѣлесы; незнаемою страною, языкомъ испаленымъ, нази ходяще и боси, ногы имуще сбодены терньемъ. Со слезами отвѣщеваху; другъ къ другу, глаголюще: «азъ бѣхъ сего города», и другіа: «азъ сея вси»; тако съупрашаются со слезами, родъ свой повѣдающе и вздышюще, очи возводяще на небо къ Вышнему, свѣдущему тайная. Да никто же дерзнетъ рещи: яко ненавидими Богомъ есмы! Да не будеть. Кого бо тако Богъ любить, яко же ны взлюбилъ есть? кого тако почелъ есть, якоже ны прославилъ есть и възнеслъ? Никого же». (Р, Л. 1, 96).
![]()
75
Изъ самаго тона и характера извѣстій лѣтописныхъ о Тмутарокани слѣдуетъ, что на берегу Азовскаго моря были издавна поселенія Русскія, и немалозначительныя. Тогдашней Руси они были хорошо извѣстны; иначе бы лѣтописецъ непремѣнно счелъ долгомъ своимъ распространиться подробнѣе о Тмутарокани, о ея внутреннемъ устройствѣ, о ея народонаселеніи, о ея границахъ. Близкое знакомство тогдашней Руси съ Тмутароканыо очевидно и изъ словъ лѣтописца, жителя Кіевскаго, — о церкви св. Богородицы, построенной Мстиславомъ, — «яже стоить и до сего дне Тмуторокани», Еслибы въ Тмутарокани стихія Русская была слаба или ничтожна, тогда бы Ростиславъ никогда не сталъ опаснымъ для Грековъ, а Мстиславъ не могъ бы побѣдить Касоговъ. Изъ того, что князья Тмутароканскіе приводили на Русь Половцевъ, нелѣпо выводить, что Русскаго населенія при нихъ не было, не имѣли потому и своего войска. Въ житіи Ѳеодосія сохранились краткія, но драгоцѣнныя извѣстія о Тмутарокани.
Около 1062 г. инокъ Кіево-Печерскаго монастыря «великыи Никонъ отъиде въ островъ Тмутороканыи и ту обрѣте мѣсто свѣтло, чисто, близъ града, сѣде на немъ и Божіею благодатіею възрасти мѣсто то и церьковь св. Богородица възгради на немъ. И бысть монастырь славенъ, иже и донынѣ есть, прикладъ имы въси Печерскы монастырь».
Изъ того же Житія узнаемъ мы, что по смерти Ростислава Тмутороканскаго, отравленнаго Катопаномъ въ 1065 г., жители Тмутароканскіе просили Никона сходить въ Кіевъ къ Святославу прислать имъ сына своего въ князья.
Точно такъ же, почти за 100 лѣтъ передъ тѣмъ, просили Новгородцы у Святослава дать имъ князя:
![]()
76
«придоша людье Новгородьстіи, просяще князя собѣ: аще не пойдете къ намъ, то налѣземъ князя собѣ».
Свиданіе Никона съ Ѳеодосіемъ было самое радостное. Ѳеодосій уговаривалъ его не разлучаться съ нимъ; великій Никонъ обѣщалъ — «пойду въ монастырь, устрою въ немъ все и тотчасъ ворочусь назадъ». Слово свое онъ исполнилъ, вернулся въ Кіево-Печерскій монастырь, гдѣ и скончался въ 1088 году. (Р. Л. I, 89).
Извѣстіе это о Богородицкомъ монастырѣ въ Тмутарокани указываетъ на немалозначительность тамошнихъ Русскихъ поселеній. Съ основаніемъ же монастыря Русская стихія тамъ еще болѣе должна была выиграть.
Лѣтопись наша упоминаетъ о дѣлахъ Тмутароканскихъ только тогда, когда онѣ приходили въ прямое соприкосновеніе съ дѣлами Руси; поэтому-то въ высшей степени неосновательно поступили бы мы, если бы стали утверждать, что послѣ 1094 г., когда въ послѣдній разъ упоминается Тмутарокань въ нашихъ лѣтописяхъ, Русская стихія исчезла въ пей вовсе, не оставивъ никакого слѣда.
Признавъ существованіе въ XI в. Русскихъ поселеній на берегу Азовскаго моря, и зная о постоянныхъ сношеніяхъ князей Русскихъ съ Тмутароканью и обратно, имѣемъ ли мы хоть какое нибудь право отрицать бытность Русскихъ поселеній въ XI в. на всемъ пространствѣ между тогдашнею Русью и Азовскимъ моремъ?
Прокопій (552 г.), перечисливъ народы, живущіе при устьѣ Дона и по берегамъ Азовскаго моря, вслѣдъ за тѣмъ прибавляетъ: «Дальнѣйшіе края на сѣверъ занимаютъ Анты, народы безчисленные — καὶ αὐτῶν καθύπερθεν, ἐς βοῤῥᾶν ἂνεμον, ἒθνη τὰ Ἀντῶν ἂμετρα ἵδρυνται».
Іорнандъ (ок. 552 г.) говоритъ, что, сильнѣйшіе изъ Славянъ Анты живутъ на Понтѣ, между Днѣстромъ и Днѣпромъ — (Antes..., qui sunt eorum fortissimi, qua Ponticum mare curvatur a Danastro extenduntur usque ad Danaprum, quae flumina mullis mansionibus ab invicem absunt).
Въ этихъ же мѣстахъ жили Славяне и въ IV в.
![]()
77
король Черноморскихъ Готѳовъ Эрманарикъ воевалъ съ Венедами, съ своими сосѣдями.
Во II стол. по Р. X., какъ открывается изъ словъ Плинія, жили нѣкоторыя Славянскія вѣтви по Дону. (А Cimmerio ассоlunt Maeotici, Vali, Serbi, Arrechi, Zingi, Psesii. H. N. VI, 7. См. Шафарика Слав. Древн. § 9. 2).
Хотя и въ миѳическихъ преданіяхъ Скандинавскихъ, тѣмъ не менѣе имѣющихъ великое историческое значеніе и основаніе, рѣка Донъ называется рѣкою Славянскою Tanaquisl и Wanaquisl. На восточной ея сторонѣ лежитъ земля Асовъ, Ясовъ — Asaland, въ ней городъ Asgard, въ которомъ царствовалъ Одинъ. Онъ велъ войну съ Ванами — со Славянами, но съ перемѣннымъ счастіемъ. Вскорѣ Одинъ переселился на сѣверъ, въ Скандинавію.
Народное преданье это могло образоваться не позже, какъ въ I—II в. по P. X., если еще не раньше. (Шаф. Древн. §8.11).
И такъ, въ земляхъ при-Донскихъ издревле были поселенія Славянскія. Народъ земледѣльческій, крѣпко привязанный къ своей землѣ и къ своимъ старымъ обычаямъ, Славяне не могли легко и охотно покидать свои старыя жилища.
Когда же въ первые положено было начало господству Русской стихіи на берегу Азовскаго моря, въ Тмутарокани и окрестностяхъ ?
Первое знакомство наше съ Тмутороканыо начинается 1022 г., подъ которымъ лѣтописецъ записалъ слѣдующее: «Приде Ярославъ къ Берестію. Въ си же времена Мстиславу сущу Тмутороканю, поиде на Касогы...» и т. д. Въ слѣдующемъ же 1023 г. идетъ уже Мстиславъ на Ярослава съ Хозарами и съ Касогами.
Разбивъ Касоговъ въ 1022 г., Мстиславъ построилъ въ Тмутарокани церковь св. Богородицы — «заложи... и созда ю».
Трудно себѣ вообразить, что то была первая Русская церковь въ Тмутарокани. У Карамзина уже возникалъ вопросъ о томъ, съ какого времени подчинилась Тмутарокань Русской стихіи? Онъ предполагалъ, что Тмутарокань или ГреческаяТаматарха была завоевана Святославомъ. При семъ историкъ разумѣлъ побѣды Святослава надъ Хозарами, Ясами и Касогами. О нихъ, какъ извѣстно, лѣтописецъ говоритъ подъ 965 г.
![]()
78
въ слѣдующихъ словахъ: «Иде Святославъ на Козары. Слышавше же Козари, изидоша противу съ княземъ своимъ Каганомъ, и съступишася бити; и бывши брани, одолѣ Святославъ Козаромъ и градъ ихъ Бѣлувѣжю взя. Ясы Побѣди и Касогы».
Сильно сомнѣваюсь въ возможности успѣховъ Святослава въ томъ случаѣ, если бы въ земляхъ при-Донскихъ не было вовсе Русской стихіи, Русскихъ поселеній. Славный Арабскій историкъ и географъ († 956 г.) Массуди, въ сочиненіи своемъ «Золотые луга», между прочимъ пишетъ:
«Отъ рѣки Хозарской (Волги) въ верхнемъ ея теченіи отдѣляется одинъ рукавъ (Донъ), впадающій въ узкій заливъ моря, Понта, каковое есть море Русское; такъ какъ ни одинъ народъ, исключая Русскихъ, не плаваетъ въ этомъ морѣ. Это великій народъ, живущій на одномъ изъ береговъ этого моря. Они никогда не имѣли князя, ни признавали никакого положительнаго закона. Многіе изъ нихъ купцы, ведущіе торгъ съ владѣніями Таргизовъ. Русскіе обладаютъ большими серебряными рудниками, которые могутъ быть сравнены съ рудниками въ горахъ Лехджиръ, въ Хорасанѣ. Столица Таргизовъ расположена на берегу Меотійскаго моря. По моему мнѣнію, эта страна принадлежитъ къ седьмому климату. Караваны ихъ ходятъ въ Ховарезмъ, въ Хорасанъ, а изъ Ховарезма ходятъ къ нимъ караваны; но здѣсь живетъ много кочующихъ ордъ Турецкаго происхожденія, (которыя отличаются отъ Таргизовъ), между этими двумя странами, отъ чего дорога для каравановъ не безопасна» [1].
Передавъ нѣсколько подробностей о Таргизахъ, Массуди снова возвращается къ Русскимъ въ слѣдующихъ словахъ:
«Русскіе состоятъ изъ многихъ различныхъ народовъ (several different nations) и разныхъ ордъ (distinct hordes); одни изъ нихъ называются аль-Людаиетъ (Спрингеръ ставитъ въ скобкахъ сѣ вопросительнымъ знакомъ Lithuanians?). Они ходятъ по своимъ торговымъ дѣламъ въ Испанію, Римъ, Константинополь и къ «Хозарамъ».
1. El. Mas’udis Historical Encyclopaedia, entitled «Meadows of gold and Mines of Gems»: translated from the Arabic by Aloys Sprenger. London. MDCCCXLI, Vol. I, 412—413.
![]()
79
Далѣе Массуди довольно подробно распространяется о походѣ Русскихъ въ Каспійскомъ морѣ; описаніе это я привожу ниже въ примѣчаніи, а теперь позволю себѣ замѣтить, что эти Руссы Массудіевы были Славяне Русскіе, а не Варяго-Руссы, не Норманны, какъ то нѣкоторые утверждаютъ. Ниже я долженъ говорить объ этомъ подробнѣе, а здѣсь укажу только на нѣкоторые главнѣйшіе доводы въ пользу мнѣнія, принимаемаго не только мною, но и знаменитымъ французскимъ оріенталистомъ Рено.
Эти Руссы отправляются въ Каспійское море, по словамъ Массуди, въ числѣ 50,000 человѣкъ. Варяго-Руссы никогда не были такъ многочисленны.
Варяги-Русь были Шведы (жители Упландіи), а Руссы, по словамъ Массуди, великій народъ — а great nation, т. е. многочисленный.
Въ Русь пришла дружина Рюрика, его ближніе, его родственники; положимъ даже, что къ намъ переселилась вся Упландія, и тогда бы Шведовъ нельзя было назвать народомъ великимъ, многочисленнымъ, раздѣленнымъ на нѣсколько племенъ.
И такъ, Руссы Массудіевскіе — не Норманны, а Славяне; точно такіе же Славяне, какъ и Руссы Ибнъ-Хордагь-Бега († 912), Истахри —,
Массуди говоритъ, что Руссы плаваютъ вверхъ по Дону, что они имѣютъ свои серебрянные рудники. Это мѣсто было уже приведено Френомъ въ его замѣчательномъ трудѣ (Ibn-Foszl.-Ber. S. 239); онъ также замѣтилъ уже, что о Русскихъ серебряныхъ рудникахъ упоминаетъ и знаменитый путешественникъ Марко-Поло, этотъ Гумбольдтъ XIII в.
Насъ занимаетъ вопросъ о Русскихъ поселеніяхъ въ при-Донскомъ краѣ; отъ того-то и обращаемъ теперь вниманіе читателя на эти Русскіе серебрянные рудники. Извѣстія о нихъ, важныя для исторіи внутренняго быта и промышленности, несомнѣнно въ то же время убѣждаютъ насъ въ бытности и давности Русской стихіи въ нынѣшней землѣ войска Донскаго. Вотъ какъ Марко-Поло описываетъ Русь (ок. 1270 г.) :
![]()
80
«Область Россіи весьма обширна и раздѣлена на много частей....
Народы ея христіане и держатся Греческаго обряда въ церковномъ богослуженіи. Это люди весьма красивые, бѣлые (лицемъ) и высокіе; женщины ихъ также бѣлы и высоки, съ русыми и длинными волосами. Они платятъ дань царю Татарскому....
Въ этой области (т. е. Россіи) находятся въ огромномъ изобиліи разные мѣха (pelli di armelini, ascolini, zebellini, vari, volpi) и много воску, есть также много рудниковъ, изъ которыхъ добывается серебро въ огромномъ количествѣ».
Карамзинъ замѣтилъ: «Славный Венеціанскій путешественникъ Марко-Поло, бывъ около 1270 г. въ Великой Татаріи, въ Персіи и на берегахъ Каспійскаго моря, говоритъ о хладной Россіи, сказывая, что ея жители бѣлы, вообще хороши лицемъ, и что она богата собственными серебряными рудниками: мы не имѣли ихъ, но дѣйствительно могли хвалиться знатнымъ количествомъ серебра, получаемаго нами отъ Нѣмецкихъ купцевъ и черезъ Югру изъ Сибири» (V. С. 395). Въ настоящее время, смѣю думать, Карамзинъ не отвергъ бы свидѣтельства Марко-Поло, подтверждающаго извѣстіе Массуди о серебрянныхъ рудникахъ Русскихъ. О нихъ есть у насъ извѣстіе и XIV в. Арабскій путешественникъ Ибнъ-Батута, посѣтившій южную Россію въ 30—40 годахъ, разсказываетъ, какъ онъ путешествовалъ изъ Астрахани, сопровождая въ Константинополь хатуну Беялуну, жену хана Узбека, природную Гречанку.
Отправившись изъ Астрахани, черезъ нѣкоторое время, они прибыли къ городу Окакъ. Мѣстоположеніе его мнѣ не извѣстно, но его можно опредѣлить довольно приблизительно изъ соображенія другихъ мѣстъ. Привожу, по ихъ важности, слова Ибнъ-Батуты, во Франц. переводѣ :
Cependant nous marchions (изъ Астрахани — Hâddj Terkhân срв. наше Хазиторокань) vers la ville d’Ocac, qui est une place d’une importance moyenne, bien construite, riche en biens, mais d’une température très froide. Entre elle et Sérâ, capitale du sultan, il y a dix jours de marche. A un jour de distance d’Ocac se trouvent les montagnes des Russes, qui sont chrétiens; ils ont des cheveux roux, des yeux bleux, ils sont laids de visage et rusés de caractère.
![]()
81
Ils possèdent des mines d’argent, et on apporte de leur pays des saoum, c’est à dire des lingots d’argent, avec lesquels on vend et l’on achète dans cette contrée. Le poids de chaque lingot est de cinq onces.
Dix jours après être partis de cette cité (Ocac), nous arrivâmes à Sordâk (Soûdâk). C’est une des villes de la vaste plaine du Kifdjak; elle est située sur le rivage de la mer, et son port est au nombre des plus grands ports et des plus beaux. Il y a en dehors de la ville des jardins et des rivières. Des Turcs l’habitent, avec une troupe de Grecs qui vivent sous leur protection, et sont des artisans; la plupart des maisons sont construites en bois. Cette cité était autrefois fort grande; mais la majeure partie en fut ruinée, à cause d’une guerre civile qui s’éleva entre les Grecs et les Turcs» [1].
Горы, близъ города Окака (?) [2], находившагося въ 10 дняхъ пути отъ Сарая и въ 10 же дняхъ отъ гор. Судака, горы, въ которыхъ Русскіе добывали себѣ серебро въ XIV в., по словамъ Ибнъ-Батуты, въ ХIII по Марко-Поло, и въ X в. по Массуди, ничто иное, какъ Донецкій кряжь, гдѣ еще въ настоящее время находятъ серебристый свинцовый блескъ.
Е. П. Ковалевскій [3] вотъ что между прочимъ писалъ объ этомъ въ 1829 г. въ Горномъ Журналѣ (I кн.):
«Съ давняго времени жители селенія Нагольнаго занимаются собираніемъ галекъ свинцоваго блеска, выносимыхъ изъ окрестныхъ горъ водою. Во время таянія снѣговъ и послѣ сильныхъ дождей, они наиболѣе запасаются рудою, которую, по легкоплавкости ея и по богатому содержанію въ ней металла, удобно плавить въ желѣзныхъ ковшахъ, прибавляя вмѣсто флюса нѣсколько сала. Изъ получаемаго такимъ образомъ свинца они отливаютъ обыкновенно ружейныя пули. Первое извѣстіе о нахожденіи свинцовыхъ рудъ въ здѣшнемъ краю получило Правительство въ 1801 г., чрезъ горнаго офицера Ильина, который теперь (въ 1829 г.) есть начальникъ Луганскаго завода....»
1. Voyag. d’Ibn-Batoutah, II, 414—415. — Выше Ибнъ-Батута разсказываетъ про свое пребыванье въ Астрахани: «Chaque khâloun me donna des lingots d’argent, que ces peuples appellent saoum, pluriel de saoumah».
2. См. ниже въ Приложеніяхъ.
3. Нынѣ Министръ Народнаго Просвѣщенія.
![]()
82
«Въ 1820 г. оберъ-гиттенфервальтеръ Козинъ нашелъ по р. Нагольной признаки свинцовыхъ рудъ, а въ одномъ изъ нихъ при Козьей Банкѣ открылъ и жильное оныхъ положеніе. Наконецъ въ 1827 г. отправлена была въ сіи мѣста, для развѣдки свинцовыхъ рудъ, особенная горная партія (подъ начальствомъ Першина 2-го и Бема). По изслѣдованіи ея оказалось, что въ Нагольныхъ горахъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ формаціи переходнаго филлада встрѣчается кварцъ съ талькомъ, находится свинцовый блескъ отдѣльно или съ цинковою обманкой. Шурфами встрѣчено по рѣкѣ Нагольной много прожилковъ свинцоваго блеска, которые на глубинѣ соединены вмѣстѣ, что даетъ право надѣяться на большей глубинѣ встрѣтить болѣе значительныя жилы».
Развѣдки Бергешворена Сырохвастова показали, что, начиная отъ Нагольной, по теченію рѣки сего имени, до самаго соединенія ея съ Міусомъ, вездѣ встрѣчаются признаки свинцовыхъ рудъ. Въ послѣдствіи найденъ былъ свинцовый блескъ и въ системѣ горъ Міусскаго отрога. Свинцовый блескъ по рѣкѣ Нагольной встрѣчается съ содержаніемъ серебра — серебристый; въ Нагольной свинцовой рудѣ— свинца — до 60%; а серебра до 2 1/2 фунтовъ въ 100 пудахъ, слѣдовательно въ пудѣ около 3 золотниковъ.
Французскій инженеръ Лепле въ Изслѣдованіяхъ своихъ каменно-угольнаго Донецкаго бассейна, произведенныхъ имъ по распоряженію А. Н. Демидова, вотъ какъ выражается о нахожденіи въ настоящее время свинцоваго блеска въ Донецкомъ кряжѣ:
«Наблюденія (изложенныя выше) не даютъ никакого повода думать, чтобы формаціи Донецкаго кряжа были богаты металлами или рудами. Кромѣ желѣзной руды, здѣсь открыты только признаки свинцоваго блеска. Этотъ минералъ находится въ небольшихъ кварцевыхъ прожилкахъ, въ псаммитѣ, близъ Нагольной, на рѣчкѣ, составляющей притокъ Міуса и также называющейся Нагольною. Систематическія изслѣдованія, произведенныя горными офицерами, убѣдили, что означенная руда встрѣчается здѣсь въ столь маломъ количествѣ и такъ бѣдна серебромъ, что не можетъ быть предметомъ выгодной разработки, и потому всѣ работы по этому предмету прекращены». (Перев. Г. Щуровскаго. Стр. 213–214).
![]()
83
Изъ словъ Лепле было бы въ высшей степени ошибочно заключать о томъ, что и въ древнѣйшія времена [1], напр. при Массуди, Марко-Поло, Ибнъ-Батутѣ, свинцовая руда была такъ же бѣдна серебромъ, какъ и въ настоящее время. Извѣстно, что всякое самодѣльное, безъискусственное производство всегда больше теряетъ и меньше умѣетъ пользоваться матеріаломъ, чѣмъ производство научное. Еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія жители Нагольной находили возможнымъ и выгоднымъ для себя заниматься добычею свинца, а въ XIV в. серебряные слитки, добываемые Русскими, были въ общемъ обращеніи у Татаръ, подъ именемъ саумъ. Ибнъ-Батута именно замѣчаетъ, во Французскомъ переводѣ: Ils (les Russes) possèdent des mines d’argent, et on apporte de leur pays des saoum, c’est à dire des lingots d’argent, avec lesquels on vend et l’on achète dans cette contrée. Le poids de chaque lingot est de cinq onces». A въ бытность его въ Астрахани, каждая жена хана дарила ему эти серебряные слитки — «chaque khâtoun me donna des lingots d’argent, que ces peuples appellent saoum, pluriel de saoumah».
Въ настоящее время было бы слишкомъ поспѣшно утверждать, что въ долгой періодъ времени XV—XVIII в. Русскихъ поселеній въ этихъ мѣстахъ не было, Русскіе не занимались добычею металла.
Не слѣдуетъ забывать, что въ XV—XVI в., когда козаки Донскіе и Азовскіе все больше пріобрѣтаютъ силы и значенія [2], Русскія тамошнія населенія были болѣе обезпечены, чѣмъ въ XIV—XIII в., во время Ибнъ Батуты и Марко-Поло.
1. Судя по сообщеннымъ мнѣ изустно свѣдѣніямъ, новѣйшія изслѣдованія произведенныя нашими инженерами, позволяютъ, кажется, думать, что металлоносныя жилы Донецкаго кряжа далеко благонадежнѣе, чѣмъ то прежде предполагали.
2. Нашъ посланникъ Петръ Тургеневъ, въ 1351 г., доносилъ Іоанну изъ Ногайскихъ Улусовъ: «прислалъ Турецкой царь къ Исмаилъ мирзѣ посла сее весны, съ тѣмъ: въ нашихъ де въ бусурманскихъ книгахъ пишетца, что тѣ лѣта пришли, что Русскаго царя Ивана рука надъ бусурманы высока; уже де и мнѣ отнево обида великая: поле де все, да и рѣки у меня поотымалъ, да и Донъ отнялъ, да и Азовъ городъ пустъ у меня доспѣлъ; поотымалъ всю волю въ Азовѣ. Казаки его съ Азова оброкъ емлютъ, и воды изъ Дону пити не дадутъ....» (И. Г. Р. VIII, Прям. 234).
![]()
84
Одно обстоятельство по видимому сильно говоритъ въ пользу того предположенія, что въ XVI в. въ Донецкомъ кряжѣ добычи серебра не происходило. Разумѣю любопытныя извѣстія о Россіи начала XVI в., оставленныя намъ почтеннымъ, достоинымъ глубокаго уваженья и благодарной нашей признательности, Московскимъ гонцомъ Дмитріемъ Герасимовымъ [1], извѣстія, записанныя любознательнымъ Павломъ Іовіемъ.
Въ описаніи Іовія мы читаемъ между прочимъ:
«Московитяне отпускаютъ въ Европу лучшій ленъ, коноплю для канатовъ, воловью кожу и множество воску. У нихъ нѣтъ ни золотыхъ, ни серебряныхъ рудниковъ, а также во всей странѣ не замѣчено драгоцѣнныхъ камней...»
(Nobile quoque linum et cannabum in restes, multaque item boum tergora, et massas cerae ingentes,
1. Дмитрій Герасимовъ былъ въ Римѣ въ 1525 г. Вотъ нѣсколько чертъ этого замѣчательнаго человѣка: «Полагали, говоритъ П. Іовій, что Дмитрій, какъ человѣкъ опытный въ дѣлахъ государственныхъ и особенно свѣдущій въ Священномъ Писаніи, имѣетъ какія либо тайныя и важныя порученія, которыя объявитъ папѣ на аудіенціи словесно. Онъ въ недавнемъ времени выздоровѣлъ отъ лихорадки, которою долго былъ одержимъ отъ перемѣны климата, и совершенно возстановилъ силы свои и прежній цвѣтъ лица, такъ, что, не смотря на шестидесятилѣтнюю старость, съ охотою ходилъ слушать торжественное служеніе папы, совершавшееся со всею пышностію, при гармоническихъ звукахъ музыки, въ день св. Космы и Даміана; былъ въ сенатѣ въ то самое время, когда папа и всѣ придворные чины принимали кардинала Кампеджіо, только что возвратившагося изъ посольства въ Венгрію; осматривалъ святые храмы и съ изумленіемъ любовался остатками древняго величія Рима и жалкими остовами прежнихъ зданій». (Библіот. иностр. лис. о Россіи, Семенова. 1836). Іовій говоритъ также про Герасимова, что онъ зналъ хорошо по-Латыни, чему научился въ Ливоніи, отличался свѣтлымъ умомъ и большими свѣдѣньями, много путешествовалъ: такъ онъ былъ въ посольствахъ Шведскомъ, Датскомъ, Прусскомъ, Вѣнскомъ. Поводы къ письменному изложенію расказовъ Герасимова раскрыты Іовіемъ въ его посвященіи архіепископу Іоанну Руфу. «Вы изъявили желаніе, — говоритъ Іовій, — имѣть на Латинскомъ языкѣ описаніе нравовъ Московитамъ, заимствованное мною изъ ежедневныхъ бесѣдъ съ Димитріемъ, прибывшимъ недавно къ папѣ Клименту VII-му въ качествѣ Московскаго посла». Такимъ образомъ Іовію принадлежатъ нѣкоторыя мнѣнія и форма; факты же и данныя, на сколько онъ ихъ не исказилъ вольно и невольно, принадлежать гонцу Дмитрію. А за факты сочиненіе Іовія и важно. Слѣдовательно честь перваго обстоятельнаго ознакомленія Европы съ Россіею принадлежитъ двумъ Славянамъ — Дмитрію Герасимову и Герберштейну. Фаберъ, какъ извѣстно, составилъ свое сочиненіе (de Moscovitarmn religione. 1525 г.) тоже по расказамъ Русскихъ, именно князя Ив. Ѳед. Ярославскаго и дьяка Сем. Бор. Трофимова, которыхъ онъ встрѣтилъ въ Тюбингенѣ, на возвратномъ ихъ пути изъ Испаніи.
![]()
85
Moschovitae in omnem Europae partem mittunt. Nulla auri argentive, vel ignobilioris metalli, ferro excepto, apud eus vena, secturave reperitur nullumque est tota regione, vel gemmarum vel pretiosi lapilli vestigium).
Но нельзя не замѣтить, что слова Іовія, не оставляющія ни малѣйшаго сомнѣнья въ томъ, что Герасимову ничего не было извѣстпо о добычѣ серебра въ Донецкомъ кряжѣ, слова эти еще не могутъ служить доказательствомъ, что, въ концѣ XV и въ началѣ XVI в. промыселъ этотъ, происходившій въ X, XIII и XIV в., совершенно прекратился. Въ началѣ нынѣшняго и слѣд. въ концѣ прошлаго столѣтій жители Нагольной находили выгоднымъ для себя занятіемъ плавить свинцовую руду. Нѣтъ сомнѣнья, что какъ ни просто было производство это, все таки оно требовало извѣстнаго навыка и сноровки; слѣдовательно надо думать, что эта промышленность въ тамошнихъ Русскихъ поселеніяхъ была какъ бы наслѣдственною, переходившею изъ рода въ родъ. Это послѣднее соображеніе въ связи съ извѣстьемъ Ибнъ-Батуты о серебряныхъ слиткахъ и съ настоящими свѣдѣніями о нахожденіи серебра въ Донецкомъ кряжѣ не позволяютъ намъ рѣзко утверждать о прекращеніи добычи серебра Русскими въ первой половицѣ XVI в.
Незнаніе же о ней Дмитрія Герасимова легко объяснено быть можетъ тѣмъ обстоятельствомъ, что жители, занимавшіеся этою добычею, сбывали серебро не въ Московское государство, а къ Татарамъ; что промышлявшіе этимъ Русскіе жили не въ Русской территоріи.
Какъ бы то ни было, но представленныя нами свѣдѣнія о серебряныхъ рудникахъ окончательно доказываютъ бытность и давность Русскихъ поселеній въ при-Донскомъ краѣ, служившихъ въ X—XII в. средними звеньями, связывавшими Русскія поселенія на берегу Азовскаго моря съ тогдашнею Русью.
Полагаю, что черезъ нихъ шелъ такъ называемый въ лѣтописяхъ Залозный путь, коимъ князья наши такъ же дорожили, какъ и путями Греческимъ и Солянымъ. Они же облегчали сношенія Русскихъ съ землями Кавказскими и Каспійскими.
Вь заключеніе обзора этихъ сношеній позволю себѣ указать еще на одно обстоятельство, весьма по-моему въ этомъ
![]()
86
отношеніи немаловажное, такъ какъ оно служитъ намекомъ на значеніе Русской стихіи въ княжествѣ Тмутароканскомъ и на ея вліянье на Кавказѣ.
Герберштейнъ въ своемъ перечнѣ народовъ, говорящихъ на Славянскомъ языкѣ, приводитъ между прочимъ и Черкасовъ, жившихъ у Чернаго моря: Circasi Quinquemontani ad Pontum — Черкасы Пятигорскіе. Онъ же въ своихъ драгоцѣнныхъ Запискахъ сохранилъ намъ любопытное извѣстье о вольныхъ Черкесахъ на восточномъ берегу Чернаго моря, которые, по его словамъ, не признавали ни Турецкой, ни Татарской властей, плавали по Черному морю и грабили Турецкія суда. Они исповѣдывали Греческую вѣру ; богослужебнымъ ихъ языкомъ былъ Славянскій языкъ; но вообще, по с зовамъ Герберштейна, они были дурные христіане.
Извѣстный путешественникъ Петръ де ла Валле такъ писалъ о Черкесахъ въ первой четверти XVII в. :
«Кавказъ населенъ нынѣ разными народами; особенно же мусульманами Лезгинами, которые не признаютъ никакого государя. Раздѣленные между собой, они состоятъ подъ властью множества князьковъ, называемыхъ у нихъ мирзами, изъ которыхъ нѣкоторые не имѣютъ и двадцати человѣкъ подъ своимъ началомъ. Вообще это люди грубые, живущіе по деревнямъ. Они дики, свирѣпы и страшны для своихъ сосѣдей, какъ люди, живущіе однимъ грабежомъ. За Лезгинами лежитъ земля Азіатскихъ Сарматовъ, т. е. Черкесовъ, которые исповѣдуютъ христіанскую Греческую вѣру, но безъ книгъ, безъ священниковъ и, полагаю, безъ церквей, такъ что они христіане только по имени; подвластные различнымъ мирзамъ, они живутъ грабежемъ, ведя постоянныя войны съ Татарами съ одной и съ Лезгинами съ другой стороны. Отсюда такое великое количество рабовъ и рабынь, Черкесскаго, Русскаго, Татарскаго и Лезгинскаго происхожденья, которыхъ продаютъ на всемъ востокѣ; надо признаться, что торговля людьми, сотворенными по образу и по подобію Божьему, дѣло постыдное.
Черкесы живутъ по морю Каспійскому вплоть до самыхъ Русскихъ, которыхъ мы зовемъ Московитами, или до устьевъ Волги, гдѣ стоитъ городъ Астрахань....
![]()
87
Съ сѣверной стороны Каспійскаго моря Русскіе граничатъ съ Татарами и сy Татарскимъ же племенемъ Узбековъ». (Франц. перев. II, 22л и сл.).
Изъ отечественныхъ лѣтописей намъ извѣстно, что въ 1552 г. пріѣзжали къ царю Іоанну Васильевичу Черкасскіе князья Маушукъ, да князь Иванъ Ензбозлуковъ, да Танашукъ, «чтобы государь вступился въ нихъ, а ихъ съ землями взялъ къ себѣ въ холопи, и отъ Крымскаго оборонилъ»; въ 1555 году пріѣзжали Черкасскіе государи, а людей съ ними 150, приняли у насъ крещеніе и «били челомъ, чтобы государь далъ имъ помочь на Typского городы и Азовъ и на Крымского, а они холопи его»; государевъ посолъ Андрей Щепетовъ сказалъ про нихъ, что «они дали правду всею землею». Въ 1557 г. пріѣхали служить государю два Черкасскихъ князя, и пр. Въ томъ же году «прислалъ И. Черемисиновъ Васку Вражскаго съ Черкасскимъ мурзою съ Калычемь, отъ Кабартынскихь князей и Черкасскихъ, чтобы государь велѣлъ имъ собѣ служити, а на Шавкаль бы помочь учинить Астраханскимъ воеводамъ». Въ 1558 г. пріѣзжали «изъ Черкасъ изъ Кабарды большого князя дѣти Темрюковы». (И. Г. P. VIII, прим. 416). Въ 1556 г. «пріѣхалъ съ Дону К. Дм. Ив. Вишневецкой, а съ нимъ Чюракъ мурза Черкаской, и билъ челомъ отъ всѣхъ Черкасъ, чтобъ ихъ государь пожаловалъ, далъ бы имъ воеводу своего, К. Д. Вишневецкаго, а съ нимъ князей Черкасскихъ, да К. Василья Сибока съ братьею, и поповъ хрестьянскихъ, а велѣлъ ихъ крестити по ихъ обѣщанью и по ихъ челобитью.... По челобитью Кабардинскихъ князей и по неправдамъ Шавкаловыхъ отпустилъ (царь) воеводу Ив. Семен. Черемисииова съ товарищи на Шавкалъ и на Тюмень, и съ Иваномъ отпустилъ попы хрестьянскіе крестити Кабардинскихъ Черкасъ» (ib пр. 566).
Тутъ же напомнилъ Карамзинъ и слова Поссевина, бывшаго въ Москвѣ въ 1582 г. и называющаго Черкесовъ христіанами Греческой вѣры (Moscovia, стр. 9).
Просьбы Черкесовъ у царя Московскаго о посылкѣ къ нимъ священниковъ и слова Герберштейновы объ употребленіи въ ихъ богослуженіи языка Славянскаго, указывая на давнее между ними распространеніе христіанства и именно Русскими проповѣдниками, невольно заставляютъ вспомнить и
![]()
88
побѣды Мстислава Тмутароканскаго надъ Ясами и Касогами и Ростислава Владиміровича, взимавшаго дань съ Касоговъ «и въ инѣхъ странахъ», котораго не даромъ же убоялись Греки, и Богородицкій монастырь въ Тмутарокани, устроенный великимъ Никономъ, монастырь славный: видно онъ не разъ высылалъ добрыхъ проповѣдниковъ слова Божьяго и къ Ясамъ и къ Касогамъ. Для насъ на всегда исчезли имена быть можетъ не немногихъ такихъ честныхъ тружениковъ, добрыхъ страдальцевъ за Русскую землю.
Послѣ 1094 г. лѣтописи наши ни разу не упоминаютъ о Тмутарокани. Въ XII в. она легко могла утратить прежнее свое значенье, но едва ли могли исчезнуть въ ней безъ слѣда тамошнія Русскія поселенія.
Въ XV в. уже появляются козаки Азовскіе, а Герберштейнъ говоритъ, что Черкесы въ богослуженіи употребляютъ языкъ Славянскій, который уже одинъ могъ служить достаточною скрѣпою взаимныхъ ихъ сношеній съ Русскими, при чемъ также не слѣдуетъ забывать и давнишнихъ поселеній Русскихъ въ землѣ при-Донской, какъ указываютъ намъ извѣстія Массуди, Марко-Поло, Ибнъ-Батуты.
На жалобы султана Амурата, зачѣмъ мы построили крѣпости на берегахъ Дона и Терека и тѣмъ преграждаемъ Туркамъ путь къ Дербенту, царь Ѳедоръ Ивановичь въ 1594 г. черезъ отправленнаго въ Цареградъ дворянина Ислѣньева отвѣчалъ такъ: «Мы построили крѣпости въ землѣ Шавкалской и Кабардинской не въ досаду тебѣ, а для безопасности жителей. Мы у васъ ничего не отняли: изначала Кабардинскіе и Горскіе Черкасскіе князи и Шевкалъской были холопи наши Резанскихъ предѣловъ, и отъ насъ збѣжали съ Резани и вселились въ горы, и били челомъ отцу нашему» (И. Г. P. X, стр. 126 и сл. прим. 298).
По моему крайнему разумѣнью слова эти заслуживаютъ самаго строгаго вниманія; смѣю думать, вопреки Карамзину [1], что это едва ли басня.
1. «Сія новая исторія Кабарды и Дагестана не увѣрила султана, чтобы ихъ князья были Рязанскими выходцами: онъ видѣлъ стремленія Московской политики къ присвоеніямъ на востокѣ».
![]()
89
Предоставляя позднѣйшимъ изслѣдованіямъ оправдать или опровергнуть это мнѣніе, полагаю, что послѣ всѣхъ предъидушихъ соображеній нашихъ, есть полное и твердое основаніе утверждать, что сношенія Русскихъ съ Дагестаномъ были давнишнія, безпрерывныя и прочныя, еще въ періодъ X—XVI в., такъ что открывали Русскимъ доступъ въ М. Азію, тѣмъ путемъ, которымъ издавна проникали въ нее, какъ цѣлыя полчища, напр. Гунновъ [1], Монголовъ [2], такъ и отдѣльныя лица [3], черезъ Арменію въ Каппадокію и далѣе.
Въ Русской статьѣ XV в. о земляхъ за Араратомъ между прочимъ сказано: «Пойдя на западъ отъ Арарата по Турецкимъ землямъ можно прійти въ Трапезондъ, Цареградъ, Шамъ и Іерусалимъ».
Позволю себѣ повторить слова почтеннаго ученаго нашего И. И. Срезневскаго объ этомъ памятникѣ старинной Русской словесности: «какъ бы ни были рѣзки невѣроятности этого географическаго очерка, онъ очень любопытенъ по нѣкоторымъ даннымъ, изобличающимъ знаніе странъ и путей, не книжное, а наглядное, передающимъ сказаніе самовидца».
Если наконецъ припомнимъ сношенія Русскихъ съ Армянами, жившими напр. въ XIV в. не только въ Нижнемъ, но и Москвѣ, съ Никейскимъ государствомъ, весьма значительныя Славянскія поселенія въ М. Азіи, то намъ не трудно будетъ понять,
1. Извѣстенъ походъ Гунновъ въ 430—440 г. Срв. Claudian. (in Rufin. l. II, 28 etc.).
— alii per Caspia claustra
Armeniasque nives inopino tramite ducti
Invadunt Orientis opes: jam pascua fumant
Cappadocum, volucrumque parens Argaeus equorum.
Jam rubet altus Halys, nec se defendit iniquo
Monte Cilix; Syriae tractus vastantur amoeni;
Assuetumque choris et Iaeta plebe canorum
Proterit imbellem sonipes hostilis Orontem.
2. Temyr Chan ineunte vere ex Persia versus Tanaim movet, collectoque Tauroscytharum, Zycchorum et Abasgorum ingenti numéro, eversisque oppidis, quae Bosporo (Cimmerio) adjacent, in Armeniam dein et Cappadociam accessit. (Ducas Str. II, 2. § 106. cf. Tatarica § 187}.
3. См. пут. Рубруквиса.
![]()
90
что Русскимъ оыло возможно не только посѣщать М. Азію, но и оставаться въ ней. Сомнѣнія же въ достаточной отвагѣ и предпріимчивости нашихъ предковъ, надѣюсь, совершенно напрасны.
Нельзя также не припомнить здѣсь, что предки наши помѣщали рай на югъ отъ Каспійскаго Моря и Кавказскихъ горъ, и что архіепископъ Новгородскій Василій писалъ владыкѣ Тверскому (въ XV в.) — «А то мѣсто святаго рая находилъ Моиславъ Новогородець и сынъ его Яковъ, и всѣхъ было ихъ три ıомы, и оди́на отъ нихъ погибла много блудивъ, з двѣ ихъ потомъ долго носило море вѣтромъ, и принесло ихъ къ высокимъ горамь. И видѣша на горѣ той написанъ Деисусъ лазоремъ чюднымъ и вельми издивленъ паче мѣры....» «А тѣхъ, брате, мужей и нынѣча дѣти и внучата добры здоровы» [1].
Примѣчаніе. Англійскимъ посланникомъ въ Цареградѣ вь 1620–1626 г. былъ Ѳома Рой. Въ его письмахъ въ Англію сохранились любопытныя извѣстія о козакахъ Запорожскихъ, почти совершенно овладѣвшихъ тогда Чернымъ моремъ. Предлагаемыя здѣсь свѣдѣнія переведены съ Польскаго перевода Нѣмцевича — Wyjątki z negociacii Tornasza Roe posła Angielskiego w Stambule. (Zbior pamiętn. о dawnei Polszcze. V. str. 397 и проч.).
Отъ 1 іюля 1622 г. «Татары пошли опустошать Польшу, а козаки пустились въ Черное Море, гдѣ захватили много Турецкихъ кораблей; Каффа находилась въ великой опасности, даже въ самой Портѣ была тревога (have givenus, at this port, an alarum within feu daies). (Str. 427—8).
Отъ 1 іюля 1622. «Козаки высыпали въ Черное Море и понадѣлали много вреда».
Отъ 30 мая 1623 г. «Козаки для нихъ (Турокъ) опаснѣе многихъ самыхъ сильнѣйшихъ непріятелей, такъ какъ они мѣшаютъ доставкѣ жизненныхъ припасовъ въ Цареградъ; галеры Турецкія должны раздѣляться, чтобы ловить Козаковъ, столь ловкихъ въ бѣгствѣ, въ преслѣдованіи которыхъ нѣтъ ни чести, ни прибыли.
1. Р. Л. VI, 88 и сл.
![]()
91
Поляки могутъ надѣяться на миръ, буде сами не подадутъ повода къ войнѣ». (с. 435).
Отъ 12 марта 1624 г. «Порта приготовляется къ войнѣ, снаряжаетъ знатный флотъ на Черномъ Морѣ, гдѣ уже видѣли Козаковъ; говорятъ, что у нихъ 300 чаекъ или лодокъ (bàtow : жители Босфора бѣгутъ въ столицу». (с. 439).
Отъ 20 іюля 1624 г.
«9 числа сего мѣсяца, козаки на 70 или 80 ладьяхъ (чайкахъ), въ каждой по 50 человѣкъ, гребцовъ и воиновъ, пользуясь тѣмъ временемъ, когда капитанъ-паша отправился въ Крымъ, на разсвѣтѣ вошли въ Босфоръ, гдѣ разсѣявшись, грабили и жгли на разстояніи 4 миль (Англійск.) отъ города, всѣ сосѣднія деревни и дома. Бюкдере и Іеникой на Греческомъ, и Стеня на Азіатскомъ берегахъ, были главнѣйшія мѣстности, гдѣ они овладѣли великою и богатою добычею и остановились только въ 9 часовъ передъ полуднемъ. Вся столица и предмѣстья были въ такой тревогѣ, что султанъ даже отправился на морской берегъ, а каймаканъ къ Порту. Галиль Паша въ эту неурядицу самъ провозгласилъ себя вождемъ; не имѣя ни одной галеры готовой и вооруженной, собралъ всѣ наличныя суда, лодки и барки, вооружилъ ихъ и помѣстилъ въ нихъ отъ 400 до 500 человѣкъ, которые могли быть воинами или гребцами. Конницу и пѣхоту въ числѣ 10,000 человѣкъ разослалъ для защиты береговъ отъ дальнѣйшихъ грабежей. Рѣдкость увидѣть подобную тревогу и сумятицу. Мы думали, что эти бѣдные пираты тотчасъ удалятся, но они, замѣтивъ приближающіяся къ нимъ Турецкія лодки, сомкнулись по серединѣ канала близко замковъ, и выстроившись въ полукругъ, стояли въ ожиданіи битвы; вѣтеръ былъ противный и сами они напасть не могли. Галиль Паша далъ приказъ открыть огонь еще изъ далека; козаки не отвѣчали ни единымъ выстрѣломъ, только подплывали то къ одному, то къ другому берегу, не показывая ни малѣйшаго признака къ отступленію. Паша, видя ихъ ловкость и отвагу, боялся напасть на нихъ съ своими слабыми силами и разсудилъ за благо мѣшать ихъ дальнѣйшимъ дѣйствіямъ, такъ какъ боялись тогда, что они проникнутъ внутрь Стамбула, лишеннаго всякой защиты.
![]()
92
Такимъ образомъ цѣлый день до захода солнца они смѣло стояли и грозили великой, но тревожной, столицѣ свѣта и всему ея могуществу : наконецъ съ своею добычею, при развевавшихся знаменахъ, удалились козаки, правда безъ побѣды, но и безъ сопротивленія.
Это незначительное обстоятельство и это дерзкое предпріятіе открыли удивительную истину объ этомъ великомъ государствѣ, что оно, казавшееся столь грознымъ и могущественнымъ, на дѣлѣ слабо и беззащитно— Любопытно, какъ примутъ это извѣстіе Поляки, когда тѣмъ самымъ нарушены мирныя условія» (с. 440—2).
Отъ 24 іюля 1624 г.
«Козаки снова проникли въ Босфоръ, съ флотомъ своимъ въ удвоенномъ количествѣ, имѣя съ собою не менѣе 150 чаекъ; а въ тылу за собою ведя подкрѣпленія для помощи ли въ случаѣ нужды, или для другихъ какихъ цѣлей. Они оставались у береговъ 3 дня, сожгли Фаръ (the Pharus) и двѣ либо три деревни, грозили нападеніемъ на арсеналъ, что навело великій страхъ на всю столицу. Сухопутная стража повсюду была удвоена; наконецъ и двѣ галеры были вооружены бродягами и наемниками, взятыми съ улицъ и выслано около 20 лодокъ для стражи, гдѣ и доселѣ остаются при входѣ въ гавань; но козаки удалились съ великою добычею и тревога прошла» (с. 442).
«Немедленно послано за капитаномъ-пашею, для защиты столь дурно оберегаемой столицы.
Поймано нѣсколько заблудившихся этихъ разбойниковъ (т. е. Козаковъ). При допросахъ они показали; что Махметъ, князь Татарскій, помогаетъ имъ въ этихъ предпріятіяхъ, мстя Туркамъ за лишеніе его должности. Если справедливо, а оно вѣроятно, взаимное соглашеніе этихъ двухъ народовъ (błąkających się), то они скоро станутъ опасны и столицѣ и всему государству (т. е. Турецкому)».
Отъ 18 мая 1626 г.
«Ханъ Татарскій напалъ на Польшу, тогда какъ не задолго передъ тѣмъ былъ заключенъ мирный договоръ. Брать хана, Гирей (Gehan Gerej), не участвовавшій въ этомъ походѣ, послалъ гетману Конециольскому копію съ приказа султана объ этомъ походѣ».
![]()
93
«Диванъ отказывается отъ этого и всячески старается примириться съ Польшею: побѣда Поляковъ надъ Татарами внушила имъ смѣлость позволить козакамъ мстить за набѣгъ Татаръ. Они собрали уже до 700 чаекъ, готовыхъ напасть на здѣшнія окрестности. Вооруженіе доставлено имъ отъ короля Польскаго. Они грозятся вступить въ бой съ цѣлой армадой Турецкой; дали клятву, что возьмутъ адмиральскій корабль. Всѣ мѣстечки и деревни на Босфорѣ до самаго Цареграда находятся въ величайшей тревогѣ, тѣмъ болѣе, что есть предсказаніе, что Турецкое государство будетъ уничтожено народомъ сѣвернымъ.
«20 галеръ стоитъ въ каналѣ. Капитанъ-паша выступаетъ съ 40 галерами; уже онъ по истинѣ разбитъ страхомъ своимъ собственнымъ и своего войска» (ст. 452).
Извѣстный путешественникъ Петръ де ла Валле, прожившій нѣсколько лѣтъ (въ нач. XVII в.) при дворѣ Персидскомъ, оставилъ намъ также нѣсколько любопытныхъ извѣстій о козакахъ.
Прилагаемые здѣсь отрывки переведены нами съ Французс. изданія его Путешествія: «Les Fameux Voyages de Pietro della Valle Gentilhomme Romain, surnommé l’illustre Voyageur.... à Paris, MDCLXII. Первое Итальянское изданіе вышло въ 1661 г.
«Въ 1621 г., говоритъ онъ, козаки Польскіе вошли въ устье Чернаго моря и проникли до самой Тюремной башни (Tour des prisons) и предмѣстій Константинополя, гдѣ они захватили огромное количество рабовъ, такъ что вельможи Турецкіе не смѣли съ этой стороны ходить для прогулокъ въ свои сады, при видѣ Козаковъ, бѣгавшихъ повсюду съ саблями въ рукахъ и нигдѣ не встрѣчавшихъ сопротивленія» (III, 188).
Де ла Валле, всегда, по его словамъ, отличался святою ненавистью къ Туркамъ и для того собственно пріѣхалъ въ Персію, чтобы участвовать въ войскахъ ея противъ Турокъ.
«Я всегда, продолжаетъ онъ, передумывалъ множество различныхъ способовъ для истребленія этого дерзкаго народа и тѣмъ съ своей стороны сдѣлать что нибудь въ пользу христіанства. Я убѣдился наконецъ, что самое лучшее для того средство — взаимный союзъ шаха Персидскаго съ нѣкоторымъ народомъ христіанскимъ, называемымъ козаками, которые живутъ у Чернаго моря, при устьяхъ рѣки Днѣпра.
![]()
94
«Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что козакъ не есть имя народа, но толпы людей разныхъ языковъ и разныхъ сектъ, хотя они всѣ христіане, безъ женъ, безъ дѣтей, безъ домовъ; они живутъ въ независимости и не признаютъ никакого государя. Они укрываются вдали отъ городовъ въ самыхъ ужасныхъ мѣстахъ, за лѣсами или горами или рѣками, совершенно неприступныхъ. Подобно нашимъ бандитамъ, они повинуются кому нибудь изъ своихъ же, признавая ихъ своими начальниками, и живутъ однимъ грабежемъ и добычею. Но они рѣзко отличаются тѣмъ отъ бандитовъ нашихъ, что не грабятъ того государства, въ которомъ живутъ, когда сношенія ихъ съ государемъ не имѣютъ никакихъ недоразумѣній ; напротивъ того взятые въ армію, они ведутъ себя рыцарски-честно (en gens d’honneur) и служатъ со всею возможною вѣрностью. Они постоянно на военной ногѣ во вредъ и на страхъ своимъ сосѣдямъ врагамъ, Туркамъ и мусульманамъ. Вотъ потому-то государи тѣхъ странъ, гдѣ козаки живутъ, не только ихъ не преслѣдуетъ, но даже снабжаютъ ихъ припасами и деньгами подобно тому, какъ Турокъ принимаетъ подъ свое покровительство корсаровъ Варварійскихъ на истребленіе христіанъ.
«Есть различныя войска козацкія, смотря по мѣстности, напр. въ Россіи или въ Московіи, что одно и тоже, или у Каспійскаго моря, или въ верхъ по Волгѣ, и далѣе въ глубь страны до рѣки Дона и Азовскаго моря. Есть также козаки и у Чернаго моря и во многихъ другихъ мѣстахъ королевства Польскаго. Я никогда и въ мысляхъ не имѣлъ союзъ Козаковъ Русскихъ съ Персіянами, потому что они всѣ еретики или схизматики и живутъ въ землѣ Московита, который, будучи зараженъ заблужденіями Грековъ, обыкновенно объявляетъ себя нашимъ врагомъ и питаетъ къ Латинамъ сильное отвращеніе. Притомъ козаки Русскіе довольно далеки отъ Турокъ и не могутъ ихъ сильно безпокоить, съ Персіянами же не всѣ они въ пріязненныхъ отношеніяхъ: такъ они нерѣдко гоняются по Каспійскому морю и по Волгѣ за судами Персидскими и отымаютъ у нихъ товары: хотя Московитъ и заключаетъ дружественные договоры съ Персіянами,
![]()
95
и они часто другъ къ другу отправляютъ посольства, однако эта дружба болѣе наружная и притворная, чѣмъ дѣйствительная и искренняя. Они ненавидятъ другъ друга по многимъ причинамъ, постоянно усиливающимся отъ ихъ сосѣдства и торговли. Потому-то постоянно моею мыслью былъ союзъ Козаковъ Польскихъ съ Персіянами, именно тѣхъ, что живутъ при устьяхъ Днѣпра, въ палаткахъ и хижинахъ, недоступныхъ никому по причинѣ водъ и болотъ, ихъ окружающихъ, такъ что ихъ невозможно безпокоить, или тревожить, ни подойти къ ихъ лагерю ни съ суши, ни съ моря.
Въ этомъ мѣстѣ всегда находится болѣе 2-хъ тысячь отличныхъ солдатъ, которые зимою охраняютъ суда и оружье, дѣлаютъ безпрестанные набѣги на Европейскихъ Татаръ, своихъ сосѣдей; лѣтомъ же, какъ только пронесется про нихъ вѣсть, что они готовятъ какое нибудь предпріятіе на морѣ, то множество другихъ Козаковъ, привлекаемое жаждою добычи, стекаются къ нимъ изъ окрестныхъ мѣстъ, со всего Польскаго королевства. Выбравъ изъ своей среды самыхъ храбрыхъ въ начальники, они пускаются въ море съ многочисленными силами на трехъ стахъ и пяти стахъ лодкахъ или маленькихъ галеотахъ и даже болѣе; на нихъ помѣщаются четыре, шесть, семь и осемь тысячь отборныхъ солдатъ, которые въ то же время отличные моряки и матросы ; и въ этой огромной массѣ людей нѣть человѣка, который бы не былъ способенъ къ исправленію нѣсколькихъ должностей.
Такимъ образомъ они отправляются на Турокъ, забираютъ все, что ни повстрѣчаютъ на морѣ, и стали уже такими отличными пиратами, что суда Турецкія (les caramuseaux) и всѣ ихъ торговыя суда нынѣшнимъ лѣтомъ уже не смѣли пускаться въ море. Они не довольствуются одиако морскимъ грабежомъ, но разоряютъ и твердую землю такъ, что нѣтъ теперь Турецкой мѣстности на Черномъ морѣ, которой бы они не овладѣвали или не грабили или даже не разорили. Между прочимъ Синопъ, городъ весьма населенный и прославленный Митридатомъ, испыталъ ихъ гнѣвъ. Каффа, хотя и столичный городъ Татарскихъ хановъ въ Европѣ, не могъ избѣжать ихъ насилья, и самый Трапезонтъ нѣсколько разъ былъ доводимъ ими до послѣдней крайности,
![]()
96
и если не палъ передъ ними въ послѣдніе годы, то нѣкогда вѣроятно будетъ принужденъ имъ сдаться и уступить превосходной силѣ.
Турки ежегодно высылаютъ противъ нихъ изъ Константинополя военныя силы, которыя въ началѣ состояли исключительно изъ галеотовъ, потому что дѣйствительно только этого рода суда пригодны на этомъ морѣ, гдѣ немного гаваней, и то узкія, и обыкновенно при устьяхъ рѣкъ, и гдѣ много мѣстъ мелководныхъ, куда обыкновенно укрываются козаки, и куда большимъ судамъ проходъ не доступенъ. Наконецъ Турки, увидавъ, что фрегаты ихъ не имѣли никакого дѣйствія и что они были безполезны и только что умпожали собою добычу козацкую, увеличили свои силы не только огромнымъ количествомъ лодокъ и галеотовъ, но присоединили къ нимъ нѣсколько эскадръ изъ большихъ галеръ. Такъ между прочимъ они отправили такія силы, въ то время, когда я былъ въ Сиріи, въ 1616 г., подъ начальствомъ генерала Махметъ Паши, сына Чикалы и двоюроднаго брата султана. Кромѣ огромнаго количества небольшихъ судовъ, онъ взялъ съ собою десять большихъ и самыхъ лучшихъ галеръ, бывшихъ тогда въ Константинополѣ. Со всѣмъ тѣмъ его участь не была счастливѣе его предшественниковъ; напротивъ, онъ испыталъ величайшія несчастія, потому что козаки разбили его флотъ, овладѣли между прочимъ двумя его большими галерами и обратили его въ бѣгство. Послѣ такихъ побѣдъ и прекрасныхъ успѣховъ, которые не могутъ не внушать храбрости и гордости побѣдителямъ, я вамъ предоставляю подумать, имѣютъ ли козаки право надѣяться нѣкогда на что нибудь болѣе возвышенное (droit de prétendre un jour à quelque chose de plus relevé). Я вамъ скажу только, что я слышалъ отъ нихъ, что они надѣются со временемъ овладѣть Константинополемъ, и увѣрены, что освобожденіе этой страны предназначено ихъ храбрости, и пророчества, которыя они о томъ имѣютъ, ясно имъ то предсказываютъ [1].
1. Въ извѣстныхъ мнѣ Малороссійскихъ думахъ и пѣсняхъ я никогда не встрѣчалъ выраженія этой надежды. Изъ Великороссійскихъ же мнѣ извѣстна одна, которая выражаетъ эту надежду весьма ясно и опредѣлительно. Она записана г. Гуляевымъ.
Какъ издалеча, изъ чиста поля,
изъ раздольина, изъ широкова,
выѣзжаетъ тутъ старый казакъ;
старъ старой казакъ, Илья Муромецъ,
на своемъ онъ на добромъ конѣ.
На лѣвой бедрѣ сабля острая,
во правой рукѣ тупо копье.
Онъ тупымъ копьемъ подпирается,
своей храбростью похваляется;
что, велитъ ли Богъ въ Цареградѣ быть,
я старыхъ Турковъ всѣхъ повырублю,
молодыхъ Турчатъ во полонъ возьму. —
— Вотъ и съѣхался Илья съ Туркомъ богатыремъ. —
Онъ поддѣлъ Турка на тупо копье,
онъ понесъ Турка во чисто поле,
во чисто поле ко синю морю;
онъ бросалъ Турка во сине море.
Какъ сине море всколебалося,
на пески вода разливалася.
![]()
97
Какъ бы то тамъ ни было, но въ настоящее время они весьма могущественны на Черномъ морѣ и нѣтъ сомнѣнія, что если они останутся на своемъ, то никто и никогда не осмѣлится его оспаривать у нихъ. Это могущество ихъ идетъ не съ нынѣшняго дня и не недавно стали они страшны на этомъ морѣ, такъ какъ султанъ Мурадъ вступалъ съ ними въ договоръ и нѣкоторыя мирныя положенія (accomodemens) касательно этихъ дѣлъ, подписанныя его собственною рукою, сохраняются теперь у меня. Хотя прошло уже болѣе тридцати лѣтъ съ тѣхъ поръ, но Турки не могутъ ихъ не только истребить, но и одержать надъ ними какую-либо поверхность: напротивъ того съ каждымъ днемъ они становятся все могущественнѣе: есть по этому основаніе надѣяться, что отъ нынѣ значеніе ихъ станетъ все болѣе и болѣе возрастать и что они станутъ подъ конецъ непобѣдимыми.
Послѣ серьезныхъ размышленій о нынѣшнемъ состояніи ихъ дѣлъ, объ ихъ политикѣ и нравахъ, которые я началъ уже пристально наблюдать еще въ Италіи (dans la Chrétienté), и потомъ ближе въ Константинополѣ, послѣ этихъ размышленій, я не сомнѣваюсь, что они образуютъ нѣкогда весьма могущественную республику,
![]()
98
такъ какъ по моему мнѣнію, знаменитые Спартанцы, точно также какъ Сицилійцы, Карѳагеняне и даже Римляне, а въ наше время Голландцы, не имѣли такихъ прекрасныхъ и столь счастливыхъ начатковъ Въ томъ нѣтъ еще большой важности, что они лишены постоянныхъ жилищъ, не имѣютъ женъ и слѣдовательно потомства и законныхъ наслѣдниковъ, ибо кромѣ того что, на нашихъ глазахъ число ихъ значительно умножилось, они сами вѣроятно нечувствительно и мало по малу убѣдятся въ необходимости жить вмѣстѣ съ женами, такъ какъ многіе изъ нихъ и безъ того женаты, а другіе въ разбояхъ своихъ берутъ себѣ женъ, обращаясь съ ними, какъ съ рабынями, и продавая ихъ, когда имъ то заблагоразсудится. Что касается до тѣхъ, что живутъ въ краяхъ болѣе отдаленныхъ, то безъ сомнѣнія, они живутъ съ своими женами и дѣйствительно у нихъ уже видать начатки прочной осѣдлости.
Король Польскій, государь той страны, въ которой они утвердились, хотя обыкновенно живетъ въ мирѣ съ Турками, однако беретъ ихъ подъ свое покровительство, помогаетъ имъ деньгами и всѣмъ, чѣмъ можетъ. Часто онъ устраиваетъ замиреніе ихъ съ Турками, а когда они произведутъ какое ни будь опустошеніе въ ихъ земляхъ, то онъ оправдывается, утверждая, что всѣ они люди воровскіе, а что онъ не государь ихъ, точь въ точь, какъ поступалъ эрцгерцогъ Австрійскій съ Венеціянами, касательно Ускоковъ.
Нынѣ я хорошо ознакомился со всѣмъ этимъ порядкомъ дѣлъ и знаю, что владѣнія шаха Персидскаго простираются почти вплоть по Черное море, между которымъ и предѣлами его имперіи не находится ничего, кромѣ королевства Колхиды (Golchos), или одной части, называемой иначе Дадіанъ, а по Турецки Мингрелія, или другой провинціи, принадлежащей Грузинамъ и лежащей къ морю ближе всѣхъ другихъ, признающихъ разныхъ государей, хотя ихъ можно пройти въ пять, шесть дней. Я убѣдился, что князья Грузинскіе, живущіе въ землѣ, отдѣляющей Персіянина отъ Чернаго моря, всѣ христіане и что потому самому дружба Козаковъ съ ними не можетъ не быть для нихъ невыгодною, такъ какъ съ помощію Козаковъ они легче могутъ противиться Туркамъ, своимъ сосѣдямъ,
![]()
99
которые, если и не тревожатъ ихъ, то потому только, что не могутъ, за малодоступностію страны; тѣмъ не менѣе однако они взимаютъ съ нихъ знатныя подати, уплатою которыхъ Грузины, такъ сказать, покупаютъ миръ и торговлю съ Трапезонтомъ и съ другими городами. Точно также увѣрился я, что по склонности или боязни владѣтели эти не откажутся соединиться съ Персіянами, которыхъ не трудно будетъ заставить силою или добровольно убѣдить даровать имъ и козакамъ свободу путей и торговли, доставить имъ безопасное убѣжище, откуда бы козаки легко могли тревожить сосѣднія Турецкія земли, чего понынѣ они не могли, такъ какъ пока они составляютъ еще горсть людей и живутъ на другомъ берегу моря. Вотъ по всѣмъ этимъ-то причинамъ я рѣшился всячески стараться объ этомъ союзѣ. Тѣмъ значительно увеличились бы силы Козаковъ и получили бы тогда возможность не только грабить и удаляться, какъ то было понынѣ, но съ помощью Персіянъ и обороняться противъ Турокъ, особенно въ этой странѣ Трапезонтской». (II, 263—269).
Де ла Валле уже самъ думалъ было ѣхать къ козакамъ, для заключенія этого союза, какъ услыхалъ, что одинъ изъ христіанскихъ государей, то ли владѣтель Мингреліи, то ли Гуріэль, что ближе къ Трапезонту, уже давно желалъ вступить въ союзъ съ козаками, съ тою же цѣлью, что представлена выше.
«Онъ посылалъ къ нимъ письма и подарки, а въ знакъ своей вѣрности, онъ одарилъ ихъ маленькими золотыми крестиками, ибо въ этихъ странахъ, когда хотятъ сказать про кого, что онъ христіанинъ и притомъ добрый христіанинъ, то говорятъ про него, что онъ любитъ крестъ, и почитаніе, ему оказываемое, служитъ лучшимъ тому доказательствомъ; отъ чего и происходитъ, что сами магометане и шахъ Персидскій считаютъ Англичанъ очень дурными христіанами и еретиками, потому что они ненавидятъ крестъ (détestent la croix). Предложеніе это козаками было принято весьма охотно и съ радостью. Они уже нѣсколько разъ приходили съ своими морскими силами въ его гавань, гдѣ онъ ихъ принималъ весьма ласково, хотя Турки на это косятся, что однако вовсе не мѣшаетъ козакамъ сопровождать и буксировать торговыя суда Гуріэльскія.
![]()
100
Писалъ ли онъ козакамъ о союзѣ съ Персіянами, или же они сами того пожелали, только нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, флотъ ихъ въ 2,000 человѣкъ присталъ къ устьямъ рѣки, и они задумали, оставивъ суда свои у союзника, отправиться сухимъ путемъ въ Персію и предложить свои услуги шаху Персидскому въ приготовляемой имъ войнѣ противъ Турокъ, въ надеждѣ вѣроятно на добычу и на то, что всѣ мѣста, которыя имъ придется брать, имъ отдадутъ на разграбленіе. Ихъ великія приготовленія уже привели въ паническій страхъ всю страну окрестную; но разсчитавъ, что, не зная предварительно воли шаха, не христіанина, которому слѣдовательно ввѣряться опасно, они выбрали изъ среды своей 40 человѣкъ, самыхъ рѣшительныхъ и отважнѣйшихъ и отправили ихъ къ шаху Персидскому для предварительнаго соглашенія. (II, 270—272).
Владѣтель Имеретіи, черезъ землю котораго проходили эти 40 Козаковъ, совѣтовалъ имъ не ходить всѣмъ, а отправить ко двору Персидскому кого нибудь одного. Они такъ и сдѣлали и послали одного козака — Степана, который, по словамъ Де ла Валле, былъ католикъ, родомъ Полякъ, говорившій по Московски. Въ католицизмѣ Степана козака нельзя не сомнѣваться, потому что Дела Валле воображалъ, что козаки Польскіе большею частью всѣ католики : «les Cosaques de Pologne. Chrétiens et presque tous Catholiques!» (II, 269).
Этотъ Степанъ козакъ находился въ Ферабадѣ нѣкоторое время въ весьма затруднительномъ положеніи: ни онъ Персіянъ, ни они его не понимали. Наконецъ, узнавъ о Де ла Валле, онъ объяснилъ ему все на словахъ. Не получая долго никакого отвѣта, безпокоясь о своей участи, козакъ Степанъ рѣшился жаловаться самому шаху и улучивъ однажды время, подалъ ему жалобу на улицѣ.
«Шахъ ее принялъ, говоритъ Де ла Валле, и не читавъ ея, остановилъ коня, призвалъ Эфендіаръ Вега и другихъ главнѣйшихъ лицъ изъ своей свиты и, по своему обычаю, надменно сказалъ имъ: «вы не цѣните этихъ людей, ихъ храбрости, не знаете, какъ надо съ ними обращаться. Вѣдь это изъ тѣхъ, что повелѣваютъ на Черномъ морѣ, что взяли столько городовъ, то и то надѣлали Туркамъ»,
![]()
101
при чемъ онъ перечислилъ различныя обстоятельства. «Они могутъ намъ быть весьма полезны и оказать большія услуги»; подъ конецъ онъ сказалъ, что хочетъ воспользоваться козаками. Потому опъ и приказалъ обращаться съ этимъ козакомъ вѣжливо и ласково, чтобы не было у него недостатка въ винѣ, ибо Персіянамъ извѣстно, что козаки выпить любятъ; шахъ велѣлъ также подарить отъ него козаку пятьдесятъ цехиновъ на его удовольствія, въ ожиданіи другого подарка, болѣе значительнаго, когда онъ отправится назадъ». (II, 275—276).
Вообще сочиненіе Де ла Валле, скажу въ заключеніе, заслуживаетъ вниманія Русскихъ по многимъ отношеніямъ.
См. также Pessina — Ucalegon Germaniae, Italiae et Poloniae Hungaria flamma belli Turcici ardens productus a M. Thoma Ioannes Pessina de Czechorod, decano Litomislensi et marchionatus Moraviae historiographo. Pragae. Typis Universit. ia Coll. Soc. Jesu ad S. Clemenlem. Аimo 1663.
Убѣждая Поляковъ подняться противъ Турокъ, авторъ говоритъ между прочимъ:
«Qua in re ulinain quoque Poloni hanc oblatam ultro a Deo immortali occasionem arriperent, et spe recuperandae Moldaviae, Valachiae et Bessarabiae, quas provincias in clientela regum ipsorum fuisse aliquando constat, nobiscum arma conjungerent, debellari possent penitus (palam in omnes afiirmant) expellique Turcae, et a tam diuturna orientalium in Europa partium possessione deturbari. Facilis enim ductu est terrestribus Polonorum copiis via in Thraciam, cum nulla obstacula, nullae arces, nulla montium juga sint obvia, ita ut trajecto in Valachiae finibus Istro, per apertos et planos Bulgariae campos ad usque imperii sedem Constautinopolim, irrumpere ac ferro et igne terrorem incutere possent. Quod facerent et Russi, quorum maritima arma singulis fere annis omnia Euxini maris infestant littora, intercipiunt navigia, urbes diripiuot, eo saepius deducta re, ut dum vicina Constantinopoleos oppida, eorum gemunt caedibus et collucent incendiis, ille tam formidandus toti orbi tyrannus, a consternata urbe hostiles ignes impune aspicere cogatur.
![]()
102
«Et quamvis ad reprimendas has excursiones novum quoddam fortalitium ad Tyram fluvium ante biennium extrui jusserit, jamque opus coeptum fuerit, destinatis ad hoc septem millibus partim operariorum, partim armatorum, qui operarios si quae ingrueret vis, tuerentur: perfici tamen non potuit, propter Kosacos, quorum valida manus collecta sub duce Syrko, novos istos Colonos ingenti ausu agressa fuit, fudit, fugavit, molemque ereclam disjecit, ac solo aequavit. Quod utinam et ad ostia Borysthenis Bogumque fecissent» (p. 172 и сл.).
Прилагаю здѣсь также Массудіевское описаніе Каспійскаго похода Руссовъ 914 г.; пользуюсь переводомъ Г. Григорьева. (См. его статью «О древнихъ походахъ Руссовъ на Востокъ» Ж. Μ. Н. Пр. ч. V, стр. 229—287).
«Руссы состоятъ изъ многихъ различныхъ народовъ и разныхъ вѣтвей; одинъ изъ нихъ называется аль-Людаиетъ. Они ходятъ по своимъ торговымъ дѣламъ въ Испанію, Римъ, Константинополь и къ Хозарамъ [1]. Послѣ 300 года Геджры пришло къ нимъ около 500 Русскихъ судовъ, изъ коихъ на каждомъ было по сту человѣкъ. Вошедь въ проливъ Nейтуса [2], который соединяется съ рѣкою Хозарскою [3], они встрѣтили тамъ сильный гарнизонъ царя Хозарскаго, поставленный для стражи противъ всякаго непріятеля, который бы могъ придти съ того моря или изъ земли, отдѣляемый рукавомъ моря Хозарскаго, соединяющимся съ моремъ Нейtусъ; ибо въ сію сторону приходятъ для зимовки кочующія орды Турокъ Гузовъ; и такъ какъ вода, текущая изъ рѣки Хозарской въ проливъ Нейтуса,
1. Это мѣсто переведено мною по Спрингеру, у котораго въ слѣдъ за нимъ слѣдуетъ описаніе похода, тогда какъ у Френа эти два мѣста отдѣлены, отъ чего не переведено оно и у г. Григорьева.
2. «Нейтусь, по друг. списк. Понтусъ, отъ Pontus Euxinus, есть названіе, даваемое восточными географами Черному, а иногда и Азовскому морю: впрочемъ послѣднее они называютъ также Майтусъ или Мантусъ, отъ Palus Maeotides»; «но, какъ оба моря соединяются проливомъ», говоритъ Массуди, «то ихъ не для чего и различать особенными именами». См. Voyage d’Abouel-Cassim. Paris. 1828. p. 7. — Зам. г. Григорьева. — У Спрингера: «they passed up the estuary (of the Don) which opens in to the Pontus, and is in communication with the river of the Khazar (Wolga)». (p. 416).
3. Рѣкою Хазарскою Массуди здѣсь называетъ Волгу, рѣкою Нейтуса Донъ, который почиталъ рукавомъ Волги. Зам. г. Григ.
![]()
103
иногда замерзаетъ, то Гузы переѣзжаютъ черезъ нее на лошадяхъ. Хотя это и большая рѣка, но она не ломается подъ ними, окрѣпнувъ какъ камень. Такъ переходятъ они въ землю Хозаровъ. Если гарнизонъ, поставленный здѣсь для стереженія ихъ, слабъ, то царь Хозарскій самъ иногда выходитъ противъ нихъ, и заграждая переправу черезъ рѣку по льду, не допускаетъ ихъ вторгаться въ свое государство. Лѣтомъ же Туркамъ не возможно переходить рѣку.
Приплывъ на судахъ своихъ къ Хозарскимъ карауламъ, разставленнымъ при устьѣ пролива, Руссы послали къ царю Хозарскому просить позволенія пройти черезъ его владѣнія, и рѣкою Волгою спуститься въ море Хозарское, называемое также, какъ мы выше упомянули, моремъ Джорджанскимъ, Табарестанскимъ и именами другихъ Персидскихъ областей, обѣщая ему за это половину добычи, которую возьмутъ отъ другихъ народовъ, обитающихъ у сего моря. Получивъ на то позволеніе, они вошли въ проливъ до устья рѣки и стали подыматься ею вверхъ до рѣки Хозарской, которою прибыли къ городу Итилю. Отъ него, по теченію этой рѣки, достигли до самаго устья, гдѣ она впадаетъ въ море Хозарское. Отъ устья своего до города Итиля рѣка очень велика и полноводна [1]. Отсюда Руссы разсыпались по морю въ разныя стороны, выходя на берегъ толпами въ Джилѣ [2], Дейлемѣ, Табарестанѣ, Абоскунѣ (прибрежной области Джорджана) и Нефтяной землѣ [3], до самой области Адербайджаиской — до моря только три дня пути. Руссы вездѣ проливали кровь, уводили въ плѣнъ женщинъ и дѣтей, расхищали богатства, производили набѣги и предавали все огню и опустошенію.
Всѣ народы, обитавшіе около сего моря, возопили о помощи; ибо съ незапамятныхъ временъ не видывали никакого врага, который бы нападалъ на нихъ съ моря, гдѣ доселѣ плавали только суда купцевъ и рыболововъ.
1. У Спрингера: «This is а very large and deep river».
2. Арабское названіе Гиланской области.
3. Нефтяною Землею называется владѣніе Бакинское, по причинѣ изобилія своего въ ключахъ горной нефти.
![]()
104
Руссы имѣли частыя битвы съ обитателями Джиля и Дейлема, съ прибрежными жителями Джорджана и съ войсками изъ Бердаи, Аррана, Бейлекана и Адербайджана, бывшими подъ предводительствомъ одного изъ военачальниковъ Ибич-Абу-Эс-Саджа, и доходили до Нефтянаго берега, находящагося въ области Ширванской и извѣстнаго подъ именемъ Баку. Удаляясь отъ береговъ послѣ набѣговъ своихъ, Руссы обыкновенно искали убѣжищу на островахъ, отстоявшихъ на нѣсколько миль отъ Нефтяной земли. Государемъ Ширванскимъ былъ тогда Алибенъ-Эль-Гайсемъ. Наконецъ жители тѣхъ странъ вооружились, и, сѣвъ на ладьи и купеческія суда, отправились къ симъ островамъ; но Руссы ударили на нихъ, и нѣсколько тысячъ мусульманъ пало въ битвѣ или потонуло. Много мѣсяцевъ жили Руссы въ семъ морѣ, поступая вышеописаннымъ образомъ, и ни одинъ изъ окрестныхъ народовъ не могъ ничего имъ сдѣлать. Опасаясь ихъ нападенія, все народонаселеніе тѣхъ странъ было на стражѣ ; ибо это море кругомъ заселено разными народами.
Награбивъ довольно добычи и плѣнницъ, Руссы отправились обратно къ рѣкѣ Хозарской, и отсюда послали къ царю Хозарскому условленную часть сокровищь и добычи. Этотъ государь не имѣетъ судовъ, и подданные его неискусны въ мореплаваніи; въ противномъ случаѣ они могли бы нанести мусульманамъ великій вредъ. Аларесія и другіе мусульмане, жившіе въ землѣ Хозарской, узнавъ о томъ, что сдѣлали Руссы, обратились къ государю Хозарскому. «Позволь намъ» — говорили они —«раздѣлаться съ этимъ народомъ: онъ вторгся въ землю братьевъ нашихъ, мусульманъ, проливалъ кровь, и поплѣнилъ ихъ женъ и дѣтей». Царь не въ силахъ былъ удержать ихъ; по крайней мѣрѣ онъ извѣстилъ Руссовъ о враждебныхъ намѣреніяхъ мусульманъ. Сіи послѣдніе, собравъ войско, потянулись внизъ по рѣкѣ, ища непріятеля. Завидѣвъ ихъ, Руссы сошли съ судовъ своихъ и стали въ боевой порядокъ противъ мусульманъ, къ которымъ присоединилось также множество христіанъ, жителей города Итиля. Число мусульманъ простиралось до 15,000 вооруженныхъ и на коняхъ. Бой длился три дня сряду; наконецъ Господь ниспослалъ мусульманамъ побѣду.
![]()
105
Одни изъ враговъ были побиты мечемъ, другіе потонули. Только около 3,000 изъ нихъ спаслось, переправившись на судахъ на противную сторону рѣки, смежную съ землею Буртасовъ; здѣсь, оставивъ свои суда, они сошли на сушу; но частію были перебиты Буртасами, частію Булгарами-мусульманами, въ странѣ коихъ искали убѣжища. Число убитыхъ мусульманами на берегахъ рѣки Хазарской, простиралось до 30,000. Съ сего времени Руссы не дѣлали болѣе вторжеиій».
Никоимъ образомъ не могу согласиться съ тѣми учеными, которые думаютъ, что Руссы, ходившіе грабить Бердау въ 944г., были Норманны. Для того надо допустить много самыхъ странныхъ предположеній, ни на чемъ не основанныхъ напр. Норманновъ на Руси было великое множество, Норманны знали Волгу лучше Славянъ и суда ихъ годились для плаванія но Волгѣ, Русь была завоевана Норманнами и т. д. Шафарикъ весьма основательно видитъ въ Руссахъ этихъ не Норманновъ, а Славянъ Русскихъ. (Древн. § 27. 9).
Абуль-Феда († 1332 г.) прямо говоритъ:
«Въ семъ (332 = 943) году одно изъ поколѣній Руссовъ, приплывъ на корабляхъ изъ страны своей по морю Каспійскому и рѣкѣ Куру, проникнуло до самаго города Бердаи; овладѣвъ имъ, Руссы предались убійству и грабежу и наконецъ прежнимъ путемъ возвратились во свояси».
Иначе надо допустить, что Норманны, на Руси были разныхъ поколѣній; слѣдов. было ихъ великое множество. Принимая же призваніе Рюрика, надо непременно признать извѣстный договоръ между призванными Варягами и призвавшими ихъ Славянами и Чудью. Конечно, прежде всего имъ было поставлено на видъ, что надо имъ «въ правду судъ судить», «другу не дружить, недругу не мстить, праваго не обвинить, виноватаго не оправить». Конечно, Рюрикъ и братья пришли не одни, а взяли съ собою своихъ родныхъ и дружину, но не могли привести съ собою и десятка тысячь Шведовъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ онъ явился бы уже въ призвавшую его страну завоевателемъ и насильникомъ; Славяне и Финны, конечно, не могли равнодушно глядѣть и на приходъ какихъ нибудь 10 тысячь Шведовъ, которые должны были только увеличить безнарядіе.
![]()
106
— Но это число слишкомъ мало для того, чтобы Шведы могли ходить на Каспійское море въ 914 и въ 944 г. Однако и этого количества Шведовъ было слишкомъ достаточно для того, чтобы возстановить Славянъ и Чудь противъ призванныхъ ими князей, какъ противъ нарушителей договора, ряда [1]. «На чемъ хрестъ еста цѣловала, то управита; не хочета ли того всего исправити, то язь въ обидѣ не могу быти». (Р.Л. II, 49). Точно также конечно думали и говорила и Славяне IX в.; и тогда, конечно, умѣли они клясться своимъ идоламъ, и тогда, конечно, клялись «меньшій, како стати всѣмъ, любо животъ, любо смерть, за правду Новгородьскую, за свою отчину» (Р.Л. III, 55). Вѣдь то были дѣды тѣхъ, что говорили : «кдѣ Святая Софія, ту и Новгородъ; а и въ мнозѣ Богъ и въ малѣ Богъ и правда». (Р. Л. III, 33), или «у насъ князя нѣтуть, но Богъ и правда и святая Софья» (Р. Л. III, 62).
— «Изьгнаша Варяги за море и не даша имъ дани и почаша сами въ собѣ володѣти, и не бѣ въ нихъ правды, и въста родъ на родъ; быша въ нихъ усобицѣ, и воевати почаша сами на ся. Рѣша сами въ себѣ: поищемъ собѣ князя, иже бы володѣлъ нами и судилъ по праву».
Славяне и Чудь, утомленные раздиравшими ихъ усобицами, рѣшились принять докончанъе и любовь, сложились между собою, поклялись «Русской земли блюсти и быти всимъ за одинъ братъ» (Р. Л. II, 39), «яко не разлучитися имъ ни въ добрѣ ни въ злѣ, но по одному мѣсту быти» (Р. Л. II, 57); «съидошася братья въкупо однодушно» (Р. Л. II, 37), обѣщались «всѣмъ одинакимъ быти» (Р. Л. III, 34), «будемы всѣ за одинъ мужь» (Р. Л. II, 30).
Въ слѣдствіе такого ряда или докончанья, они положили или «поговоря промежь себя полюбовно» «излюбили себѣ третьихъ.... и пожаловать тѣмъ нашимъ третьимъ насъ судить и третьевать» —они рѣшили призвать себѣ князя «иже бы володѣлъ нами и судилъ по праву».
1. Возстаніе Вадима, весьма вѣроятное, доказываетъ только, что была сторона, не одобрявшая призванія. Но то было меньшинство и слабое. Отъ того и было такъ скоро подавлено его возмущеніе.
![]()
107
«Поищемъ собѣ князя», т. е. излюбимъ себѣ такого, который бы пошелъ къ намъ «на всей правдѣ, на всей старинѣ», который бы поклялся насъ Славянъ и Чудь «держати въ старинѣ, по пошлинѣ, во чти, безъ обиды».
Нѣтъ сомнѣнья Варяги обѣщали Новгородъ и Чудь и Кривичей «держати въ старинѣ, по пошлинѣ, во чти, безъ обиды» — «а намъ мужемъ Новогородцемъ (Чуди и Кривичамъ) княженіе ваше держати честно безъ обиды». Нѣтъ сомнѣнья, такой рядъ съ обѣихъ сторонъ былъ заключенъ ротою, присягою, какимъ нибудь заклинаніемъ (сравн. позднѣйш. «А на томъ ти, княже, на Всемъ хрестъ цѣловати, бесъ перевода, при нашихъ послѣхъ: а мы ти ся, господине княже, кланяемъ» и пр.) — заклинаніемъ, хоть напр. въ родѣ слѣдующаго, «иже помыслить разрушити таку любовь.... да не имуть помощи отъ Бога, ни отъ Перуна, да не ущитятся щиты своими, и да посѣчени будуть мечи своими, отъ стрѣлъ и отъ иного оружья своего, и да будуть раби въ сесь вѣкъ и будущій», или говорили они, что рядъ ихъ простоитъ крѣпко и неподвижно «дондеже солнце сіяеть и міръ стоить», что нарушенъ онъ будетъ, «оли камень начнетъ плавати, а хмѣль почнетъ тонути».
Могли ли Варяги въ страну великую и обильную, такъ добровольно ихъ призвавшую, придти съ большими военными силами? — Зачѣмъ было имъ вооружать противъ себя племена, добровольно ихъ призвавшія? Чего было имъ бояться? Приводя съ собою множество чужеземцевъ, они могли быть увѣрены, что ихъ ожидаетъ. Имъ не могла быть неизвѣстна участь Варяговъ, которыхъ незадолго до того выгнали Славяне за море. Всѣ поздѣйшія событія убѣждаютъ, что Варяговъ пришло въ Русь не великое множество, иначе были бы возстанья, мятежи, на долго, бы сохранилась ненависть къ нимъ, тогда какъ не видать и слѣдовъ ея въ Лѣтописцѣ и въ народныхъ преданіяхъ, имъ сохраненныхъ. Память народная неподкупна; народы не скоро прощаютъ насилья завоевателей. Впрочемъ, всѣ ученые замѣчательные и безпристрастные окончательно и несомнѣнно убѣждены въ справедливости извѣстія о призваніи. Русь не была завоевана. Слѣдов. не могло быть и Норманновъ такое множество, чтобы они могли ходить въ Каспійское море въ 914 и
![]()
108
944 г. [1]
— То ходили Славяне, какъ то открывается изъ самыхъ разнообразныхъ и другъ другу постороннихъ соображеній. Наконецъ есть свидѣтельство ХШ в., которое прямо говоритъ, что въ 944 г. грабили Берду — Славяне. Въ своей Сирійской Хроникѣ, Григорій Абуль-Фараджь, извѣстный болѣе подъ именемъ Баръ-Еврея (род. въ 1228 и ум. въ 1286 г. по P. X.), говоритъ: «Въ первое лѣто царствованія Мосшакри, 335 (= 944) Геджры, вышли разные народы: Аланы, Славяне и Лазги; они опустошили всю землю до Адербайджана, взяли городъ Бердау, и убивъ въ немъ 20,000 человѣкъ, ушли назадъ». (Chron. Syriacum р. 189. См. ст. Григорьева, стр. 250).
Участіе въ походѣ Славянъ, Аланъ и Лазговъ и необходимость, въ Руссахъ 944 г., видѣть соплеменниковъ Руссовъ Массудіевскихъ — могутъ кажется окончательно убѣдить всякаго человѣка безпристрастнаго, что то были Русскіе Славяне, столь страшные Грекамъ въ XI в., и населявшіе княжество Тмутороканское: Мстиславъ въ 1023 г. ходилъ на Ярослава съ Хозарами и Касогами.
Въ XII в. по P. X. или въ VI в. Геджры въ Хорасанѣ, Арранѣ и Ширвани каждый небольшой дворъ имѣлъ при себѣ по нѣскольку поэтовъ-панегиристовь, единственная обязанность которыхъ состояла въ кропаньи хвалебныхъ стиховъ, обыкновенно исполненныхъ величайшей лести, въ славу и честь Сельджукидовъ, Атабековъ, Адербайджанскихъ и Ширваншаховъ. — Въ гимиахъ и мадригалахъ этихъ придворныхъ восточныхъ піитовъ, какъ ни богаты они пустыми, ничего не выражающими фразами, нелѣпыми и вычурными сравненіями, — находятся нѣкоторыя любопытные намеки и данныя, которыми наука не можетъ не дорожить при великой скудости истинныхъ историческихъ свидѣтельствъ о краяхъ, столь мало извѣстныхъ. Такимъ образомъ почтенный оріенталистъ нашъ г. Ханыковъ, счелъ нужнымъ обратить свое вниманье на одного изъ этихъ Персидскихъ стихотворцевъ, именно Хакани († въТавризѣ ок. 595 г. Геджиры или 1198 г. по P. X.), который,
1. См. Kunik. Sur l’expédition des Russes normands eu 944 vers les pays situes aux bords de la mer Caspienne. S. Pétersbourg. 1847.
![]()
109
не смотря на свои странствованія и на обширныя связи со многими современными знаменитостями, особенно бѣденъ фактами и чрезмѣрно богатъ пустословіемъ, нелѣпою вычурностью, и забавнымъ самохвальствомъ, въ порывѣ котораго онъ однажды выразился: «500 годъ никого не произвелъ столь несравненнаго, какъ я:» «L’an 500 ne produisit un sans pareil comme moi». — Хакани воспѣвалъ по преимуществу своего современника государя Ахистана, на владѣнія котораго и нападали Руссы. Прилагаю при переводѣ г. Ханыкова найденныхъ имъ извѣстій Хакани объ этомъ неизвѣстномъ доселѣ происшествіи и слѣдующія замѣчанія нашего ученаго, необходимыя для лучшаго у разумѣнія этихъ мѣстъ.
«Ахистанъ родился въ одинъ годъ съ Хакани, т. е. въ 1106 г. по P. X. Вступивъ на престолъ послѣ 30-ти лѣтняго правленія своего отца, онъ утвердилъ свою столицу въ Баку, которую онъ старался возвеличить, тогда какъ Шемаха, столица Шарвана въ собственномъ смыслѣ, находилась во власти Атабековъ Адарбиджанскихъ.... Въ правленіе этого Ахистана Русскіе учинили набѣгъ на владѣнія, находящіяся на западномъ и южномъ берегахъ Каспійскаго моря, и даже на нѣкоторое время успѣли утвердиться въ Шемахѣ; но флотъ ихъ, состоявшій изъ 72 судовъ, былъ разсѣянъ при островѣ Сари или Паргецѣ и они были побѣдоносно изгнаны Ширваншахомъ. Хакани ничего не говоритъ о числѣ Русскихъ, участвовавшихъ въ этомъ походѣ, но принимая во вниманье то, что ихъ нашествію подверглось пространство земли, отдѣляющее берегъ Каспійскаго моря отъ Лемберани, надо думать, что они были довольно многочисленны».
По недостатку хронологическихъ вѣрныхъ данныхъ г. Ханыковъ не могъ опредѣлить годъ этого похода на Шемаху.
«Походъ Русскихъ, упоминаемый у Хакани», говоритъ онъ, «долженъ былъ происходить въ пространствѣ времени, между 530 и 590 г. Геджры или между 1135 и 1193 г. по P. X., и отвѣчаетъ въ Русской исторіи княженіямъ 15 великихъ князей. Самое это число князей свидѣтельствуетъ о тогдашнихъ усобицахъ на Руси, такъ что нѣтъ ничего удивительнаго, что происшествіе, надѣлавшее столько шуму во владѣніяхъ Ширваншаховъ, не оставило никакихъ слѣдовъ въ нашихъ лѣтописяхъ;
![]()
110
по крайности Карамзинъ ни слова не говоритъ объ этомъ далекомъ походѣ. Это молчаніе лѣтописцевъ, если они дѣйствительно о томъ умалчиваютъ, чего я не могу повѣрить за неимѣніемъ подъ руками пособій, заставляетъ предполагать, что Русскіе принимали тутъ участіе, какъ союзники Хозаръ, и что то не было правительственнымъ предпріятіемъ, но отчаянною попыткою тѣхъ бѣглыхъ (гулящихъ) Русскихъ людей, что жили между Дономъ и Волгою, и упоминаются въ нашихъ Дѣтописяхъ въ первый разъ подъ 1147 г., подъ именемъ Бродниковъ или бродягъ (vagabonds)».
О побѣдѣ Ах иста на надъ Русскими, какъ объ отличнѣйшемъ его подвигѣ, Хакани говоритъ не разъ. Вотъ всѣ эти мѣста, которыя для большей точности привожу во Французскомъ переводѣ г. Ханыкова:
1) «La victoire que tu remportas sur les guerriers Russes, devint une ère pour les élevés comme le ciel (c. à d. pour les rois). Tes étendards, d’après (le dire) des témoins produisaient sur les Russes l’effet de l’aquilon sur les tiges de la plante Zeiméran. Les pointes (de tes flèches) couleur de flamme (envahissantes), comme l’eau, versaient le feu parmi les armées des divs. Tu trempas (les flèches) dans le fiel des Russes, en leur décochant le javelot muni de plumet (tes flèches), trempé dans l’eau empoisonnée. Une de tes flèches, semblable au prophète Khizr, rompit les soixante douze vaisseaux de ces stupides infidèles. Les flèches bifurquées de tes serviteurs, coupaient comme des ciseaux les veines jugulaires des renieurs de la religion. Tes javelots courts cousaient, à l’instar des aiguilles, leurs vésicules à leurs poumons. Ta fortune, abreuvée à la source de Khizr, donna du coeur aux (porteurs) des poignards semblables aux crocodiles. Par suite des blessures portées sur les bords de la mer, le sang jaillissait des gorges coupées, et il se forma, sur les bords mêmes de la mer, une mare de sang de ces blondins roux, (mare) semblable à une mer, quand ton carquois montra ses dragons de Moïse, à ceux qui, après tout examen, sont des adorateurs du feu [1]. A Roum même les dragons de tes flèches, empoisonnèrent les aliments du Qaissar».
1. Намекъ на обычай древнихъ Руссовъ сожигать мертвецовъ. См. Слов. Якута, и Frahn-lbn-Fosslan. Прим. г. Ханыкова.
![]()
111
2) «Souverain au zèle de Houd et à l’éloquence de Nouh, lu visitas comme une tempête les Khazars, et comme un déluge les Allans. Tu es craint comme Malik (trésorier de l’enfer), et (pour les ennemis) tu as un caracrère de Zabani (officier de l’enfer); tu fis de Derbend un enfer, et tu fis pousser des lamentations à Chabran [1] (grâce à toi) le Chirwan (i. e. possesseur du lion), si l’on y pense, est devenu Kheirawan (i. è. possesseur de la bonté), non, peut-être même, est ü devenu Cherefwan (i. e. possesseur de la noblesse); tu fis le Khizwan (i. e. le Chirwan) semblable à Baghdad et au Caire. En même il est le Khalif du Caire et de Baghdad, et par la largesse de sa main, l’Euphrate passe par Sáadoun et le Nil par Gerdaman [2]. Tu as vu ses soldats faisant une attaque nocturne contre les divs Russes (quand) de l’embuscade de sa colère il lança le lion de Sistan (i. e. Roustem). Le roulement de ces tambours, dont le son ressemblait aux cris poussés par la gazelle à la vue d’une peau de loup, donna des règles de lièvre aux lions enragés (i. e. aux Russes) [3]. Tous ces coeurs d’èperviers marchèrent la nuit comme des grues, et comme des Qata, expulsèrent les Simourgles de leurs nids. Ils les poursuivirent jusqu a la fin de la nuit, comme la nuit (poursuit) la nouvelle lune dans le collet du ciel (i. e. au haut du ciel) et (toi) à l’instar des sorciers (tu) préparas un lambeau de toile de lin
1. Chabran, jadis une forteresse célébré, maintenant un tas de ruines, dans le district de Qoubbeh.
2. Saàdoun, maintenant nommé Siadan, bourg du district de Qoubbeh, non loin des ruines de Chabran. — Gerdaman, canton traversé par le Girdamanlchaï, dans le gouvernement de Chémakha.
3. Beaucoup de personnes m’ont assuré ici qu’un tambourin tendu de peau de mouton n’émet pas de son, étant frappé en présence d’un tambourin tendu de peau de loup; de même les orienta x sont persuadés, ce qui est aussi plus probable, que la gazelle ne peut voir une peau de loup, sans pousser des cris de frayeur. Quant aux règles du lièvre, voilà ce qu’en dit l’Imam Damiri auteur du Heiatoul heiwani-l-Kubra: «Le lièvre dort les yeux ouverts, très souvent le chasseur s’approche de lui et, le voyant ainsi, le croit éveillé. On dit que le lièvre meurt dès qu’il a vu la mer, et que c’est à cause de cela qu’on ne le trouve pas au bord de la mer; mais ceci, d’après mois, n’est pas exact. Les Arabes, entre autres mensonges, admettent que les Djins fuient le lièvre, à cause de ce qu’il a des règles. Quatre sortes d’animaux ont des règles: la femme, la hyène, la chauve-souris et le lièvre. On dit aussi que la chienne a des règles».
![]()
112
(pour leur jeter le sort) [1]. Le matin, tu dégainas ton glaive [2], et tu (le tournas) contre les infidèles, jusqu’à ce que le glaive les couvrit tous de la poussière de l’ignominie. (La planète) Mercure ayant sous lui comme Bahram Tchoubin une peau tendue sur du bois (i. e. un tembourin), ton cheval s’élança comme le vent d’automne [3]. Chacun (de tes soldats) dans sa forteresse de cotte de mailles de bronze était comme un Isfenaiar [4], ils firent sur la mer des dévastations semblables à ceux du Heft Khan. Le lion dégaina son glaive, comme le soleil dans la constellation du Lion, mais les soupirs poussés par les ennemis, changèrent le coeur de l’été en premier mois de l’automne. Le coeur des infidèles fut grêlé de petites véroles grosses comme des grains de raisin, et le sabre du Yémen, de couleur de raisin vert, fit de leur sang du vin. Le sabre de couleur bleue étendit sur la mer une couché de garance (mot p. mot mine de gar.) jusqu’à l’ile Rouinas et jusqu’à Lembéran [5]. Sur l’île il fit du sang des Russes une mer, et la vague de celte mer ressemblait à une haute montagne; elle dispersa les vaisseaux, et l’on dirait qu’on y avait semé des rubis; on moissona des têtes, et les corps criaient aman. La moitié fut tuée, l’autre moitié défaité, s’enfuit, et la mort chassa la chaleur de leurs âmes impuissantes. Afin qu’ils puissent se préparer dans leurs crânes une tisane, l’eau de leurs larmes leur fournit gratis le jus d’épine-vinette [6].
1. D’après le commentaire: les lambeaux de toile de lin servent dans les sorcelleries pour jeter un sort à quelqu’un, on les découpait en croissant.
2. C’est à dire qu’au lever du soleil, on dirait que l’aurore dégaine son glaive, métaphore qui dans les pays chauds ne manque pas de justesse.
3. Ce vers, qui parait si embrouillé dans la forme de l’original, veut simplement dire, que Mercure protecteur des musiciens, se fit tambour dans l’armée d’Akhistan, dont le cheval etc.
4. Isfendiar, fils de Guechtassib, tué par Roustem, prit des forces les sept endroits du Mazandéran dits Heft-Khan.
5. L’île Rouinas est ou l’ile Narguen, ou l’île de Sari, mais comme la dernière surtout est apte à, la culture de la garance, je crois qu’il s’agit ici de Sari, d’autant plus que c’est la seule île de cette côté où il y ait des sources d’eau douce et qui pouvait servir de station à la llotille russe. Lembéran est un grand village sur la route directe de Chémakha ou Choucha, à une 15ne de verstes du Kour.
6. Ingrédient de la tisane, ou d’une potion calmante, dont Khaquani fait souvent mention.
![]()
113
Les étendards du chah qui portent les mots Inna fatahnâ (Qor. Sour. XLVIII. vers. 1), répandirent dans le monde une nouvelle, créatrice de la joie. Il jeta tout autant de poussière sur la tête des Russes infidèles, qu’Alb-Arslan en jeta sur la tête des habitants de Roum. Un ou deux jours, ces coeurs de chiens (i. e. sauvages, furieux, féroces) réussirent à commettre dans le Chirwan des désordres semblables à ceux f’Arjeng dans le Mazandéran; (mais) la terreur répandue maintenant par le chah à Derbend et en Russie, y produisit une commotion pareille à celle que ces coeurs de chiens firent ressentir au Chirwan».
3) «Les Russes et les Khazars fuient, car la mer des Khazars éprouva les bienfaits de sa main pleine de perles».
«.... ces deux vers, qui me paraissent être bien moins embrouillés que beaucoup d’autres du même poète, n’ont pas fait le même effet sur un commentateur de Khaquani, dont le commentaire se trouve copié sur les marges du manuscrit qui m’a servi pour ce travail; voici ce qu’il dit par rapport à ces vers: «Feiz répandre l’eau, Hécher, soldats, troupes, et par l’expression Kefi dast djawahir hacher, on fait allusion à la main de l’objet de la louange, par la considération du glaive Geuherdar damassé, qui était dans sa main pendant le combat, c’est à dire: Les Russes et les Khazars sont en suite, car le bras du loué a versé tant de sang des ennemis dans la mer des Russes et des Khazars, que l’eau en est devenue rouge, et les habitants de ces deux états ont pris la fuite». Moi je crois que le verbe qui termine le 2-e missrà devrait être mis au singulier et rapporté à la mer, comme je l’ai traduit, et que khaqani, pour conserver son rédif, l’a mis au pluriel et avait embrouillé par cela le sens; des licences pareilles se rencontrent chez lui très souvent».
4) «Bakou, à cause de son existence, exige le tribut des Khazars, de Rei et des Zirihguérans (i. e. des Qoubetchis)».
(См. Bullet. historico-philolog. de l’Acad. des Sciences de St.-Pétersb. T. XIV. № 335—336. Lettre de M. Khanykoff à M. Dorn).
— О походѣ Стеиьки Разина на Персію сообщаетъ нѣсколько любопытныхъ подробностей знаменитый Французскій путешественникъ Шарденъ. Вотъ какъ онъ разсказываетъ объ этомъ :
![]()
114
«Tandis que ces révolutions se passaient à la cour de Perse, quatre députés y arrivèrent de la part des Cosaques Moscovites qui, deux mois auparavant, avaient fait une irruption furieuse dans la Perse, du côté de l’Hyrcanie, sur les bords de la mer Caspienne; mais avant que de parler de cette irruption, il est bon d’en dire le sujet.
«L’an 1664, selon notre compte, arriva à ïspahan une ambassade célèbre de Moscovie, elle était composée de deux ambassadeurs, dont le train montait à quelques huit cents hommes, et les présens qu’ils liront au roi valaient, par l’appréciation que l’on en lit, cinq mille tomans, qui sont deux cent cinquante mille livres. Sis consistaient eri deux carrosses enrichis de broderies très-superbes, des chevaux de frise, avec des animaux de leur pays, comme des renards et des ours blancs et des dogues; mais ce qui en faisait la principale richesse était une quantité prodigieuse de martres zibelines, que les Perses appellent samour. Ces ambassadeurs, comme l’on a toujours cru, étaient venus seulement pour trafiquer, et avoir le moyen, sous ce titre d’ambassade, d’apporter et de remporter des marchandises, sans payer de droits. On compte que des seules martres, ils en avaient vendu à ïspahan, pour quatre vingt mille tomans, qui sont quatre millions, sur quoi l’on peut juger du reste. Le roi de Perse cependant les traita magnifiquement d’abord, et il leur donna leur dépense, qui était taxée à dix tomans par jour, c’est à dire cinq cents livres, que ceux-ci aimèrent mieux prendre en argent qu’en vivres, pour en épargner la meilleure partie. Aussi, vivaient-ils très mesquinement, et dans le beau palais où le roi les avait fait loger parmi les riches meubles dont il était garni. Ces gens malpropres étaient dans l’ordure, comme des chiens. C’est pourquoi les Perses tiennent aujourdhui cette nation de Moscovites pour la plus basse et la plus infâme qui soit entre les chrétiens; et ils les appellent, par mépris, les Jusbeks de l’Europe; ils veulent exprimer par là combien ils les estiment peu, parceque les Jusbeks sont les peuples les plus abjects de l’orient.
«Le roi, touché de l’infamie de ces ambassadeurs, et qui voyait bien qu’en effet ils n’étaient point envoyés de leur maître pour un autre sujet que pour trafiquer, vendre leurs fourrures et leurs autres denrées, et remporter des étoffes, des cuires, et les autres choses
![]()
115
semblables qui se trouvent en Perse, et surtout de l’argent, les maltraita à la fin, et n’en fit plus de compte. L’un d’eux mourut, et l’autre se retourna avec son train tout délabré, sans aucun honneur, et presque sans aucune réponse.
«Le grand-duc eût bien du ressentiment de cet affront; mais il le dissimula sur l’heure, parce qu’il n’osait s’attaquer à Habas (‘Abbâs); mais ayant appris au commencement de l’année 1667, qu’il était mort, et que le sceptre de Perse était tombé entre les mains d’un jeune prince, il résolut de se venger; il voulut toutefois éviter une guerre déclarée; c’est pourquoi, pour donner le coup fourré, et sans qu’il y parût, il suscite des Cosaques qui habitent vers la mer Noire, les fait marcher le long des Palus-Méotides, et ainsi entrer en Perse, sur les eûtes de l’Hyrcanie; avec cette précaution, qu’ils se gardassent bien de le nommer, ni d’avouer qu’ils eussent aucune intelligence avec lui, ils devaient feindre que c’était d’eux-mêmes qu’ils venaient à cette entreprise. C’est ce que l’on en contait, et croyait à la cour de Perse.
Les Cosaques ne manquèrent point; ils montent au nombre de six mille, dans quarante grandes barques de la mer Caspie, qui sont des vaisseaux longs et larges, mais sans fonds, pour éviter les rochers dont cette mer est plaine, à deux et trois pieds sous l’eau. Chaque barque portait deux petites pièces de canon. Ils abordent premièrement à Erech (Recht), petite ville sur la côte de Guilan (Guylân), ou l’Hyrcanie, en laquelle ils descendent au nombre de quatre mille; et la trouvant sans soldats, et ses habitants qui ne les attendaient pas sans défense, ils la pillent, et après un grand carnage de l’un et de l’autre sexe, ils se retirent en diligence, avec tout leur butin dans leurs vaisseaux qu’ils retirèrent en mer autant qu’il fallait pour empêcher d’être aperçus.
Pour mieux couvrir leur jeu ils envoient quatre des leurs en qualité de députés à la cour, avec des lettres de créance, comme si c’eût été une ambassade. Les gens du gouverneur de Chamaki (Châmâkhy), les conduisirent à Ispahan, où ils arrivèrent un peu après que la nouvelle de leur irruption y était venue. On les traita assez bien: on leur donna un logis, et on les défraya, comme on a accoutumé de faire pour les autres ambassadeurs. Ils démandèrent l’audience du roi; mais elle leur fut refusée sur ce qu’ils n’étaient
![]()
116
pas de qualité à prétendre à cet honneur, et que même ils paraissaient ennemis. On leur accorda seulement l’audience du premier ministre, ce qu’ils acceptèrent. La, ils représentèrent qu’ils étaient députés de la part de six mille Cosaques leurs compagnons qui étaient sur la mer Caspie; qu’à la vérité ils étaient ci-devant sujets à l’empire des Moscovites; mais que, lassés du mauvais traitement qu’ils en recevaient, ils s’étaient résolus de s’enfuir de leur pays avec leurs enfants et leurs femmes, et ce qu’ils avaient pu emporter de leurs biens; ψϊaprès avoir délibéré sur la retraite qu’ils devaient choisir, la Perse s’était présentée à leur esprit comme la monarchie la plus amie de l’équité, et qui traitait le mieux les esclaves; cest pourquoi ils avaient fait dessein de lui offrir leur servitude; que dans ce dessein ils étaient partis en Cha-seven pour l’amour du roi, et que maintenant ils espéraient de la générosité de ce grand monarque qu’il écouterait leurs prières, qu’il leur prêterait un asile, et leur donnerait quelques terres pour les habiter [1]. Ils présentèrent lâ-dessus leurs lettres de créance; mais les Perses ne purent jamais les déchiffrer, et y employèrent inutilement les plus habiles interprètes, tant des leurs que des européens, qui se trouvaient à Ispahan ....
«L’on fut donc contraint de s’en lier à ce que disaient de vive voix ces députés, qui était toujours la même chose que ce qu’ils avaient dit au commencement; à quoi le premier ministre répondit: Si ce que vous assurez est véritable, et que vous soyez venus pour être nos hôtes, et vous rendre esclaves de Sa Majesté, pourquoi êtes-vous entrés en Perse l’épée à la main? pourquoi avez-vous massacré nos sujets, désolé une des nos villes, et ravagé nos terres?
«Ces Cosaques, pour se justifier, répondirent qu’on les y avait forcés; que, comme ils étaient été vénus demander civilement des
1. Русскій выходецъ, бывшій въ Персіи, Степанъ Ивановъ сынъ Цѣпинъ, показывалъ: «Да слышалъ де онъ Степанъ въ Дербени отъ иноземцовъ, что воровскіе казаки Стенка Разинъ съ товарищи въ Гилянѣ, стоятъ въ стругахъ у берегу, и били челомъ они шаху и обѣщалися ему служить, и шахъ де ихъ принялъ и учинилъ имъ корму всѣмъ вопче по двѣсти рублевъ на день; да они жъ де казаки просятъ у шаха мѣста, гдѣ бъ имъ поставить себѣ городокъ; а сказываютъ де иноземцы, что ихъ воровскихъ казаковъ всего съ нимъ Стенкою стоить подъ Гилиныо съ двѣ тысячи человѣкъ». (А. И. IV, с. 390).
![]()
117
vivres pour leur argent, ceux de la ville, oubliant le droit d’hospitalité et la commisération qu’on doit avoir pour les étrangers, leur avaient couru sus, et les avaient maltraités; que la nécéssité de se défendre devait excuser les Cosaques s’ils avaient cherché par les armes ce qu’ils n’avaient pu obtenir par les prières.
«Dans le temps que l’on traitait avec ces députés, arriva un envoyé des Orous, c’est-à-dire du grand duc de Moscovie (je crois que les Perses donnent ce nom à ses états à cause de la Russie qui en fait une partie), cet envoyé présenta des lettres de la part de son maître au roi de Perse, qui portaient qu’ayant appris qu’un nombre de Cosaques ses sujets avaient quitté leurs terres pour se soustraire de son obéissance, et qu’ils voulaient se réfugier en Perse; il priait Sa Majesté de ne les pas recevoir et de n’ajouter aucune foi à toutes leurs propositions; que c’étaient des rebelles et des fugitifs, qui ne garderaient fidelité à personne, puisqu’ils ne la gardaient pas à leur prince naturel; qu’il disposait des troupes pour les réduire à la raison et les mettre dans le devoir. Mais, si ce prince exhortait les Perses de ne se fier pas à ces Cosaques, ils étaient assez persuadés qu’ils ne devaient pas non plus se lier à lui, parce qu’on a toujours cru en cette cour-là qu’il était d’intelligence avec ces voleurs, et la raison sur quoi cette créance était fondée avait assez d’apparence: car, comment est-il possible, disaient les politiques, que des fugitifs au nombre de cinq à six mille viennent dans un pays avec quarante barques et quatre-vingts pièces d’artillerie, pourvus de toutes sortes de munitions et de guerre et de bouche, et que d’abord ils se jettent à main armée sur nos terres ? N’est il pas aisé de voir que c’est le grand duc de Moscovie qui les envoie pour se venger des alîronts qu’il se persuade que ses ambassadeurs ont reçus».
(См. Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’orient. Nouvelle édition, soigneusem. conférée sur les trois édit, origin., augmentée d’une Notice de la Perse etc. par M. Langîès. Paris. 1811. T. X. pp. 112—120, См. также Dorn. Auszüge aus Muh. Schriftstellern... St.-Petersburg. 1858. Ss. 25—26, 39—44, и Попова Исторія возмущенія Стеиьки Разина, въ Р. Бес. 1857, 1, стр. 81 и сл.).
![]()
118
VII. Еще доступнѣе была Малая Азія Русскимъ черезъ Черное море.
Въ долгій періодъ времени X—XVI в., послѣ походовъ Руссовъ на берега М. Азіи и до Козацкихъ походовъ на Синопъ, Трапезонтъ, Русскіе безъ сомнѣнія не прерывали своихъ сношеній съ М. Азіею, которыя носили только мирный хакактерь. Въ томъ убѣждаютъ насъ хожденія паломниковъ, непрерывныя сношенія съ Сербами, Болгарами, Цареградомъ, въ ХШ в. съ Никеею, бытность въ М. Азіи Славянскихъ поселеній, торговыя связи, сначала черезъ Гречниковъ, а потомъ Сурожать морскія силы Козаковъ и ихъ ловкость, заставляющая предполагать давнюю въ нихъ привычку къ морю и видѣть въ нихъ не прямыхъ и не непосредственныхъ наслѣдниковъ Руссамъ X в., по крайности въ отношеніи искусства плаванія по Черному морю. Въ исторіи Славянской стихіи въ М. Азіи, нельзя упустить изъ виду того обстоятельства, что въ XVI и XVII стол. Русскихъ бывало много въ М. Азіи въ качествѣ плѣнниковъ, рабовъ и слугъ. Такъ Бопланъ даетъ намъ знать, про Татаръ Крымскихъ, что «они нерѣдко, въ числѣ 80,000 всадниковъ, вторгаются въ Польшу и Московію, жгутъ, грабятъ, уводятъ въ плѣнъ отъ 50 до 60,000 тысячъ Россіянъ и продаютъ ихъ въ неволю [1]». —
1. Опис. Украины (Русск. пер.). С. 36. Въ Малороссійской народной поэзіи понынѣ сохранилось много думъ о Татарской и Турецкой неволѣ. Вотъ напр. начало думы о Марусѣ Богуславкѣ:
«Що на Черному морѣ,
На камени бѣленькому,
Тамъ стояла темниця камяная.
Що у тôй то темницѣ пробувало сêмъ-сотъ козакôвъ,
Бѣдныхъ невольникôвъ».
Немало Русскихъ людей неретомилось въ тяжкой Турецкой неволѣ, въ Турецкихъ бусурманскихъ каторгахъ. Немало предковъ нашихъ кляло, проклинало тамъ землю Турецкую, вѣру бусурманскую.
«Ты, земле Турецька, вѣро бусурманська,
Ты розлуко христіянська!
Не одного ты разлучила зъ отцемъ, зъ матêрью,
Або брата зъ сестрою,
Або мужа зъ вѣрною женою!»
Одна изъ превосходнѣйшихъ Малороссійскихъ думъ съ чистымъ эпическимъ характеромъ, дума о Самойлѣ Кушкѣ, относится къ тому же разряду невольницкихъ думъ.
Въ славномъ походѣ своемъ гетманъ Богданко Ружный освободилъ много плѣнниковъ въ городахъ Малоазійскихъ. Выкупъ ихъ въ Малороссіи былъ дѣломъ святымъ. Были Русскіе и въ Константинополѣ, при чемъ, конечно, многіе и бусурманились. Такъ возвратившійся въ Кіевъ въ 1674 г. изъ Турціи купецъ Греченинъ Янъ Павлова показывалъ между прочимъ: «о звонѣ (въ Цареградѣ) паша спрашивалъ, какъ у Соѳеи звонъ былъ, и въ то де время стоялъ на караулѣ у Соѳейскои церкви, у дверей, сторожь былъ, обусурманился Русской человѣкъ». (Син. Сб. Мал. Д. 1673—1674 г. С. 156 и сл.). Плѣнники Русскіе проживали не только въ Малой Азіи, но и на островахъ Греческихъ, и въ Неаполѣ, и въ Мальтѣ, и въ Венеціи. Юрій Трубецкой, воевода Московскій въ Кіевѣ, доносилъ въ Москву въ 1674 г., что 10 іюня пришли въ Кіевъ выходцы все плѣнники Турецкіе; кто пробылъ изъ нихъ 10, кто 37 лѣтъ въ неволѣ Турецкой. Ивашко Антоновъ, Уманскій козакъ, показалъ: «взятъ де онъ въ полонъ тому шестнадцать лѣтъ, а взяли его Татаровя и продали Туркомъ на катаргу; а изъ Турской ушелъ тому 7 годъ въ Веницейскую землю, а изъ Веницейскои земли пришелъ въ Польшу тому шесть недѣль». (Тамъ же. С. 164). Другой, взятый въ плѣнъ Татарами и проданный Туркамъ, прожилъ у нихъ 10 лѣтъ, «а ушелъ изъ Турской земли въ Веницейскую землю тому 6 годъ, а изъ Веницейской земли пришелъ въ Польшу тому шесть недѣль». (С. 169).
— Борисъ Петровичъ Шереметевъ, на обратномъ пути своемъ изъ Мальты, будучи въ Венеціи, 1698 г., отпустилъ въ Москву маршалка своего Алексѣя Курбатова, «а съ нимъ послалъ двухъ Араповъ, трехъ невольниковъ Малороссійскихъ городовъ, искупленныхъ въ Малътѣ и въ Неаполѣ, и часть своего багажу». (Зап. Путеш. Гр. Б. П. Шереметева.... М. 1773. С. 86). В. Г. Барскій разсказываетъ, что въ 1743 г., въ бытность его на островѣ Хіосѣ, «многи убо отъ невольникъ и невольницъ Россійскихъ приходящи ко мнѣ, моляху со слезами, да исходатайствую освобожденіе ихъ отъ плѣненія; азъ же съ великою радостію обѣщахся просимое имъ сотворити и донести о семъ господину резиденту въ Цареградѣ и, утѣшивъ ихъ благою надеждою, списахъ же и имена ихъ, ихъ же бѣ душъ близъ четыредесяти, такожде имена и обладателей Турковъ, Грековъ и Евреевъ». (II, 84). Вопросъ о невольникахъ Русскихъ вовсе не такъ незначителенъ, какъ то можетъ казаться съ перваго взгляда; подробно изслѣдованный, предметъ этотъ можетъ повести къ новымъ, любопытнымъ соображеніямъ. Ворочаясь на родину, бывшіе плѣнники приносили съ собою множество новыхъ разсказовъ, новыя свѣдѣнія, новые обычаи. Въ свою очередь они могли имѣть вліянье и на страну своего плѣна. Вспомнимъ, то былъ одинъ изъ путей распространенія христіанства. Могло статься и дѣйствительно бывало, что плѣнники одного языка собирались въ извѣстной странѣ въ такомъ множествѣ, что образовывали какъ бы особую колонію. Сносясь съ свободными своими земляками, они возбуждали въ нихъ жалость и мщенье и такимъ образомъ притягивали и накликивали опасныхъ враговъ своимъ повелителямъ. Пріобрѣтенію нами Крыма едва ли не способствовало это обстоятельство. Козаки въ своихъ походахъ руководились не однимъ желаніемъ пограбить, но и местью за братьевъ своихъ христіанскихъ невольниковь и благороднымъ намѣреньемъ освободить ихъ изъ плѣна. Выходецъ Рязанецъ Степанъ Ивановъ сынъ Цѣпинъ явился въ 1668 г. въ Приказную Палату и показалъ:
«служилъ рейтарскую службу въ полку съ бояриномъ и воеводою съ Васильемъ Шереметевымъ съ товарищи; въ Запорогахъ подъ Чюднымъ городкомъ полоненъ былъ Крымскими Татарами, которые продали его въ Турскую землю, въ городъ Девренъ, а тотъ де городъ отъ Царягорода днища за два; и жилъ де онъ въ томъ городѣ у яныченина года съ два, и изъ того города бѣгаючи, жилъ въ разныхъ земляхъ, въ Трухменской и въ Арапской да въ Юргенской года съ три, и изъ Юргенской де земли вышелъ назадъ въ Турскую землю, къ прежнему своему хозяину, въ Девренъ городъ; и хозяинъ де его продалъ въ Турской же городъ Аванъ, владѣлцу Алѣю Пашѣ, а тотъ де городъ близко Кизылбашской земли; и жилъ де онъ въ томъ городѣ года съ два и болши, и бѣжалъ въ Кизыльбашскую землю въ городъ Куты, а изъ того города шелъ Шаховою землею, мимо Терзія да Аревана да Енжея городовъ, и пришелъ въ Шемаху въ нынѣшнемъ во 176 г. декабря въ 6 день и зимовалъ въ Шемахѣ; а изъ Шемахи де отпущенъ онъ съ Астараханцомъ съ Ондреемъ и пріѣхалъ съ нимъ въ Тарки, а изъ Тарковъ пріѣхалъ въ Астарахань съ Тарковскими торговыми людьми въ стругахъ, а Ондрей де Третьековъ поѣхалъ степью на Теркъ». (А. И. IV, с. 390).
![]()
119
Въ столицѣ Крыма и мѣстопребываніи Турецкаго губернатора въ Кафѣ, гдѣ Татаръ жило мало, а все больше христіане,
![]()
120
Бопланъ же насчитывалъ болѣе 30 тысячь невольниковъ, замѣчая, что они составляютъ прислугу христіанъ, которые скупаютъ у Крымцевъ военноплѣнныхъ изъ Польши и Россіи. Мартынъ Бронёвій де Біездзфедеа, два раза посѣтившій Крымъ, и описавшій свое путешествіе въ 1579 г., между другими любопытными извѣстіями передалъ намъ также, въ главѣ объ образѣ жизни Крымскихъ Татаръ, и то, что помѣстья Татарскія обработываемы были многочисленными плѣнниками Русскими и Молдавскими. [1]
1. Martini Broniovii de Biezdfedea Stephani I Poloniae regis nomine bis in Tartariam legati Descriptio Tartariae.... (Schwandtner. Scr. rer. Hung. I, 801)
«...etsi pages plurimi (nobiliores) non possident, attamen agros et fundos proprios ibi habent, quos Vngarorum, Russorum, Moschorum, Valachorum seu Moldavorum mancipiis, quibus abundant, colunt ac ut jumentis ad opus omne utuntur. Aedificia et domus ligneis similes admodum, Turcico more aedificant, verum Graeci christiani, qui in paucis villis sunt, ut mancipia operantur et agros colunt».
Торговля развита мало, «mechantcas autem artes rarissimi exercent et quicunque mercatores et artifices ibi reperiuntur, vel christianorum mancipia, vel Turcae, Armeni, Judaei, Cercasii Petigorenses, qui christiani sunt, Philistini vel Cyngani, obscurae vel extremae condilionis homines sunt».
Также любопытна, особенно въ связи съ невольницкими пѣснями, глава 45-я: «Captivorum apud Tartaros ratio et redimentorum modus». Невольниковъ часто продавали за море. При описаніи Кафы между прочимъ читаемъ: «Capham non raro navigatur, ex universis vicinioribus et remotioribus Graeciae insulis, saepius vero ex urbe Constantinopoli, nam secundo vento, duorum tantum dierum spatio vel paulo amplius navibus eo veniunt». При описаніи Корсуня вспоминаетъ о вел. кн. Владимірѣ, о взятіи имъ Корсуня и о возвращеніи его Грекамъ. «Quod et in hodiernuin usque diem, in locis iisdem a christianis Graecis, quorum obscurae et parvae ad modem reliquiae supersunt, praedicatur» (p. 820—821). См. Сказаніе свящ. Іакова, бывшаго въ Крыму въ 1634—1633 г. съ Русскимъ посланникомъ Борисомъ Дворениновымъ — «и пріидохъ во градъ (Инъ) и внидохъ въ пещеру къ Русскому полоненику, къ Максимку Иванову Новосилцу, а тотъ Максимъ живетъ въ полону тридцать два года». (Зап. Од. Общ. Ист. и Древн. I, с. 889). Отслуживъ панихиду и приложившись къ мощамъ неизвѣстнаго святаго, наши Русскіе вернулись домой. «И созвавше Гречанъ и полонениковъ Рускихъ, которые живутъ лѣтъ по сороку и начахомъ спрашивати про мощи, и многіе Гречане сказали: «мы де господине того не вѣдаемъ» .... Да Бѣлоруссецъ, полоненикъ, зовомый Василій Хромой, сказалъ: «мнѣ де здѣся въ городкѣ сорокъ лѣтъ» (с. 689). Они хотѣли взять мощи съ собою въ Русь, но услышали отъ святаго слѣдующія слова: «мните, о друзи, взяти мощи моя на Русь, а язъ убо хощу по прежнему здѣ учинити Русь, а имя ми и память моя бываетъ въ Семеновъ день» (с. 690—691).
![]()
121
По Боплану Кафа вела обширную торговлю съ Константинополемъ, Трапезонтомъ, Синопомъ и другими городами Чернаго моря, Архипелага. Конечно, рабы и слѣдовательно — Русскіе были не послѣднею статьею отпуска. Кромѣ Татаръ, и Турки уводили много Русскихъ въ плѣнъ. Въ 1641 г. Мясковскій, посланникъ Польскій въ Константинополѣ, доносилъ Владиславу IV, что по словамъ Грековъ и Турокъ: число плѣнниковъ Польскихъ (слѣд. главнѣйше Русскихъ) въ Турціи простиралось до 150 тысячь человѣкъ.
A.4. Разсмотрѣніе вопроса о времени перваго ознакомленія Славянъ съ М. Азіею. О невозможности опредѣлить это время, теряющееся въ отдаленной древности. (VIII—IX. Стр. 121-152).
VIII. По разсмотрѣніи всѣхъ этихъ обстоятельствъ касательно стихіи Славянской въ М. Азіи съ VII в., по настоящее время включительно читатель, надѣюсь, не затруднится предпочесть отвѣтъ положительный на вопросъ — была ли непрерывность въ исторіи Славянской стихіи въ М. Азіи? Дѣйствительно въ долгой періодъ 12-ти вѣковъ стихія Славянская въ М. Азіи, хотя и пережила различныя фазы и подвергалась различнымъ превратностямъ, тѣмъ не менѣе съ VII в. продержалась до настоящаго времени, когда съ наступленіемъ новыхъ, лучшихъ временъ для всего міра Славянскаго, она вступитъ, быть-можетъ, въ новый періодъ и съ теченіемъ времени, развиваясь все болѣе и болѣе, послужитъ безъ сомнѣнія однимъ изъ главнѣйшихъ элементовъ, имѣющихъ возродить къ новой, лучшей и разнообразной жизни эту богатую страну, способную къ развитію самой высшей человѣческой культуры.
![]()
122
Время теперь перейти намъ къ разсмотрѣнію вопроса, представившагося намъ еіце въ началѣ книги и вылившагося тогда въ слѣдующую форму : были ли Славянскія поселенія въ Малой Азіи и до VII в. и до 664 г. ; т. е. поселеніе Славянъ въ Азіи въ 664 г. по P. X., случайно занесенное въ Лѣтопись Византійцами, есть ли первое поселеніе Славянъ въ Азіи?»
Византійскій лѣтописецъ Ѳеофанъ подъ 664 г. разсказываетъ, что вождь Сарацынъ Абдуррахмань вступилъ съ большими силами во владѣнія Римскія, провелъ въ нихъ зиму и опустошилъ многія провинціи. При семь, говоритъ тотъ же лѣтописецъ, Славяне (οἱ Σκλαβῖνοι), числомъ до 5,000 человѣкъ, присоединились къ нему, пошли съ нимъ въ Сирію, и поселились въ области Апамейской, въ селенія Скевокоболѣ.
Вотъ первое, доселѣ найденное, извѣстье о Славянахъ въ Азіи! Не скажу нужда, но есть ли даже возможность заключать изъ него, чтобы 5 тысячь Славянъ, перешедшихъ къ Арабамъ и поселившихся въ Сиріи, только въ 664 г. явились въ Азіи? Напротивъ, гораздо вѣроятнѣе, что они были уже въАзіи и до 664 г. По всей вѣроятности, Ѳеофану уже было что нибудь извѣстно о Славянахъ въ М. Азіи; иначе онъ бы не упомянулъ о нихъ такъ случайно, мимоходомъ.
Въ самомъ дѣлѣ почему Славянъ въ М. Азіи не могло быть и въ VI в.?
При Юстиніанѣ (527—565) Славяне, по словамъ Прокопія, почти ежегодно переходятъ Дунай и врываются во владѣнія Римской Имперіи, почти всѣ земли отъ Іоническаго залива до предмѣстій Византіи подвергаются ихъ опустошительнымъ походамъ. Годы 527, 530, 533, 534, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 559 и проч., всѣ ознаменованы битвами ихъ съ Греками, ихъ пораженьями, чаще побѣдами и грабежами.
Незабвенный Шафарикъ нашъ ясными и неопровержимыми доводами доказалъ, что «тихое, спокойное распространеніе и утвержденіе Славянскихъ поколѣній въ опустѣвшихъ земляхъ обѣихъ Мизій начались, съ согласія Греческаго правительства, въ концѣ V-го, и продолжались въ теченіи всего VI-го стол.,
![]()
123
гдѣ нарочно поселяемы были также и Славяне, захваченные въ плѣнъ на войнѣ [1]».
Въ VI в. исторія уже застаетъ многихъ Славянъ христіанами, и даже занимающими въ имперіи высокія государственныя должности; одинъ же изъ нихъ, уроженецъ Ведеріаны, что въ верхней Македоніи, близъ нынѣшняго города Кёстендила, сынъ Изτока и Вигленицы, Упраςда достигъ даже престола, на коемъ былъ извѣстенъ подъ именемъ Юстиніана I.
Почему не могло быть Славянъ въ М. Азіи и въ VI в.? Почему императоры не могли переселять туда Славянъ въ VI в., какъ переселяли ихъ туда въ VII и въ слѣдующіе вѣка? Отъ чего Славяне не могли переселяться въ М. Азію и въ VI в., какъ селились они въ VII и въ VIII в.? Вѣдь мы встрѣчаемся въ Азіи съ отдѣльными личностями Славянскими еще въ VI в. Такъ въ 555—6 г. природные Анты, слѣдов. Славяне Доброгостъ и Всегордъ предводительствуютъ Греческимъ войскомъ противъ Персовъ. Доброгостъ начальствуетъ надъ флотомъ. Весьма вѣроятно, что Греки вручили этимъ Славянамъ начальство потому, что войско и флотъ состояли главнѣйше изъ ихъ единоплеменниковъ.
Зная давнишнія поселенія Славянъ по Дунаю и отношенія ихъ къ Атиллѣ и къ Гуннамъ, мы рѣшительно отказываемся отъ той мысли, что Славяне стали переходить Дунай и селиться въ имперіи только въ концѣ V в. Въ 441 г. Атилла, въ нѣсколько сраженій разбившій Грековъ, опустошилъ Ѳракію и Македонію, все пространство отъ Еллиспонта до Ѳермопилъ и предмѣстій Цареградскихъ [2].
1. Слав. Др. § 29. 2. Р. пер. т. II, кн. 1, с. 255 и сл. Въ Слав. перев. Манассіи, при описаніи царств. Анастасія читаемъ:
«При Анастасіи цр̃и начѧшѫ Блъгаре поемати земѧ сїѫ, прѣшедше ȣ Бъдынѣ и прежде начѧш поематї долнаѫ земѧ Охридскаѫ и потомъ сиѧ земѧ въсѧ».
Анастасій же царствовалъ съ 491 до 518 г. См. «О переводѣ Манассіиной Лѣтописи на Словенскій языкъ, по двумъ спискамъ: Ватик. и Патр. б-ки съ очеркомъ исторіи Болгаръ». М. 1842. С. 39. См. также статью Шафарика: Wýklad některych pomístnych jmen u Bulharůw въ Časop. Česk. Mus. 1847. S. 72 и сл.
2. Septuaginta civitates (говоритъ Цросперъ Тиронъ) depraedatione vastatae. A Марпеллин ь: Pene totain Europam, invasis excisisque civitatibus atque casteilis, conrasit. См. Gibbon.
![]()
124
Славяне могли проникать черезъ Дунай въ Забалканскій полуостровъ не только съ Гуннами, но и съ Готами; впрочемъ на послѣднемъ предположеніи не останавливаюсь, какъ оно ни вѣроятно, потому что въ оправданіе свое оно требуетъ слишкомъ продолжительныхъ объясненій.
«По мнозѣхъ же времянѣхъ сѣли суть Словѣни по Дунаеви, гдѣ есть нынѣ Угорьска земля и Болгаръска. Отъ тѣхъ Словѣнъ разидошася по землѣ и прозвашася имены своими, гдѣ сѣдше на которомъ мѣстѣ; яко пришедше сѣдоша на рѣцѣ имянемъ Морава и прозвашася Морава; а се ти же Словѣни Хровате Бѣліи, и Серебь, и Хорутане. Волхомъ бо нашедшемъ на Словѣни на Дунайскія, сѣдшемъ въ нихъ и насиляіцемъ имъ, Словѣни же ови пришедше сѣдоша на Вислѣ и прозвашася Ляхове» и т. д.
Извѣстіе Нестора, сохранившее древнее народное преданіе о стародавности Славянскихъ поселеній на Дунаѣ, въ земляхъ, называвшихся во времена Нестора Угорскою и Болгарскою, указываетъ на возможность отдѣльныхъ Славянскихъ поселеній посреди народовъ Ѳракійскихъ и весьма дѣлаетъ вѣроятною догадку Шафарика о томъ, что по изгнаніи Славянъ изъ нынѣшней Угріи Кельтами, нѣкоторыя вѣтви ихъ, удалившись въ глубину Ѳракіи и Иллиріи, долго въ тамошнихъ неприступныхъ горахъ сохраняли свою народность (§11. 11).
Соображая не только возможную, но и весьма вѣроятную давность поселеній Славянскихъ на Балканскомъ полуостровѣ, еще болѣе природу страны, какъ бы служащей продолженіемъ М. Азіи, этого Азіатскаго моста цивилизацій, по выраженію Риттера, а также всегдашнее и постоянное тяготѣніе народовъ Европейскихъ къ Азіи, своей прародинѣ, никогда не перестававшей дѣйствовать на народы какъ-то особенно обаятельно, соображая все это, мы рѣшительно отказываемся отъ возможности указать на время, когда въ первый разъ могли явиться Славянскія поселенія въ М. Азіи, и не видимъ причины предполагать, чтобы они не могли появиться въ ней весьма задолго до VII в. по P. X. [1].
1. Я разумѣю здѣсь Черноморскій берегъ Малой Азіи, какъ издревле доступный Славянамъ. Природа страны была причиною, что Черноморскій берегъ Малой Азіи и восточная часть Балканскаго полуострова были издревле населены народомъ одноплеменнымъ. Иродоть говоритъ: Θρηὶκες δὲ διαβάντες μὲν ἐς τὴν Ασίην ἐκλήθησαν Βιθυνοί (7, 75). Нужно помнить слѣдующія слова глубокомысленнаго К. Риттера: «старый свѣтъ открылъ обширный театръ для исторіи отъ востока до запада, а въ этомъ направленіи, сообразно съ распредѣленіемъ пространствъ и климатическимъ единствомъ, изъ корня стараго свѣта, въ теченіи историческихъ тысячелѣтій и еще ранѣе, развилась большая система миграцій народовъ и ихъ цивилизацій и культуръ отъ востока къ западу. Но такъ какъ всегда, въ началѣ и концѣ существованій, воспоминанія и символы временъ прошедшихъ, также какъ и прежнихъ отечествъ очень живо дѣйствуютъ, то западу земнаго шара, отъ его юности и дѣтства, осталось воспоминаніе о востокѣ и стремленіе къ нему, и такія то воспоминанія пробуждаютъ въ насъ надежду на будущее, которое вообще можетъ быть только развитіемъ прошедшаго» (Землевѣдѣніе Азіи. К. Риттера. Перев. И. Семенова. Ч. I. С. 105). Нѣть сомнѣнья, что въ IV в. до P. X. воспоминанія Кельтовъ объ Азіи были еще весьма свѣжи, почему и весьма вѣроятно, что онѣ были однимъ изъ главнѣйшихъ побужденій переселенія въ Малую Азію 20 тысячъ Кельтовъ, подъ именами Толистобоевъ, Трокмовъ и Тектосаговъ.
![]()
125
Вспомнимъ, что въ VI в. по словамъ Прокопія (552 г.) и Іорнанда (ок. 552 г.) могущественный и многочисленный народъ Славянскій, Анты, жилъ на, Понтѣ между Днѣстромъ и Днѣпромъ.
Въ этихъ же мѣстахъ жили они и въ IV в. по P.X., а во II в., какъ видно изъ словъ Плинія, нѣкоторыя Славянскія вѣтви (Сербы) жили по Дону, который въ древнемъ Скандинавскомъ сказаніи называется рѣкою Славянскою «Wanaquisl».
Чтобы по возможности удовлетворительно отвѣчать на вопросъ — была ли доступна М. Азія этимъ Славянамъ за долго до IX—X в., какъ была она доступна потомкамъ ихъ Русскимъ Славянамъ въ пройденный уже нами періодъ времени IX—XVII в., чтобы, повторяю, отвѣчать на этотъ вопросъ какъ можно удовлетворительнѣе, мы прежде, чѣмъ разсмотримъ и переберемъ въ своей памяти всѣ относящіяся сюда свѣдѣнія и соображенія, постараемся указать на неправильность нѣкоторыхъ мнѣній о характерѣ Славянъ Русскихъ.
IX. Къ сожалѣнію еще по недавнее время раздавались голоса, отрицающіе почти всякую способность движенія и дѣятельности въ Славянахъ Русскихъ до Варяговъ. Это какъ бы послѣдніе отголоски и остатки нѣкогда весьма сильнаго и многораспространеннаго воззрѣнія на древнихъ Славянъ, пущеннаго въ оборотъ Гебгарди и другими авторами, которые вообще не
![]()
126
отличались особеннымъ безпристрастіемъ взгляда на Славянъ. Строго и рѣзко, но не несправедливо, отозвался однажды Шафарикъ о такомъ воззрѣніи, по которому — «холопство и рабство, подданство и невольничество были вѣчнымъ удѣломъ Славянъ».
«Къ великому нашему счастію, замѣчаетъ Шафарикъ, источники исторіи древнихъ Славянъ представляютъ намъ совершенно противное, а потому, если бы кто рѣшился, во что бы то ни стало, приписывать всю эту безстыдную ложь и хитрыя клеветы народу великому и занимающему отличное мѣсто въ исторіи человѣчества, тотъ долженъ бы прежде всего, для избѣжанія улики въ обманѣ и напраслинѣ, истребить всѣ упомянутые источники, чего разумѣется никогда не удастся ему. Пока будутъ эти источники, до тѣхъ поръ, надѣемся, будутъ и мужи, которые, безъ всякаго предубѣжденія, станутъ черпать правду п смѣло защищать ее отъ клеветъ пристрастныхъ и безсовѣстныхъ писакъ, когда бы и гдѣ бы они ни явились» [1].
Нѣкоторые, рисуя себѣ Славянъ совершенно невоинственными, народомъ, легко гнувшимъ шею и равнодушшнымъ къ рабству, и безмѣрно возвышая доблести Варяговъ, полагали даже возможнымъ найти подтвержденіе своихъ словъ въ мнѣніи Шафарика о характерѣ древнихъ Славянъ.
Желая какъ бы отличить Славянъ отъ Норманновъ, они называли первыхъ Naturvolk’омъ. Вѣроятно это значитъ то же, «что народъ, живущій въ простотѣ родоваго быта».
1. Слав. Древн. Русск. перев. т. I, кн. 1, с. 417—418. Здѣсь же Шафарикъ сдѣлалъ слѣдующее примѣчаніе, которое хотя и писано 20 лѣтъ тому назадъ, но къ сожалѣнію понынѣ не утратило своей цѣнности.
«Ученіе это сдѣлалось лозунгомъ новѣйшихъ Русскихъ писателей, прожужжавшихъ и намъ и себѣ уши о древнемъ нашемъ варварствѣ. Имъ, какъ основой своего вѣрованія, хотятъ они воспламенить въ народѣ своемъ любовь къ Славянскимъ древностямъ (исторіи) языку и словесности, возбудить къ себѣ довѣріе и утвердить въ немъ чувство, самобытности. На этомъ ученіи (потому что въ области наукъ все связано тѣснѣйшими узами родства) хотятъ они основать народное ученіе и славу». Узкое и вполнѣ ложное направленіе, обличающее всю незрѣлость нашей образованности, — видѣть и искать въ древней Руси однѣ только темныя стороны, встрѣтило, слава Богу, въ послѣднее время въ ученой литературѣ нашей смѣлый и сильный протестъ. Мнѣ пріятно здѣсь особенно указать на превосходный разборъ соч. г. Чичерина, напис. многоуважаемымъ, почтеннымъ юристомъ нашимъ H. В. Калачовымъ, на ст. гг. Бѣляевыхъ, Самарина, Аксакова, Хомякова, на соч. г. Дешкова, Кастомарова, Щацова...
![]()
127
Историкъ не идилликъ; рисовать себѣ древнихъ Славянъ онъ можетъ только двояко: или то былъ народъ грубый, мало развитый умственно, но сильный, здоровый, бодрый, любящій законъ отецъ своихъ, всегда готовый постоять за свою свободу, за свои старые обычаи, за свою родину; или же то былъ народъ слабый, забитый, задавленный, повитый въ рабствѣ, слѣдовательно трусливый, подлый, хитрый, коварный.
Если Славяне, какъ говорятъ, были Naturvolk, если они жили въ необузданной анархіи (zügellösige Anarchie), то конечно справедливъ первый взглядъ о Славянахъ и несправедливъ второй. Тогда какимъ же образомъ можно замѣчать, что Шведы гонялись и охотились (Jagd machten) за Финнами, Литовцами и восточными Славянами? Славянъ было больше Шведовъ и они не спускали имъ, какъ то извѣстно изъ лѣтописей и какъ слѣдуетъ предполагать согласно всѣмъ извѣстіямъ о характерѣ древнихъ Славянъ: 1) «изъгнаша Варяги за море и не даша имъ дани и почаша сами въ собѣ володѣти». 2) «Варязи бяху мнози у Ярослава, и насилье творяху Новгородцемъ и женамъ ихъ. Вставше Новгородци избита Варягы во дворѣ Поромони, и разгнѣвася Ярославъ».
Положимъ даже наконецъ, что незабвенный Шафарикъ нашъ когда нибудь говорилъ такимъ образомъ о Славянахъ Русскихъ, и все таки строгая критика не позволила бы остановиться на нихъ, какъ на послѣднемъ, не допускающемъ никакой апеляціи, рѣшеніи. Въ такомъ случаѣ слѣдовало бы обратиться къ языку Славянскому и доказать, что онъ весьма бѣденъ словами военнаго и морскаго дѣла, опровергнуть то, что военныя и морскія слова почти общи всѣмъ Славянскимъ нарѣчіямъ, слѣд. вещи и предметы, обозначаемые, были извѣстны имъ издревле, опровергнуть то, что въ народной поэзіи Славянской, въ пѣсняхъ Чеховъ, Словаковъ, Сербовъ, Хорватовъ, Болгаръ, Малороссіянъ, Великороссіянъ, Лужичанъ, Поляковъ выражается духъ не подлый, не рабскій, а свободный, съ такимъ же духомъ народъ немогъ не создать себѣ средствъ защиты и обороны, опровергнуть то, что Славяне не отразили, не спасли свою западную братью отъ дикихъ полчищъ Татаръ и Турокъ и тѣмъ дали ей возможность посвятить свои силы другимъ трудамъ, подъять которые въ то
![]()
128
время Славянамъ было физически невозможно, опровергнутъ то, что лѣтописи каждаго народа Славянскаго говорятъ почти на каждой страницѣ своей, что въ нихъ всегда жила любовь къ родинѣ, самобытности, если и падали, то не безславно и не безъ сопротивленія, и быть можетъ ошибочно, но твердо вѣрятъ понынѣ:
Тотъ, кто палъ, возстанетъ вновь;
Много милости у Бога,
Безъ границъ Его любовь.
Но Шафарикъ никогда не могъ и подумать ничего подобнаго. Шафарикъ напротивъ указываетъ на географа баварскаго, «доказывающаго, что у Славянъ Русскихъ были укрѣпленные города, Нестора, показывающаго, что Русская земля была населена многочисленными Славянскими поколѣніями, съ твердыми городами еще до прибытія Варяговъ, народами, по свидѣтельству его и вообще цѣлой исторіи, предпочитавшими свободу самой жизни, о которой Матвѣй епископъ Краковскій (около 1150 года) воскликнулъ: «Русь.... это словно иной міръ.... народъ Русскій безчисленнымъ множествомъ своимъ равняется однимъ лишь звѣздамъ (Ruthenia... quae quasi est aller orbis... gens Ruthenica multitudine innumerabili ceu sideribus adaequata»). И объ этой-то землѣ угодно было нѣкоторымъ новѣйшимъ Русскимъ писателямъ, Сенковскому, Муравьеву, и подобнымъ имъ, утверждать, въ одномъ мѣстѣ, что это было изпоконъ вѣка наслѣдственное достояніе Скандинавовъ, въ которое Рюрикъ вовсе не былъ приглашенъ, но вступилъ по праву наслѣдства, а въ другомъ, что она составляла до времени самого Владиміра безпредѣльную пустыню, въ коей только тамъ и сямъ скитались бѣдныя семейства кочующихъ звѣролововъ и скотопитателей»...
Славяне не были хитры, коварны, лукавы, какъ бываетъ всякой народъ слабый, повитый въ рабствѣ: Прокопій (552 г ), не имѣвшій никакой нужды особенно хвалитъ ихъ и имѣвшій напротивъ того много причинъ не быть къ нимъ расположеннымъ, такъ между прочимъ говоритъ о Славянахъ:
«Славяне и Анты не повинуются одному человѣку, а живутъ въ димокрятіи издревле, почему и выгода и невыгода, все у нихъ общее....
![]()
129
Вступая въ битву, многіе идутъ на непріятеля пѣшкомъ, имѣя у себя въ рукахъ маленькіе щиты и копья. Панцыря не надѣваютъ: нѣкоторые идутъ на непріятеля даже безъ исподняго платья и плаща, а только въ латахъ. У тѣхъ и другихъ языкъ варварскій одинъ и тотъ же. Не различаются они между собою и тѣлосложеніемъ. Всѣ они высоки ростомъ и весьма сильны [1] ... Ведутъ, подобно Массагетамъ, жизнь суровую и непривольную, всѣ, подобно же имъ, грязны и нечисты. Характеръ ихъ не хитрый и не коварный; съ простотою сохраняютъ во многомъ Гунскій образъ жизни».
— Такъ писалъ о Славянахъ и Антахъ въ VI в. Прокопій — извѣстія о походахъ и грабежахъ ихъ на полуостровѣ Балканскомъ въ VI и слѣд. вѣкахъ сильны убѣдить всякаго въ справедливости его словъ о ихъ воинственности. Морскіе грабежи Славянъ Македонскихъ и Адріатическихъ, поселенія Славянъ въ Мореѣ и въ М. Азіи, переходы къ Арабамъ, участіе въ ихъ войскѣ не позволяютъ добросовѣстному ученому и на мигъ усомниться въ присутствіи въ нихъ дерзкой отваги, удальства и предпріимчивости. Императоръ Маврикій (582—602 г.) нашелъ нужнымъ въ соч. своемъ «О военномъ дѣлѣ» помѣстить цѣлую главу о томъ, какъ надо сражаться съ Славянами и Антами.
«У Славянъ и Антовъ, говоритъ онъ, образъ жизни и нравы одинакіе, всѣ они свободны, ничѣмъ не заставить ихъ поддаться или подчиниться. У себя на родинѣ они весьма сильны и сносливы, удобно переносятъ и холодъ и жаръ и наготу тѣла и голодъ».
Далѣе онъ разсказываетъ о ихъ гостепріимствѣ, объ обращеніи съ рабами и плѣнниками, которыхъ они не оставляютъ у себя въ вѣчной неволѣ, подобно другимъ народамъ (ὡς τὰ λοιπὰ ἒθνη), а въ извѣстный срокъ освобождаютъ;
1. Ибнъ-Фодланъ, описывая Руссовъ, говоритъ (въ перев. Френа): «Nie sah ich Leute von ausgewachsenerm Körperbau; sic sind hoch wie Palmbäume, fleischfarben und roth». Іорнандъ, описывая Скандинавовъ, скаzалъ: «Hae itaque gentes Romanis corpore et animo grandiores, infestae saevitia pugnae». Слѣдуетъ ли изъ этого, что Руссы Ибнъ-Фодлана непремѣнно были Шведы? Гриммъ не признаетъ за Нѣмцевъ этихъ Руссовъ (I. Grimm — Ueber das Verbrennen der Leichen. 1830. S. 69—70). Марко Поло, говоря о Русскихъ, а Бонфини — о Чехахъ, удивляются ихъ высокому росту. Довольно наконецъ взглянуть на наши гвардейскіе полки, чтобы не считать высокій ростъ исключительною принадлежностью однихъ Шведовъ и Нѣмцевъ.
![]()
130
говоритъ о томъ, что они любятъ сражаться съ непріятелемъ въ ущельяхъ, въ мѣстахъ неприступныхъ, употребляютъ хитрости, весьма привычны къ водѣ и лучше и дольше другихъ людей умѣютъ держаться въ ней (ἐν πείρᾳ δὲ εἰσὶ καὶ τῆς ποταμῶν δίαβάσεος ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους). Каждый изъ нихъ вооруженъ двумя копьями, нѣкоторые же изъ нихъ и крѣпкими щитами, весьма однако неудобными для переноски. У нихъ деревянные луки и маленькія стрѣлы, которыя они намазываютъ ядомъ, дѣйствующимъ на смерть, если не принять противуядія» и т. д.
— Почти въ тѣхъ же словахъ описываетъ Славянъ Левъ VI Мудрый (886—911 г.). «Но такими они могли казаться только Византійцамъ, отнюдь же не Нѣмцамъ»; вспомните въ такомъ случаѣ державу Моравскую, Святополка, Болеслава Польскаго, Братислава II, Собѣслава I Чешскихъ и т. д. — Сравните, что говорятъ лѣтописцы западные о Славянахъ Балтійскихъ — о ихъ воинской опытности на сушѣ и на морѣ, напр. о Лютичахъ — haec gens terra manque proeliari perita erat, о ихъ морркихъ грабежахъ, упорствѣ, любви къ свободѣ и пр. Гельмольдъ говоритъ о Ваграхъ, что на нападенія Датчанъ они вниманія не обращаютъ и даже находятъ особое наслажденіе биться съ ними. Указываю для примѣра на нѣкоторыя свидѣтельства западныя о характерѣ Славянъ: 1) Slavi servitutis jugum armata manu submoverunt, tantaque animi obstinacia libertatem defendere nisi sunt, ut prius maluerint mori, quam christianitatis titulum resumere aut tribu ta solvere Saxonum principibus (Гельмольдъ). 2) Slavi bellum quam pacem elegerunt, omnem miseriam carae libertati posiponentes.... transeunt dies plurimi... illis pro libertate.. varie certantibus. (Витикиндъ). — 3) Liuticis.... dominus specialiter non praesidet ullus; unanimi consilio ad placitum suimet necessaria discutientes, in rebus efficiendis omnes concordant. (Диттмаръ Мерзебургскій). — 4) Multae sunt insulae in hoc sinu, quas Dani et Sueones omnes habent in sua ditione, aliquas etiam Slavi tenent. — Illarum autem insularum, quae Slavis adjacent, insigniores accepimus tres. Quarum prima Fembre vocatur. A lira est contra Wilzos posita, quam Raui vel Runi possident, fortissima Slavorum gens, extra quorum sententiam de publicis rebus nihil agi lex est, ita illi metuuntur propter familiaritatem deorum vel potius daemonum, quos majori cultu ceteris venerantur.
![]()
131
Ambae igitur hae iusulae piratis et cruentissimis latronibus plenae sunt, qui et nemini parcunt ex transeuntibus. (Адамъ Бременскій). 5) Germania .... gentibus incolitur quam plurimis, ferocissimis... inter quas una ceteris crudelior.... gens Leuticorum barbara, omni crudelitate ferocior. (Глаберъ Родульфъ). 6) Est naraque hujusmodi genus hominum durum et laboris patiens, victu laevissimo assuetum, et quod nobis gravi oneri esse solet, Slavi pro quadam voluptate ducunt. (Витикиндъ). 7) Hinc elenim saeva Danorum gens terra manque potens, inde centilida Sclavorum rabies barbarorum frendens inhorruit, Ungrorum nihilominus insecuta crudelitas. (Руотгеръ. Жизнеоп. Брунона пис. ок. 966—7 г.). Можно бы было весьма много привести примѣровъ, несомнѣнно доказывающихъ, что Славяне Русскіе, являющіе чудные подвиги храбрости, удальства, отваги и предпріимчивости, съ XI в. до наст. врем., обязаны тому вовсе не Норманнамъ, а своимъ прирожденнымъ качествамъ [1]. Нельзя было и Шведамъ охотиться на нихъ. —
1. Вообще обращающіяся у насъ мнѣнія о недостаткѣ энергіи и воинственности у Славянъ держатся благодаря слабому нашему знанію, а проще и полному невѣдѣнію Славянской исторіи. Военныя и морскія лѣтописи XVI—XIX стол. южныхъ Славянъ, Поляковъ и Русскихъ, исполнены извѣстій о чудныхъ подвигахъ удальства, храбрости и предпріимчивости, нерѣдко запечатлѣнныхъ высокимъ героизмомъ и великимъ военнымъ геніемъ. Въ XV в. Чехи безспорно имѣли лучшее войско въ Европѣ и считались учителями военнаго искусства. Мартинъ Майеръ, совѣтникъ Баварскій, въ письмѣ своемъ къ Григ. Геймбургу, 1467 г. 12 янв., говоритъ между прочимъ: «Bohemi in re militari expertissiini et armipotentes multi sunt, et ceterae militares opes ab eis quasi rivuli a fonte per plurmias terras derivantur». Другой современникъ историкъ Боифини такъ описываетъ Чеховъ: «Prae ceteris terrarum gentibus proceritate staturae roboreque corporum ac pulchritudine, praestantia crinium et suavitate consuetudinis, Boemi sane praecellunt; corpora comasque plus justo colunt, in habitu vestituque nitidissimi et perquam molles, ad bellum et voluptatem tantum nati; populares omnes sunt et affabiles, ad conciliandas quoque amicilias nimis idonei». Онъ же вложилъ въ уста Матвѣя Корвина, знаменитая черная рота котораго состояла изъ Чеховъ и друг. Славянъ, слѣдующую рѣчь: «Fateor, Boemos martiales esse, famosis simum genus hominum, culturae corporis studiosissimum et quam maxime crinium; cupidissimum belli et ad periculurn promptissimum. Procera sunt bis corpora et speciosa; contemptus mortis magnus inest, et persuavis hercle consuetudo». У Чеховъ XV в. учились военному дѣлу не только Поляки, Венгерцы и Русскіе, но и Нѣмцы, которые заимствовали отъ нихъ слѣдующія слова: Pistol, Bizschälen, pišt’àla, Pafezner — pawézy, pawézniky, Possatken— posádky, Haubitze, haufnice. (См. ст. Палацкаго: О walečném uměnj Čechŭw w XV stol. — Čas. Češk. Mus. 1828. Стр. 5 и сл.). Слово гетманъ перешло къ намъ отъ Чеховъ. Въ старину у Поляковъ ходила поговорка: «Со Polak, to pan, со Čech, to hetman». Злѣйшій непріятель гусситовъ говоритъ по поводу ихъ побѣдъ: «Quis Bohemico nomini non invideat, cujus victorias tempestate nostra plures numerare licet, quam reliquae gentes omnibus seculis comparare potuerint?» (Эней Сильвій. Hist. Boh. c. 88. См. Palacky. Dějiny-D. III, IV — passim).
![]()
132
Ложный ли патріотизмъ или же здравый смыслъ и простое чувство справедливости заставляютъ насъ признать всѣ подобныя положенія крайне неосновательными — пусть рѣшитъ о томъ читатель безпристрастный.
И такъ любовь къ свободѣ, упорство и ничѣмъ неискоренимая увѣренность, пока жива народность, въ томъ, что пасть окончательно не суждено, вотъ одна изъ отличительнѣйшихъ чертъ обще Славянскаго народнаго характера. Мораванинъ по нынѣ помнитъ Святополка; Сербъ всегда былъ убѣжденъ, что встанетъ снова Марко Кралевичь, увѣренъ, что святыня, которою держались Турки, теперь въ вѣрномъ и безопасномъ мѣстѣ. Разбиты ли Чехи Нѣмцами, говоритъ народная пѣсня:
Netužte, kmetie! netužte:
jуž wаm trawička wstáwá,
tako dlúho stúpaná
cuziem kopytem!
И дѣйствительно надежда не обманула Чеховъ, они одержали побѣду:
і by Němcem úpěti,
і by Němcem prnúti
i pobitie jim.
Послѣ тѣхъ страшныхъ и великихъ испытаній, какимъ подвергалась южная Россія, набѣгали иной разъ на чубатыя головы нашихъ предковъ черныя думы и сомнѣнія. Спрашивали они тогда:
А що якъ наши головы по степу-полю поляжуть,
Да ще й рôдною кровъю умыються,
Поперасколотыми шаблями покрыються!...
![]()
133
Пропаде мовъ порошина зъ дула, тая козацкая слава,
Що по всёму свѣту дыбомъ стала;
Що по всёму свѣту степомъ розляглась, простяглась;
Да по всёму свѣту луговымъ гомономъ роздалась;
Туреччинѣ да Татарщинѣ добрымъ лихомъ знати далась.
Но никогда Малороссіянинъ не отдавался тоскѣ до конца, онъ вѣрилъ крѣпко, что возьметъ свое, и не напрасно:
Тôльки Богъ Святый знавъ,
Що воôъ думавъ, гадавъ, замышлявъ,
Якъ незгодины на Украи̂нську землю посылавъ!
Отъ-же й пройшли, изыйшли злыи̂ незгодины:
Немае ни̂кого, щобъ насъ подолѣли!
Тôлько Богъ Святый знавъ,
Що вôнъ думавъ, гадавъ, замышлявъ!
Высшій идеалъ Великорусской народной поэзіи, Русскій крестьянинъ, Илья Муромецъ, не боящійся перечить Владиміру, когда тому блажь пришла у живаго мужа жену отнять, бьющій Татаръ на Куликовомъ полѣ, грозящій Турокъ всѣхъ повыгнать изъ Цареграда вонъ, Илья Муромецъ, которому Ермакъ Тимофеевичь только что племянничекъ, палъ однажды въ борьбѣ съ чужимъ богатыремъ. Тотъ уже похваляться сталъ: «зачѣмъ ты ѣздишь на чисто поле?.... ты поставилъ бы себѣ келейку при путѣ, при дороженькѣ» и т. д.
Лежитъ Илья подъ богатыремъ,
Говоритъ Илья таково слово:
Да не ладно у святыхъ Отцовъ написано,
Не ладно у Апостоловъ удумано:
Написано было у Святыхъ Отцовъ,
Удумано было у Апостоловъ:
Не бывать Ильѣ въ чистомъ полѣ убитому;
А теперь Илья подъ богатыремъ.
Лежучи у Ильи втрое силы прибыло,...
Скоро Илья посправился, «недосугъ Илюхѣ много спрашивать», скоро отсѣкъ нахвальщинѣ его буйну голову, и пріѣхавъ на заставу богатырскую, бросилъ голову о сыру землю —
![]()
134
При своей братьѣ похваляется:
«Ѣздилъ во полѣ тридцать лѣтъ,
Экаго чуда не наѣзживалъ» [1].
1. Я не знаю другой пѣсни, въ которой бы лучше себя выразилъ, сознательно илй безсознательно, народъ Русскій за послѣднія двѣсти лѣтъ. Въ ней живо рисуется его крѣпостная неволя, въ ней слышенъ отвѣтъ на тѣ упреки и насмѣшки, которыми осыпали его иные, тѣмъ ожесточеннѣе, чѣмъ больнѣе ихъ поражало его внѣшнее могущество, имъ созданное при неволѣ, чѣмъ яснѣе имъ представлялось его будущее значеніе при волѣ ; въ ней же и крѣпкая вѣра въ себя и въ свои силы, которымъ въ моготу всякое горе, твердая надежда на будущее, не смотря на тягость настоящаго, твердая, потому что основана на прошедшемъ, изъ котораго многому, всему лучшему суждено прорости въ будущее. Кажется, не лишнимъ будетъ цѣликомъ привести всю оту пѣсню, записанную почтеннымъ нашимъ собирателемъ г. Гуляевымъ
Не отъ пламечка, не отъ огничка
Загаралася въ чистомъ полѣ ковыль трава ;
Добирался огонь до бѣлаго до камешка :
Что на камешкѣ сидѣлъ младъ ясенъ соколъ.
Подпалило то у ясна сокола крылья быстрыя;
Ужъ какъ пѣшь ходитъ младъ ясенъ соколъ по чисту полю.
Прилетали къ ясну соколу черны вороны ;
Они граяли, смѣялись ясну соколу ;
Называли они ясна сокола вороною :
Ахъ, ворона, ты, ворона, младъ ясенъ соколъ !
Ты, зачѣмъ, зачѣмъ, ворона, залетѣла здѣсь ?
Отвѣтъ держитъ младъ ясенъ соколъ чернымъ воронамъ:
Вы не грайте, вы не смѣйтесь, черны вороны ;
Какъ отрощу я свои крылья соколиныя,
Поднимусь то я, младъ ясенъ соколъ, высокошенько,
Высокошенько поднимусь я, младъ ясенъ соколъ, ко поднебесью;
Опущусь я, младъ ясеиъ соколъ, ко сырой землѣ,
Разобью я ваше стадо, черны вороны ,
Что на всѣ ли на четыре стороны ;
Вашу кровь пролью я въ сине море ,
Ваше тѣло раскидаю по чисту полю,
Ваши перья я развѣю по темнымъ лѣсамъ.
Что когда го было ясному соколу пора-времечко,
Что леталъ то младъ ясенъ соколъ по поднебесью ;
Убивалъ то младъ ясенъ соколъ гусей, лебедей,
Убивалъ то младъ ясенъ соколъ сѣрыхъ уточекъ !
Что когда то было добру молодцу пора-времечко,
Что ходилъ то, гулялъ добрый молодецъ на волюшкѣ,
Какъ теперь то добру молодцу поры-время нѣтъ.
Засаженъ то сидитъ добрый молодецъ во побѣдности,
У злыхъ вороговъ, добрый молодецъ, въ земляной тюрьмѣ.
Онъ не годъ то сидитъ, добрый молодецъ, и не два года,
Что сидитъ то добрый молодецъ ровно тридцать лѣтъ.
Что головушка у добра молодца стала сѣдешенька,
Что бородушка у добра молодца стала бѣлешенька.
А все ждетъ онъ поджидаетъ выкупу, выручки.»
Въ наше время уже можно прибавить: «Будетъ выкупъ, будетъ выручка — своя волюшка».
![]()
135
Рѣшительно, кажется, безъ всякаго основанія утверждали нѣкоторые, будто бы князья XI, XII, XIII в. наслѣдовали въ весьма слабой степени отвагу и энергію своихъ Варяжскихъ предковъ, что характеры Ольги и Рогнѣды являются совершенными особняками въ древней Россіи.
Мы не станемъ говорить здѣсь ни о царевнѣ Софіи, ни объ Анастасіи, ни о Марѳѣ Посадницѣ, ни объ Евпраксіи, Ефросініи, Февроніи, Юліаніи, ни о мачехѣ Мономаха и многихъ другихъ, ни о томъ, что когда по взятіи Новагорода въ 1478 г., по приказу вел. князя Ивана Васильевича всѣ Новгородскіе граждане были приводимы его дѣтьми боярскими къ присягѣ, къ крестному цѣлованію, то по словамъ Львовской лѣтописи : «и всѣ цѣловали люди, и жены боярскія вдовы, и люди боярскіе»; пройдемъ мимо и статью Русской Правды о вдовѣ, а спросимъ только, неужели Русской народъ занялъ отъ Шведовъ высокое уваженіе къ святости семейной жизни, постоянно выражаемое и въ пословицахъ, и въ пѣсняхъ, и въ памятникахъ старой Русской словесности, и величавые образы честной вдовы Амелфы Тимофѣевны, матери шаловливаго Васьки Буслаева, старенькой вдовы Коновчихи, матери молодаго Ивася Коновченка, молодой княгини, жены Василія князя, что потонулъ отъ золота вѣнца идучи, и молодой жены Василисы Даниловны, такъ геройски скончавшейся? Отчего же наконецъ любилъ народъ Ольгу, если она была такая истая Шведка? сохранились ли бы о ней свѣтлыя народныя воспоминанія, если бы она не отвѣчала тогдашнимъ идеальнымъ представленіямъ Славянъ Русскихъ о женщинѣ, о княгинѣ? [1]
1. Ихъ соплеменники имѣли Ванду, Любушу и ея сестеръ, Людмилу и ир. Вспомните Чешское преданіе о войнѣ женщинъ. Вообще нельзя не замѣтить, что если Ольга и слово Нѣмецкое, то изъ того еще однако не слѣдуетъ, чтобы и княгиня Ольга была Нѣмка. Она же была изъ Пскова. Сколько Русскихъ Жановъ, Жаковъ, Мари! Ея умъ еще. не доказываетъ ея Нѣмецкаго происхожденія. Есть вѣдь и Славянки умныя, не глупѣе Нѣмокъ. То же могло быть и сотни лѣтъ тому назадъ. Сынъ ея Святославъ — чистый Славянинъ, Запорожецъ.
![]()
136
Если бы Владиміръ былъ настоящій Варягъ, то и о немъ не имѣлось бы такихъ же свѣтлыхъ народныхъ воспоминаній, и онъ бы не спроваживалъ такъ нелюбезно своихъ соплеменниковъ? И чѣмъ наконецъ Рюрикъ, Синеусъ, Труворъ, Олегъ и Святославъ и пр. герои возвышеннѣе, лучше и величавѣе Ярослава, Мстислава, Владиміра Мономаха, Изяслава, Ростислава, Мстиславовъ, Романа, Даніила и всѣхъ ихъ сотрудниковъ на поляхъ ратномъ, книжномъ, гражданскомъ? чѣмъ они лучше всѣхъ извѣстныхъ и безызвѣстныхъ намъ добрыхъ страдальцевъ за Русскую землю, строившихъ храмы и монастыри, проповѣдывавшихъ Христіанство словомъ и дѣломъ, писавшихъ лѣтописи, учившихъ добру и книжной мудрости своихъ современниковъ, бившихся съ Половцами, съ Литвою, со Шведами, съ Татарами, съ Нѣмцами, постепенно, но вѣрно раздвигавшихъ границы Руси, распространявшихъ Русскій языкъ? и пр. и пр. Чѣмъ какѣ не удалью, отвагою и молодечествомъ отличалась и сѣверная и южная Русь и въ XII и въ ХIII в.? Неужели Шведская кровь билась въ жилахъ несчастнаго князя Василька, когда тотъ мечталъ
рекохъ въ умѣ своемъ: «оже ми будуть Берендичи и Печенѣзи и Торци, реку брату своему Володареви и Давыдови: дайтами дружину свою молодшюю, а сама пійта и веселитася; и помыслихъ: на землю Лядьскую наступлю на зиму, и на лѣто и возьму землю Лядьскую и мьщу Русскую землю; и по семъ хотѣлъ есмь переяти Болгары Дунайскыя, и посадили я у собе; и посемъ хотяхъ проситися у Святополка и Володимира ити на Половци, да любо налѣзу собѣ славу, а любо голову свою сложю за Русскую землю».
Нечто тоже Шведъ былъ Изяславъ, говорившій: «Богъ иногда Русскыя землѣ и Русскихъ сыновъ въ безчестьѣ не положилъ есть; на всѣхъ мѣстахъ честь свою взимали суть. Нынѣ же, братье, ревнуимо тому вси: у сихъ земляхъ, и передъ чюжими языки, дай ны Богъ часть свою взяти». Развѣ слабодушному, вялому народу принадлежатъ Задонщина, Слово о Полку Игоревѣ?
![]()
137
Нечто оно тоже обличаетъ Варяжское вліяніе? Слава Богу, какъ ни далеко еще мы ушли въ Русской исторіи, однако въ настоящее время уже нельзя безъ добродушной, но вмѣстѣ и грустной улыбки, вспоминать даже о такомъ мнѣніи равно, какъ и о словахъ Шлецера, будтобы удальство и буйство Новгородцевъ обличаютъ въ нихъ переродившихся Нѣмцевъ, Шведовъ. Нельзя не уважать заслугъ и дарованій Шлецера, но нельзя не сознаться, что онъ бывалъ иногда нѣсколько самонадѣянъ и брался судить о томъ, чего ясно не понималъ [1]. По суду безпристрастнаго, не меньше его оказавшаго услугъ Русской исторіи, и столь же даровитаго, Шафарика, величайшаго знатока Славянщины, «нашъ славный учитель» былъ «очень недалекъ во всемъ Славянскомъ».
Нельзя такимъ образомъ согласиться съ тѣми, что упрекаютъ Шафарика въ непослѣдовательности за его объясненіе извѣстнаго мѣста Ѳеофилакта о Славянахъ. Шафарикъ разумѣлъ Славянъ невоинственными въ томъ смыслѣ, что они не жили исключительно грабежемъ и насиліями, а не въ томъ, что легко переносили чужія обиды. Напрасно также, кажется намъ, упрекали нѣкоторые Палацкаго за его мнѣніе, ни болѣе ни менѣе какъ справедливое, о томъ, что Фредегарово описаніе обращенія Аваровъ со Славянами понимать буквально нельзя и не слѣдуетъ. Зачѣмъ было забывать слова Славянскаго вождя, сказанныя имъ Аварскимъ посламъ ок. 565 г.: «кто въ подсолнечной можетъ разбить и подчинить нашу силу? Мы обыкновенно отнимаемъ земли у другихъ, а не другіе у насъ ; наше останется при насъ, пока будутъ войны и мечи».
1. Вотъ эти достопамятныя слова: «Варяги долгое время составляли большую часть жителей Новгородскихъ, почему и языкъ ихъ (древне-Шведскій) остался здѣсь въ преимущественномъ употребленіи. Сильная привязанность Новогородцевъ къ свободѣ, которая во все продолженіе средняго вѣка часто выказывается сверхъ мѣры, заставляетъ также заключать, что они Варяжскаго происхожденія». (Шлец. Несторъ. I, XX. С. 342 и сл.). Шлецерь былъ недоволенъ Грамматикою Ломоносова. Таубертъ ему сказалъ: «Schreiben sie selbst eine russiscbe Grammutik, die Akademie soll sie drucken lassen. Ich nehme den Auftrag an». Въ своей грамматикѣ производитъ Шлецерь слово бояринъ отъ барана; сл. князь отъ khecht; сл. дѣва отъ dieb, tief и tiffe — сука.
![]()
138
Почему же только при отсутствіи строгаго, безпристрастнаго историческаго взгляда можно предположить о Славянскомъ происхожденіи извѣстнаго вождя Славянскаго возстанія противъ Аваровъ, знаменитаго Само?
Позволяемъ себѣ заключить замѣчанія наши о характерѣ Славянъ, объ ихъ удали и предпріимчивости словами знаменитаго ученаго Арабскаго XI вѣка, котораго одинъ изъ лучшихъ знатоковъ дѣла, Дози, ставитъ такъ высоко, какъ едва ли возможно поставить многихъ его западно-Европейскихъ современниковъ и по учености, и по уму, и по дарованіямъ; разумѣю слѣд. слова славнаго географа Абу-Обеид-иллах-аль-Бекри († 1094 г.), которыя привожу во Французскомъ переводѣ Шармуа: «Les Slaves sont une nation redoutable, puissante et impétuese. S’ils n’eussent été divisés en un grand nombre des races et des tribus différentes, aucune nation au monde ne leur eût tenu tête [1].
Для того, чтобы дать возможно полный, обстоятельный и удовлетворительный отвѣтъ на вопросъ — посѣщали ли Славяне Русскіе М. Азію и до IX—X в., мы должны еще прибѣгнуть къ нѣкоторымъ другимъ соображеніямъ.
Несторъ говоритъ:
«Отъ сихъ же 70 и 2 языку бысть языкъ Словѣнескъ отъ племени Афетова, Норци, еже суть Словѣне. — По мнозѣхъ же времянѣхъ сѣли суть Словѣни по Дунаеви, гдѣ есть нынѣ Угорьска земля и Болгарьска. Отъ тѣхъ Словѣнъ разидошася по землѣ и прозвашаея имены своими, гдѣ сѣдше на которомъ мѣстѣ: яко пришедше сѣдоша на рѣцѣ имянемъ Морава и прозвашася Морава».
А въ другомъ мѣстѣ у него же читаемъ:
«Дулѣби живяху по Бугу, гдѣ нынѣ Вельыняне, а Улучи, Тиверьци сѣдяху по Днѣстру, присѣдяху къ Дунаеви; бѣ множьство ихъ, сѣдяху бо по Днѣстру оли до моря, суть гради ихъ и до сего дне; да то ся зваху отъ Грекъ великая Скуѳь».
1. Почти такъ же говоритъ о Славянахъ Иродотъ Арабскій, Массуди. Шармуа приводитъ слѣдующія слова Казвини (1275): «Les Slaves, dit Massoudy, se composent de différentes peuplades qui se font la guerre: si la discorde ne régnait entre eux, aucune nation no pourrait leur résister pour la force et l’audace». (Charm. p. 340).
![]()
139
И такъ Славяне издревле жили по Дунаю, въ Панноніи [1]. Уже въ III и IV в. по P. X., а можетъ и раньше, простирались ихъ жилища до устьевъ Дуная, отчего конечно и Черное море рано стало доступно имъ [2].
По Бугу, Днѣстру и Днѣпру жили Дулѣбы, Угличи [3] и Тиверци (яже суть Толковины), безъ сомнѣнья задолго до IX в. : они были многочисленны, имѣли города. Поселенія ихъ простирались до моря.
Дѣйствительно Іорнандъ въ VI в. помѣщаетъ сильнѣйшихъ изъ Славянъ, Антовъ на Понтѣ, между Днѣстромъ и Днѣпромъ (qua Ponticum mare curvatur a Danastro extenduntur usque ad Danaprum, quae flumma multis mansionibus ab invicem absunt).
Очень вѣроятно, что Анты жили почти въ тѣхъ же мѣстахъ и въ IV в. [4]
Такимъ образомъ и съ этой стороны Черное море рано стало доступно имъ.
Стоитъ припомнить только — походъ Олеговъ на Цареградъ, опустошительный походъ Игоревъ въ М. Азію въ 944 г. [5]; походъ Аскольдовъ 866 г., походъ Руссовъ въ Малую Азіи по извѣстію Житія св. Георгія Амастрійскаго и пр.; стоитъ, говорю, припомнить только, что еще въ X в. Черное море называли Русскимъ, что Константинъ Порфирородный при описаніи пороговъ Днѣпровскихъ даетъ имъ названія и Славянскія и Варяго-Русскія, Варяжскія, Скандинавскія, которыя безъ всякаго сомнѣнія образовались позднѣе, а не на оборотъ;
1. Богухвалъ говоритъ: «scribitur enim in vetustissimis codicibus, quod Pannonia sit mater et origo omnium Slavonicarum nationum».
2. Zeuss. S. 592. — Шафар. Сл. Др. § 8. 8.
3. Угличи, какъ остроумно замѣтилъ Надеждинъ, были, конечно, жители Угла, Буджака. «О мѣстоположеніи древняго города Пересѣчена» (въ Зап. Одесск. Общ. Ист. и Древн.).
4. Шафар. § 8. 8.
5. «Иде Игорь на Греки; яко послаша Болгаре вѣсть ко царю, яко идуть Русь на Царьградъ скедій 10 тысящь. Иже поидоша и приплуша, и почаша воевати Виѳаньскія страны, и воеваху по Понту до Ираклія и до Фафлагоньски земли, и всю страну Никомидійскую поплѣнивше, и Судъ весь пожгоша», и пр. Р. Л. I, 18.
![]()
140
стоитъ, говорю, припомнить только, что Олегъ ходилъ въ походъ на Грековъ не съ Варягами одними, какъ конечно и Игорь, но и со Словѣнами (г. е. Новгородцами), Чудью, Кривичами, Мерею, Полянами, Сѣверянами, Древлянами, Радимичами, Хорватами, Дулѣбами и Тиверцами ; что, по словамъ Константина Порфиророднаго, Варяго-Руссамъ строили суда Славяне; что по Днѣпру издревле жили Славяне; что рано узнаемъ о морскихъ грабежахъ Славянъ, какъ въ Балтійскомъ, такъ въ Эгейскомъ и Адріатическомъ моряхъ; что Черное море было доступно нѣкоторымъ поколѣніямъ Славянъ еще въ IV в., по всей вѣроятности и гораздо раньше; что въ III в. Черноморскіе Готы безъ сомнѣнья въ своихъ походахъ на М. Азію пользовались Славянами, какъ туземцами, близко знакомыми съ моремъ [1]; что съ другой стороны гребежи Готовъ въ М. Азіи не могли остаться безъ послѣдствій на Славянъ, относительно ихъ знакомства съ М. Азіею; стоитъ, говорю, припомнить, что Славянскія населенія въ М. Азіи началомъ своимъ восходятъ ни въ коемъ случаѣ не позже, какъ къ VII в., а весьма вѣроятно, что и гораздо раньше; припомнивъ же все это, мы ясно поймемъ, какъ легко, неосторожно и даже безразсудно поступили бы мы, если бы стали утверждать, что Славяне Русскіе стали посѣщать М. Азію какъ отдѣльными лицами, такъ и болѣе или менѣе значительными толпами, въ первые въ IX—X в.
Выше мы видѣли необходимость признать весьма давнишнюю бытность Русскихъ поселеній въ при-Донскомъ краѣ, у Донецкаго кряжа, по Азовскому морю, въ княжествѣ Тмутороканскомъ; видѣли, что Массуди описываетъ Руссовъ Донскихъ и Азовскихъ, какъ цѣлый, осѣдлый народъ, самобытный и многочисленный, занимающійся промыслами и привычный къ морю; видѣли недбходимость согласиться съ Французскимъ оріенталистомъ Рено, положительно утверждающимъ, что то не могли быть Шведы; видѣли что этихъ Руссовъ считаетъ Массуди однокровными со Славянами и Булгарами (т. е. Дунайскими), Славянами не только аль-Истахри, но и Ибнъ-Хордатъ-Бегъ, современникъ Рюрика и Олега, умершій старикомъ въ 912 г.,
1. Pauli: Real.-Eneyclop. подъ сл. Gothen.
![]()
141
когда еще Шведы не могли утратить своей народности? видѣли необходимость допустить въ такомъ случаѣ бытность Славянскихъ поселеній въ этомъ краѣ задолго до X в. И дѣйствительно Прокопій (552 г.), упомянувъ о народахъ, жившихъ при устьяхъ Дона и по берегамъ Азовскаго моря, замѣчаетъ: «Дальнѣйшіе края на сѣверъ занимаютъ безчисленные народы Антовъ» (ἔθνη τὰ Ἀντῶν ἄμετρα ἵδρυνταε). Если Анты были многочисленны, то очень вѣроятно, что отдѣльныя поселенія ихъ простирались до устьевъ Дона и къ Азовскому морю. Въ высшей степени важное древнее народное преданіе Скандинавское гласитъ, что рѣка Донъ (Tanaquisl) рѣка Славянская (Vanaquisl); на восточной ея сторонѣ лежитъ земля Асовъ (Asaland), а въ ней городъ Asgard, въ которомъ царствовалъ Одинъ. Онъ воевалъ съ Ванами, но съ перемѣннымъ счастьемъ. Вообще онъ прославилъ себя войнами и на сушѣ и на морѣ. Потомъ онъ отправился на сѣверъ въ Скандинавію.
Прежде не придававшій этому преданью никакого историческаго значенія, Я. Гриммъ въ своей Исторіи языка уже оцѣнилъ ея историческую важность и весьма остроумно замѣтилъ, что Одинъ не напрасно носитъ эпитеты Vegtamr (wegemüd), Gângrâdr, Gângleri, y Саксона viator indefessus; почему именно Одинъ предпочтительно передъ всѣми прочими богами? «gewiss weil seine Wanderungen von Osten nach Norden unter dem Volk berühmt und eingepràgt waren. Wenn also auch dieser Züge die uns verbliebnen Lieder nicht mehr gedenken, setzen in solchen Namen sie sie oiïenbar voraus [1]».
На основаніи этихъ извѣстій мы уже не рѣшаемся не признавать Славянскаго происхожденія Плиніевскихъ Сербовъ и Птолемеевскихъ Сирбовъ, что на Дону.
Несторъ говоритъ, что Поляне и другія вѣтви Славянскія задолго до призванія Варяжской Руси платили дань Хозарамъ. Массуди говоритъ, что Славяне и Руссы служили въ войскѣ Хозарскомъ. Вообще надо замѣтить, что Массуди не смѣшиваетъ Славянъ и Руссовъ, но и не совершенно отдѣляетъ ихъ; точно такъ же и аль-Истахри; современникъ же Рюрика и Олега,
1. Gesch. d. deutsch. Spr. S. 769 f.
![]()
142
Ибнъ-Хордатъ-Бегъ прямо выражается: «Руссы изъ племени Славянъ». Массуди въ одномъ мѣстѣ замѣчаетъ, что Руссы вмѣстѣ съ Булгарами (конечно Дунайскими) и Славянами происходятъ отъ одного родоначальника. Такимъ образомъ Руссы и Славяне Массуди почти то же самое, что Славяне и Анты Прокопія, которыхъ тотъ не смѣшиваетъ, но и не совершенно отдѣляетъ.
Руссы Массуди — цѣлый осѣдлый народъ, жившій на Дону и у Азовскаго моря, многочисленный, занимающійся промыслами и привычный къ морю. Очевидно, что такой народъ не могъ явиться недавно, и дѣйствительно Арабскій историкъ аль-Табари († 923), авторъ Всеобщей Исторіи, доведенной имъ до 912 г., разсказываетъ, что при халифѣ Омарѣ, завоеватель Азербиджана Суррака бенъ-Амру, послалъ на Ширваншаха Шехріара войско подъ начальствомъ Абдуррахмана.
Щехріаръ, владѣнія котораго включали Берду съ окрестностями до Дербента, вышелъ къ Арабамъ на встрѣчу, обѣщалъ признать ихъ владычество, платить имъ дань и служить оплотомъ противъ враговъ иновѣрцевъ. По словамъ Табари это происходило въ 642 г. Онъ же вложилъ въ уста Шехріара слѣдующую рѣчь, съ которою тотъ обратился къ Арабамъ, когда они подошли къ Дербенту (Bab-el-abwab. Derbend):
«Я нахожусь тмежду двумя непріятелями Хозарами и Руссами. Эти послѣдніе враги всего міра, въ особенности Арабовъ; но вести съ ними войны, кромѣ здѣшнихъ людей, никто не умѣетъ: вмѣсто того, чтобы платить вамъ дань, мы будемъ собственными нашими средствами и собственнымъ оружіемъ вести войну противъ Руссовъ; и препятствовать имъ переступать вашу область, сочтите это намъ вмѣсто дани, мы такимъ образомъ постоянно будемъ вести войну [1]».
Въ VII и VIII в. Хозары дѣйствительно наводили страхъ на Кавказѣ и находились почти въ безпрерывныхъ войнахъ съ Арабами. Какъ ни ограничены настоящія историческія свѣдѣнія объ этихъ странахъ, однако и въ настоящее время извѣстно уже,
1. Mém. de l’Acad. des Sciences de St.-Pétersb. — Classe hist. phil. — VI. S. 455. и друг. упом. о Руссахъ. S. 456.
![]()
143
что ок. 651-2 г. Хозары взяли Дербентъ, который потомъ отняли у нихъ Арабы и уже оставили за собою. Въ войнахъ Хозаръ съ Арабами, владѣнія Ширваншаха часто подвергались опустошеніямъ первыхъ. Въ 717 г. Хозары въ числѣ 20 тыс. человѣкъ нападаютъ на Азербиджанъ, но были разбиты. Воюютъ они съ Арабами въ 720-24 г., также ок. 728 г.; въ 730 г.
Славяне Русскіе, по свидѣтельству Нестора, задолго [1] до призванія Рюрика платили дань Хозарамъ: «Козари имаху (дань) на Полянѣхъ и на Сѣверѣхъ и на Вятичѣхъ, имаху по бѣлѣ и вѣверицѣ отъ дыма».
Весьма вѣроятно, что Славяне эти не только платили дань Хозарамъ, но и помогали имъ въ ихъ войнахъ, къ чему могли побуждать ихъ многія причины, немалозначительныя, какъ взятыя отдѣльно, такъ и всѣ вмѣстѣ, а именно обязательства въ отношеніи Хозаръ [2], собственная охота подраться и пограбить....
Массуди говоритъ, что въ войскѣ Хозаръ служили Славяне и Руссы. — Въ 799 г. Хозары овладѣли Ширваномъ и Ганджою и взяли въ плѣнъ около 100 тысячь человѣкъ. Положимъ, число преувеличено; тѣмъ не менѣе такое извѣстіе заставляетъ предполагать, какъ велики были успѣхи Хозаръ въ ихъ военныхъ предпріятіяхъ. Едва ли изъ этого самого обстоятальсгва не слѣдуетъ уже, что Хозарамъ помогали другіе народы [3].
1. Срвн. слова Нестора: «И поидоста (Аскольдъ и Диръ) по Днѣпру, и идуче мимо, и узрѣста на горѣ градокъ и упрашаста, рѣста: «чій се градокъ?» они же рѣша: «была суть 3 братья, Кій, Щекъ, Хоривъ, иже сдѣлаша градокъ ось, и изгибоша, и мы сѣдимъ платяче дань родомъ ихъ Козаромъ (см. вар.)».
2. Есть основаніе думать, что Славяне дѣйствительно обязывались помогать Хозарамъ. «По сихъ же лѣтѣхъ, по смерти братьѣ сея, быша обидимы Древлями, инѣми околними, и наидоша я Козари сѣдящая на горахъ сихъ въ лѣсѣхъ, и рѣша Козари: «платите намъ дань». Съдумавше Поляне и вдаша отъ дыма мечь, и несоша Козари ко князю своему» и пр. Такимъ образомъ по народному преданію Славяне платили дань не только бѣлами и вѣверицами, но и мечами.
3. Mém. de l’Ас. VI. Ст. Ак. Дорна: Nachr. über die Chasaren. Табари говоритъ при описаніи войны Хозаръ съ Арабами въ 724—743 г.: «Der Konig von Chasar.... schickte an den Chakan und an alle Unglaübige, und forderte sie zum Kriege gegen die Musulmanen auf, worauf sie auch eingingen und sich einstellten. (S. 469).
![]()
144
Историкъ Мазандерана и Таберистана, Шахир-эд-динъ, жившій въ XV в., но безъ сомнѣнія имѣвшій передъ собою источники, до насъ недошедшіе или понынѣ еще ненайденные, говоритъ, что, современникъ Сассанида Пуширвана Великаго (532—579 г.), построившаго Дербентъ (ворота воротъ) и знаменитую стѣну и назначившаго въ различныя области Кавказа особыхъ намѣстниковъ [1], современникъ этого государя, одинъ изъ владѣтелей Кавказскихъ, Парси, имѣлъ сына Фируза, который наслѣдовалъ отцу, и «во владѣніяхъ Руссовъ, Хозаръ и Славянъ не было начальника, который бы ему не повиновался».
Анты, по свидѣтельству Прокопія, были весьма многочисленны, жили на сѣверъ отъ народовъ, обитавшихъ по берегамъ Азовскаго моря и при устьяхъ Дона. — Іорнандъ, его современникъ, называетъ ихъ сильнѣйшими изъ Славянъ, а походы ихъ на Имперію Восточную въ VI в. несомнѣнно доказываютъ ихъ воинственность. — Нельзя забывать, что востокъ, Азія, всегда имѣлъ какую то особую привлекательность для народовъ Европейскихъ; чѣмъ древнѣе времена, тѣмъ свѣжѣе были народныя преданія объ востокѣ, объ Азіи, о древней ихъ прародинѣ. Весьма вѣроятно, что Славяне и въ VI в. и гораздо раньше стремились на востокъ, въ Дагестанъ. Походъ Гунновъ въ М. Азію въ V в. несомнѣнно кажется доказываетъ, что въ Дагестанѣ до ІІуширвана, построившаго Дербентъ и стѣну, не было даже никакихъ искуственныхъ преградъ. Неизвѣстный Арабскій географъ, сочинитель Книги Странъ, жившій въ Х в., упоминаетъ о рѣкѣ Славянской на Кавказѣ; такая же рѣка Славянская упоминается на Кавказѣ и у Табари [2]. Такое названіе можетъ служить даже указаніемъ на бытность нѣкогда въ этомъ краѣ Славянскаго поселенія. Наши свѣдѣнія о Славянахъ, основанныя на извѣстіи Прокопія объ Антахъ, на упоминаніи Плиніемъ и Птолемеемъ Сербовъ на Дону, на древнемъ Скандинавскомъ преданіи объ Одинѣ,
1. Mém. de l’Ac. d. Sc. de St.-Pét. Cl. hist. phil. T. IV. Статья Акад. Дорна: Versuch einer Geschichte d. Schirwanschache.
2. Ст. И. И. Срезневскаго: Слѣды древняго знак. Русскихъ съ южной Азіей. Вѣсти. Геогр. Общ. 1854. № 1. С. 54 и 62. Mém. de l’Ac. des Sc. de St.-Pét. VI. S. 485. «lagerte am Flusse der Siklab.
![]()
145
о рѣкѣ Донѣ, какъ о рѣкѣ Славянской, о Ванахъ и пр., такія свѣдѣнія рѣшительно не позволяютъ намъ рѣзко и самонадѣянно утверждать, что въ VII и VI в., и даже несравненно раньше, Славяне не чувствовали охоты и не могли напирать на Кавказъ, не могли стать извѣстными Арабамъ, обратившимъ при хaлифѣ Омарѣ на этотъ край свои завоевательные замыслы, что Славяне однимъ словомъ не могутъ быть упоминаемы въ восточныхъ источникахъ VI и VII в. рядомъ съ Хозарами.
Точно тоже самое обязаны мы сказать и о Руссахъ. Когда появились Русскія поселенія, бывшія въ XIV и XIII в. въ при-Донскомъ краѣ? Когда появилась Русская стихія въ княжествѣ Тмутороканскомъ, въ X и XI в. пользовавшемся весьма большимъ значеніемъ? Массуди, описавшій Донскихъ и Азовскихъ Руссовъ въ первой половинѣ X в., говоритъ о нихъ, какъ о цѣломъ, независимомъ народѣ, занимающемся промыслами и привычномъ къ морю. Ибнъ-Хордатъ Бегъ, умершій старикомъ въ 912 г., ясно выразился: «Руссы изъ племени Славянъ». Рубруквисъ въ первой половинѣ XIII в. самъ видѣлъ, какъ Русскіе между Волгою и Дономъ братались съ Венграми. Константинъ Порфирородный, въ знакомствѣ котораго съ языкомъ Славянскимъ кажется нельзя сомнѣваться, писалъ, что у Мадьяръ до прихода ихъ въ Паннонію были воеводы; одинъ изъ нихъ назывался воеводою Лебедіею, отъ него же и край получилъ свое названіе, причемъ конечно не должно забывать ни Харьковскаго Лебедина, ни Тамбовскаго Лебедяня, что на Дону. Русь Угорская, Карпатская не могла появиться впервые въ ХIII и XIV в.; еще Мадьяры XIII в. не считали Русиновъ новопоселенцами и безъименный Нотарій Белы, котораго пора оцѣнить по достоинству, прямо выразился Rutheni cum Almo duce in Pannoniam venerant. Намъ кажется, что можно не соглашаться съ нашею ипотезой о Руси Скандинавской, но уже нельзя отвергать бытности Славянской Руси Донской, Азовской и Угорской, Карпатской, однимъ словомъ можно только не находить родства Руссовъ Скандинавскихъ съ Руссами Азовскими и Карпатскими, считать такое сходство чисто случайнымъ, и потому не видѣть особой нужды въ томъ предположеніи, что Ваны,
![]()
146
переселившіеся съ Одиномъ въ Скандинавію, назывались Руссами [1]; но нѣтъ возможности доказать, что слово Русь обличаетъ свое Финское происхожденіе, что это Шведское слово Rodsin — гребцы, что это послѣднее было названіемъ собственнымъ еще въ IX в., тогда какъ извѣстно, что и въ ХIII в. оно имѣло значеніе нарицательное; нѣтъ возможности, говорю, доказать, что слово Русь ее могло быть словомъ Славянскимъ, что Русины переселились въ Угры въ XIII и XIV в., что безъименный Нотарій Белы имѣлъ нужду утверждать, что Русины въ Паннонію пришли съ Мадьярами, что онъ могъ лгать объ этомъ безо всякой нужды, что только во времена Рубруквиса, а не гораздо раньше начали Русскіе между Дономъ и Волгою водить дружбу съ Венграми, что Константинъ Порфирородный говоритъ о воеводахъ, о воеводѣ Лебедіи у Мадьяръ не потому, чтобы они дѣйствительно у нихъ были, а потому, что извѣстіе о Мадьярахъ онъ получилъ изъ устъ Славянина; нѣтъ возможности, говорю, доказать, что Руссы Массуди, цѣлый, самобытный народъ, жившій по Дону и Азовскому Морю, народъ, въ смыслѣ того времени промышленный, привычный къ морю — были Шведы, а не Славяне, напр. такіе же, какъ Русь Карпатская, про которую, если не всю, то про часть ея, Мадьяры ХIII в. говорили — Rutheni cum Almo duce in Pannoniam venerant; нѣтъ, говорю, возможности доказать, что Ибнъ-Хордатъ-Бегъ разумѣлъ Варяго-Руссовъ, а не Руссовъ Массуди, утверждая: «Руссы изъ племени Славянъ»; нѣтъ возможности доказать, что эти Донскіе, Азовскіе Руссы не могли быть извѣстны гораздо раньше X, IX в., что извѣстіе Табари о Руссахъ подъ 642 г. заключаетъ въ себѣ что то невѣроятное.
Массуди говоритъ, что Руссы народъ независимый, никому не подчиненный, что, въ 912 г. отправляясь въ походъ Каспійскій, они выпросили себѣ пропускъ у Хозаръ и обѣщали имъ дать половину награбленной добычи. — Не вижу ничего невѣроятнаго въ свидѣтельствѣ Табари о Руссахъ, ибо описаніе Руссовъ Массуди заставляетъ и безъ того предположить бытность Руссовъ за долго до X, IX в.
1. См. въ Приложеніяхъ. II.
![]()
147
Выше мы нашли весьма вѣроятнымъ, что Славяне Русскіе задолго до X—IX в. должны были стремиться на Кавказъ. Напомнимъ извѣстія Ибнъ-Хордатъ Бега и неизвѣстнаго автора Книги Странъ (X в.) о Славянскихъ торговцахъ, ходившихъ въ Ибиль и Багдадъ, а также и строгій выводъ, основанный на изслѣдованіи куѳическихъ монетъ — «съ конца VIII до нач. XI в. включительно жители нынѣшней Россіи производили постоянно торговлю съ при-Каспійскими мусульманскими и огнепоклонническими владѣніями» [1].
Изрѣдка, но попадаются въ Россіи монеты Испегбедскія и Умейядскія изъ к. VII в. Табари подъ 642 г., передъ описаніемъ похода Абдуррахмана на Ширваншаха, говоритъ о городѣ Хозаръ, что на берегу моря (т. е. Каспійскаго). «Тамъ, прибавляетъ онъ, ведутся торговыя дѣла». «Da treibt man Handelsgeschäfte. Dieses ist von allen Thoren das grösste und wird Thor der Thore genannt. In jenen Städten webt man gestreifte wollene Tücher, und jenes (Thor) nennt man Derbend der Chasaren. Es fällt (liegt) gegen Rai und Jrak.» (Ст. г. Дорна S. 452).
Какъ бы то ни было, но Славяне прежде, чѣмъ стать посѣщать эти земли Каспійскія и Кавказскія съ цѣлями мирными, торговыми, должны были ознакомиться съ ними путемъ грабежа.
Въ VI в. и гораздо раньше Славяне жили на Дону; въ то время преданія объ Азіи должны были сохранять всю свою свѣжесть.
Славяне и Анты были народъ сильный, крѣпкій, отважный и воинственный. Походъ Гунновъ въ Малую Азію (въ 430 и 440 г.) не могъ имъ быть безъизвѣстнымъ и безъ сомнѣнія служилъ для нихъ примѣромъ. Въ VII в., а по всей вѣроятности и раньше, Славяне уже стремятся на Кавказъ. Зная дружелюбныя отношенія Гунновъ къ Славянамъ, и признавая въ Славянахъ стремленіе на востокъ, въ Азію, которая всегда, во всѣ времена и на всѣ народы дѣйствовала какъ-то особенно обаятельно, зная наконецъ участіе Славянъ въ рядахъ Гунновъ въ другихъ походахъ ихъ, смѣемъ думать, что въ походѣ Гунновъ на Малую Азію, Славяне принимали значительное участіе.
1. Ст. г. Григорьева «О куѳич. монет. VIII, IX, X и отчасти VII и XI в., находимыхъ въ Россіи и при-Балтійскихъ краяхъ, какъ источникахъ для древн. отеч. исторіи» (Зап. Од. Общ. Ист. и Древн. T. I. С. 159).
![]()
148
Выше я привелъ уже извѣстіе Клавдіана объ этомъ походѣ, теперь позволяю себѣ привести краснорѣчивыя слова Св. Іеронима о томъ же самомъ. Въ письмѣ къ Иліодору великій учитель Церкви говоритъ :
«Я разсказываю не о бѣдствіяхъ несчастныхъ, но о шаткомъ состояніи человѣчества. Приходишь въ ужасъ при мысли о развалинахъ нашего времени. Вотъ уже двадцать и даже болѣе лѣтъ, какъ между Константинополемъ и Юлійскими Альпами ежедневно проливается Римская кровь. Скиѳію, Ѳракію, Македонію, Дарданію, Дакію, Ѳессалонику, Ахаію, Эпиръ, Далмацію и всю Паннонію — Готъ, Сарматъ, Квадъ, Аланъ, Гунны, Вандалы, Маркоманны грабятъ, рвутъ, разоряютъ. Сколько женщинъ, сколько дѣвъ, сколько великихъ и благородныхъ личностей были предметомъ посмѣянія этихъ звѣрей? Епископы уведены въ плѣнъ, пресвитеры и другія духовныя лица умерщвлены. Церкви разрушены, у алтарей Христовыхъ понадѣланы конюшни, изъ земли вырыты мощи мучениковъ, всюду горе, всюду плачь, вездѣ образъ смерти. Римскій міръ рушится, однако выя наша не сгибается. Каковъ, думаешь, духъ теперь въ Коринѳянахъ, Аѳинянахъ, Лакедемонцахъ, Аркадцахъ, и во всей Греціи, гдѣ всюду нынѣ повелѣваютъ варвары? и, конечно, я упомянулъ о немногихъ городахъ, гдѣ нѣкогда были не незначительныя царства. Востокъ, казалось, избавился отъ этихъ бѣдствій, до него доходили только страшныя вѣсти. Но вотъ въ прошломъ году съ высокихъ горъ Кавказа напустились на насъ уже не Аравійскіе, а сѣверные волки и въ короткое время опустошили много областей. Сколько монастырей было взято? сколько рѣкъ замутилось человѣческою кровью? осаждена Антіохія и другіе города, орошаемые Галисомъ, Кидномъ, Оронтомъ и Евфратомъ: увлечены толпы плѣнниковъ. Аравія, Финикія, Палестина, Египетъ поражены страхомъ. Мало мнѣ ста языковъ, ста устъ, желѣзнаго голоса. Наконецъ я въ виду имѣлъ не исторію писать, а только вкратцѣ оплакать наши бѣдствія» [1].
1. Divi Hieronymi Stridon. Epistolae selectae et in libr. tres distributae opera D. Petri Canisii. Neapoli. MDCCLXXIII. lib. II. Ep. XXII. pag. 396—397.
![]()
149
Въ другомъ письмѣ къ Океану, такъ говоритъ Св. Іеронимъ объ этомъ походѣ Гунновъ:
«Вотъ внезапно промчалась вѣсть и содрогнулся востокъ, о томъ, что съ береговъ Меотійскаго моря, съ пространства между Дономъ и Массагетами, съ горъ Кавказскихъ, гдѣ стѣна Александрова удерживаетъ дикіе народы, прорвались полчища Гунновъ, чтобы на своихъ коняхъ пронести повсюду смерть и ужасъ. Въ то время не было тамъ Римскаго войска, бывшаго тогда въ Италіи по случаю усобицъ. Да избавитъ Богъ Римскій міръ впредь отъ такихъ звѣрей. Они всюду являлись неожиданно, и, предупреждая молву быстротою, не щадили ни вѣры, ни званія, ни возраста, не жалѣли младенцевъ. Умирали тѣ, которые едва начинали жить и, не вѣдая своего несчастія, улыбались въ рукахъ и подъ стрѣлами непріятеля. Была всеобщая молва, что они, увлекаемые своимъ корыстолюбіемъ, пойдутъ къ Іерусалиму. Отъ долгаго мира были пренебрежены укрѣпленія: Антіохія осаждалась. Древній Тиръ, желая оторваться отъ земли, искалъ острова» [1].
Грубость и жестокость этихъ Гунновъ не могутъ ни въ какомъ случаѣ служить опроверженіемъ вѣрности предположенія, что въ рядахъ ихъ принимали значительное участіе Славяне. Стоитъ только для этого вспомнить слова Прокопія о грабежахъ и опустошительныхъ набѣгахъ Славянъ въ Восточной Имперіи, въ Иллиріи, Ѳракіи.
Есть основаніе думать, что Славяне, имѣвшіе поселенія на Дону во II в. по P. X. (Плиній и Птолемей) и даже гораздо раньше (Сканд. пред. объ Одинѣ), могли проникать въ Малую Азію и за долго до Гунновъ; ибо, повторяю, въ Славянахъ того времени нельзя не признавать ни отваги, ни удали, ни предпріимчивости, ни свѣжести народныхъ преданій и воспоминаній объ Азіи и востокѣ, ни стремленія и тяготѣнія къ нему, слѣдовательно на посѣщеніе Малой Азіи у Славянъ могла быть охота; но была ли внѣшняя, отъ нихъ не зависѣвшая, возможность удовлетворять ее, иными словами — былъ ли достаточно свободенъ путь?
Славяне жили на Понтѣ, между Днѣпромъ и Днѣстромъ, у устьевъ Дуная не только въ VI, IV и III в., но но всей вѣроятности и раньше.
1. Тамъ же, l. III, ер. X, р. 366—567.
![]()
150
Готы, безъ сомнѣнія тѣснимые Славянами [1], поселились между Днѣстромъ и Днѣпромъ, на Черноморьѣ, около 182—215 г. Отсюда они дѣлали набѣги на Римскую имперію.
Мы выше видѣли, что зная свидѣтельство Прокопія о жилищахъ Антовъ и обращая на древнее Скандинавское преданіе объ Одинѣ, о его сожительствѣ съ Ванами, отъ коихъ Донъ (Tanaquisl) получилъ свое названіе, то вниманіе, какое оно по истинѣ заслуживаетъ, нельзя и въ Плиніевскихъ Serbi и въ Птолемеевскихъ Σιρβοι, что на Дону, не признавать вѣтви Славянской. Готы овладѣли потомъ побережьемъ между Днѣпромъ и Дономъ, Таврическимъ полуостровомъ, Киммерійскимъ Босфоромъ, захватили тамъ корабли и моряковъ-туземдевъ, предпринимали оттуда опустошительные походы на Малую Азію, ок. 253, 264, 289 г. брали Трапезонтъ, Халкедонъ, Никомидію, Никею, Бруссу, Кіосъ, Апамею и пр. — Такіе походы не могли быть неизвѣстны Славянамъ и не послужить для нихъ примѣромъ. Наконецъ весьма вѣроятно даже, что въ этихъ походахъ Готовъ, Славяне сами принимали не малозначительное участіе. — Здѣсь позволю себѣ замѣтить, что едва ли не весьма желательно появленіе на Русскомъ языкѣ подробной монографіи о судьбѣ Черноморскихъ Готовъ.
Одинъ, живя въ такихъ близкихъ сношеніяхъ съ Ванами,
1. Шафарикъ несомнѣнно доказалъ, что Нѣмцы, напавшіе на Паннонію и Дакію (165—169) были вытѣснены съ Балтійскаго побережья Славянами, Венедами. Такъ надо понимать superiores barbari (Barbaren nördlicher Striche, какъ передаетъ Маннертъ) въ слѣд. мѣстѣ Юлія Капитолина — Victovalis et Marcomannis cuncta turbantibus, aliis etiam gentibus, quae pulsae a superioribus Barbaris fugerant, nisi reciperentur, bellum inferentibus. A Тацитъ никого болѣе, какъ Славянъ разумѣлъ, говоря: quicquid inter Peucinos Fennosque silvarum ac montium erigitur, latrociniis pererrant. Безпристрастные Нѣмецкіе ученые думаютъ точно такъ же. Шафарикъ указываетъ на слѣдующія слова Гаупа: «Sehr wahrscheinlich haben die vielen Züge der östlichen Volker Germaniens, von denen die Geschichte namentlich seit dem 2 Jahrh. weiss, mit Bewegungen anderer östlichen, hauptsächlich slawischen Völker in Verbindung gestanden. Gewiss ist man oft viel zu geneigt, die Ursache grosser Völkerzüge bloss im Wanderungstriebe zu suchen; meist wirken auch aüssere Motive mit, ja diese pflegen die stärksten zu sein. Gaupp. Gesch. d. Thür. S. 46.
![]()
151
на Дону, рѣкѣ Славянской, прославилъ себя войнами не только на сушѣ, но и на морѣ.
Иродотъ, посѣщавшій Греческія колоніи на Черноморьѣ, сохранилъ намъ любопытныя извѣстія о Неврахъ, Будинахъ, Славянское происхожденіе коихъ кажется окончательно доказано незабвеннымъ Шафарикомъ. Жилища Будиновъ, по его основательнымъ соображеніямъ, должны были лежать въ Волыни и Бѣлоруссіи. Иродотъ говоритъ, что въ землѣ Будиновъ былъ довольно обширный, изъ дерева выстроенный городъ. «Въ немъ находились храмы боговъ Греческихъ по способу Греческому украшенные идолами, жертвенниками и божницами (Ἑλληνικῶν θεῶν ἱρὰ Ἑλληνικῶν κατεσκευασμένα ἀγάλμιασί τε καὶ βωμοῖσι καὶ νηοῖσι ξυλίνοισι). Ибо Гелоны (самый городъ въ землѣ Будиновъ назывался Γελωνός) издревле были Еллинами; но выйдя изъ торговыхъ мѣстъ, поселились между Будинами; они говорятъ частью по Скиѳски, частью по Гречески. — Будины не сходны съ Гелонами ни языкомъ, ни образомъ жизни : ибо Будины, какъ туземцы, народъ пастушескій и употребляютъ въ пищу еловыя шишки. Гелоны же, занимаясь земледѣліемъ, питаются хлѣбомъ, и владѣютъ садами, и не похожи на нихъ ни видомъ, ни цвѣтомъ: несправедливо Греки называютъ Будиновъ Гелонами».
Щафарикъ, по моему крайнему разумѣнію, весьма основательно замѣтилъ: «Что касается извѣстія Иродота о земледѣліи и садоводствѣ Гелоновъ, то невѣроятно, чтобы оно относилось къ однимъ только Гелонамъ. Вѣдь самъ же онъ выше говоритъ, что Греки также и Будиновъ называли Гелонами? А потому легко могло случиться, что, при такой неопредѣленности названія, то, что принадлежало Будинамъ, исключительно относили къ Гелонамъ. Будины, народъ великій и многолюдный, по различію земель, занимаемыхъ ими, вели и разный образъ жизни: тутъ занимались земледѣліемъ, а тамъ скотоводствомъ. Вообще сказаніе о происхожденіи всѣхъ Гелоновъ отъ Грековъ весьма подозрительно. Очень возможно и даже весьма вѣроятно, что Гелоны — были особенная вѣтвь Будиновъ, въ главномъ городѣ коихъ проживали Греческіе купцы».
Очень вѣроятно, что Славяне, всегда воспріимчивые,
![]()
152
многое перенимали отъ Гелоновъ, или отъ Греческихъ поселенцевъ. Припомнимъ теперь Греческія колоніи на Черноморьѣ, ихъ безпрерывныя сношенія съ М. Азіею, весьма обширную, для того времени, торговлю янтаремъ, мѣхами и хлѣбомъ, производившуюся черезъ эти земли, и мы едва ли поступимъ неосновательно, если рѣшительно откажемся отъ опредѣленія времени, когда Славяне Европейскіе впервые стали посѣщать Малую Азію?
А.5. Мѣстныя названія въ Виѳиніи. Свидѣтельство краткаго житія св. Климента. Разборъ свидѣтельствъ Страбона, Т. Ливія, Плинія, Тацита, мнѣній Цейса, Гротефенда, Форбигера, Суровецкаго и Шафарика о Венетахъ Пафлагонскихъ. Общее заключеніе. (X. Стр. 152-191).
X. По свидѣтельству Иродота, Скилакса [1] и др., въ числѣ городовъ въ Виѳиніи были между прочимъ Κίος (ἡ). Въ древности разно объясняли это названіе: одни говорили, что Κίος было имя одного изъ спутниковъ Иракла, который и основалъ этотъ городъ; другіе, что Милитцы основали колонію и назвали ее Κίος; третьи, что ее основалъ Полифемъ. Какъ бы то ни было, жители ея назывались Κιανοί. — т. е. Кіяне.
Нельзя не замѣтить, что Кіевъ извѣстенъ не однимъ Славянамъ Русскимъ; что древнее народное преданіе приписываетъ основаніе нашего Кіева миѳическому Кію, совершившему нѣкогда какое-то странное путешествіе; что форма Кіевъ требуетъ при себѣ — форму Кіевляне; что въ древне-Русскомъ языкѣ постоянно употребляется форма Кіяне, указывающая собою на Кій, не Кіевъ и совершенно отвѣчающая Греческому Κιανοί.
Другой городъ въ Виѳиніи, на названіе котораго я намѣренъ теперь обратить вниманіе читателя, назывался Λίβυσσα (Плут. Плиній) [2], а у Птолемея Λίβισσα. Нельзя не замѣтить, что какъ корень, такъ и окончаніе этого слова. — Славянскія: Любуша, Любусъ [3].
Конечно сходство собственныхъ именъ бываетъ очень часто случайно; однако нельзя не обратить вниманія на то, что гор. Λίβυσσα лежитъ въ весьма близкомъ разстояніи, на востокъ, отъ Никомидіи,
1. Forbiger Handb. d. alten Geogr. II, 382.
2. Id. II. S. 389.
3. См. Monumenta Serbica ed. Fr. Miklosich. Vienna. 1838: «оу Любешь потокъ. Любешь потокомъ» (р. 73) ; «на Доубовникь стоуденьць оу нрѣкоу цѣстоу до соухе Любоуше и оу планиноу» (р. 92). Срв. Чешскія мѣстныя имена: Liboč, Libyně, Libauň, Libuň, Libeč, Libčica, Libiš, Lubošin и проч.
![]()
153
а гор. Κίος отъ Никеи, т. е. именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ были поселенія Славянскія не только въ періодъ XVII—XIX в., но и гораздо раньше, напр. въ VII, VIII и въ слѣдующіе вѣка. Нельзя забывать, что предположеніе Шафарика о томъ, что отдѣльныя Славянскія вѣтви могли жить на Забалканскомъ полуостровѣ издревле между Ѳракійцами и Кельтами, весьма вѣроятно; что нѣтъ никакой возможности указать на время, когда бы Славяне не могли посѣщать М. Азіи. Нельзя наконецъ не вспомнить при семъ, что краткое житіе св. Климента, на Греческомъ языкѣ, найденное почтеннымъ Славянистомъ нашимъ В. И. Григоровичемъ, въ одной Греческой рукописи XIII в. въ Охридѣ, что житіе это начинается слѣдующими словами:
«27 Іюня, память иже во святыхъ отца нашего архіерарха и чудотворца Климента, епископа Булгаріи въ Охридѣ. Этотъ великій отецъ нашъ и свѣтило Булгаріи происходилъ по своему рожденію отъ Европейскихъ Мизовъ, которыхъ большинство называетъ Булгарами. Нѣкогда рукою и властью Александра съ Олимпа, что подлѣ Бруссы, они были откинуты къ Сѣверному океану и Мертвому морю, потомъ, черезъ довольно продолжительное время, вооруженною силою они перешли Истръ (Дунай) и заняли всѣ сосѣднія земли, Паннонію и Далмацію, Ѳракію и Иллириісь и большую часть Македоніи и Ѳессаліи». «Вотъ отъ нихъ-то и произошелъ этотъ святой мужъ [1], и проч.».
Смѣю думать, что это краткое житіе св. Климента написано, также какъ и другое, подробное не Грекомъ, а Болгариномъ. Греку не могло быть безъизвѣстно, что въ Иллирикѣ и въ Далмаціи Болгаръ не было; еще менѣе могло быть это неизвѣстнымъ Болгарину ; но изъ народнаго, патріотическаго чувства Болгаринъ могъ утверждать, что и Иллирикъ и Далмація
1. Привожу подлинникъ:
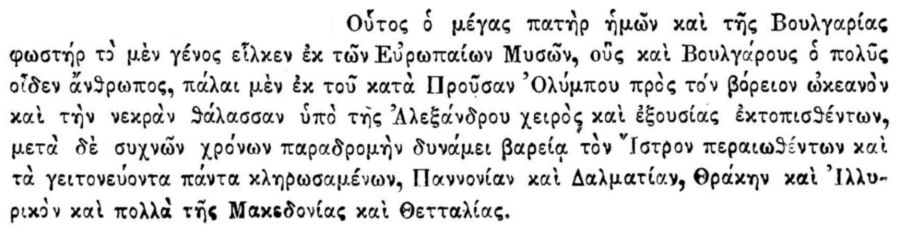
![]()
154
и Паннонія населены были его предками, тогда какъ Греку не было это ни съ какой стати. Въ словахъ «отецъ нашъ, свѣтило Болгаріи», — ὁ μέγας πατὴρ ἡμῶν καὶ τῆς Βουλγαρίας φωστήρ — скорѣе видѣнъ Болгаринъ, чѣмъ Грекъ; сочинитель весьма хорошо передаетъ Славянскія имена Наума, Горазда; при имени Лихнида не пропускаетъ случая замѣтить, что у Мизовъ т. е. Болгаръ онъ зовется Охридою — περὶ τὴν Λυχνιδον Ἰλλυρίων πὸλιν, τῶν πέριξ πόλεων οὖσαν μητρόπολιν, ἣ νῦν Ἀχρίς κατὰ τὴν Μυσῶν ὀνομάζε ται γλῶσσαν; что Кефалинія по-Болгарски называется Главиница — καὶ τὴν Κεφαληνίαν μετονομασθεῖσαν τῇ Βουλγάρων φωνῇ Γλαβινίτζαν. Вижу Славянина, Болгарина, а не Грека, когда сочинитель говоритъ, что св. Климентѣ, природный Болгаринъ, оставилъ по себѣ въ Охридѣ священныя книги своего сочиненія, которыя уважаются всѣмъ народомъ, не меньше, чѣмъ богодухновенныя скрижали Моисея. Видѣнъ въ сочинителѣ природный Болгаринъ, а не Грекъ, когда говоритъ онъ о Михаилѣ, царѣ Болгарскомъ, о его успѣхахъ въ добродѣтели, объ усовершенствованіи Климентомъ азбуки Кирилловской, и пр.
И такъ и краткое житіе св. Климента написано природнымъ Болгариномъ. — Обращаемся же къ этому Болгарскому, Славянскому свидѣтельству, сказанію о томъ, что нѣкогда, давно, когда-то, до Александра Великаго, жили Славяне у Олимпа, подлѣ Бруссы, т. е, въ Виѳиніи, въ М. Азіи; что оттуда Славяне были прогнаты Александромъ Великимъ и удалились къ Сѣверному Океану и Мертвому Морю, — полагать надо, что сочинитель разумѣлъ здѣсь Балтійское и Нѣмецкое море ; — что послѣ этого, черезъ довольно продолжительное время, Славяне перешли Дунай, заселили Ѳракію, Иллирикъ, Далмацію, большую часть Македоніи и Ѳессаліи. — Сочинитель этого житія жилъ никакъ не позже XIII и даже XII в., а всего вѣроятнѣе въ XI или въ к. X в.: видно, что всѣ преданія и воспоминанія о св. Климентѣ были въ его время еще весьма свѣжи. — Какъ бы то ни было, Болгаринъ не только X—XI в., но и XIII и XII в., не могъ не знать о поселеніяхъ Славянскихъ, Болгарскихъ, ему современныхъ, въ М. Азіи; еще лучше конечно могъ знать онъ и нс по книгамъ, а по живымъ народнымъ преданіямъ,
![]()
155
о переходѣ Славянъ черезъ Дунай и о поселеніяхъ ихъ во Ѳракіи, Македоніи и т. д. — Сочинитель ни откуда не могъ вычитать о томъ, что нѣкогда Славяне жили въ М. Азіи, что Александръ Македонскій ихъ выгналъ оттуда. Выдумывать же самому ему не было никакой нужды. — Безусловно же утверждать, что Славяне Болгарскіе въ X—XII в. не могли имѣть никакихъ преданій или разсказовъ народныхъ объ Александрѣ Македонскомъ, было бы, мнѣ кажется, слишкомъ смѣло.
Выдумывать же сочинителю цѣлую сказку о томъ, что Славяне жили когда-то въ М. Азіи, рѣшительно не было никакой нужды. Кажется, гораздо основательнѣе предполагать, что то было общее мнѣніе, распространенное между Славянъ Задунайскихъ, которые быть можетъ и потому такъ всегда стремились въ М. Азію.
Что же касается до словъ сочинителя : у Олимпа близъ Бруссы, то они вѣроятно принадлежатъ ему лично; ими онъ хотѣлъ только ближе опредѣлить прежнія жилища Славянъ [1]. — На основаніи предложенныхъ соображеній смѣемъ думать, что это мѣсто житія св. Климента заслуживаетъ великаго вниманія и имѣетъ высокую важность. Если не ошибаюсь, великій знатокъ Славянства Шафарикъ думалъ и объ этомъ мѣстѣ, когда перепечатывая это житіе, сказалъ, что нѣкоторыя мѣста имѣютъ великую историческую важность; — (pro svou nevšednost а vzácnost, — něméně některých míst velikou v historii důležitost).
Мѣсто это, если справедливо понимаемъ его, даетъ слѣдующее несомнѣнное положеніе: Славяне Болгарскіе въ XI—XII в., были убѣждены, что нѣкогда предки ихъ жили въ М. Азіи, что такимъ образомъ, поселенія ихъ въ М. Азіи въ VII—VIII в. и послѣ, были не первыя поселенія. Такое народное убѣжденіе заслуживаетъ вниманія тѣмъ болѣе, что города Κίος, съ жителями Κιανοὶ и Λίβυσσα — легко могутъ всякаго привести къ предположенію о томъ, что Славянскія поселенія въ М. Азіи были издревле.
1. Обозначеніе же мѣстности, жилищъ Славянъ въ М. Азіи у Олимпа, подлѣ Бруссы, конечно книжное, такъ же какъ у Нестора въ его мѣстѣ объ Иллирикѣ, у Богухвала — о Панноніи Однако теперь всѣми признано, что эти два послѣднія свидѣтельства — голосъ народнаго преданія.
![]()
156
«Однако, если бы Славяне жили въ весьма отдаленное время въ М. Азіи, то они не могли исчезнуть совершенно изъ виду, ибо страна эта лежала въ центрѣ тогдашняго образованнаго міра, и народности, ея населявшія, были извѣстны Грекамъ?»
Возраженіе это весьма основательно; но прежде чѣмъ рѣзко и смѣло утверждать, что Κίος, Κιανοὶ, Λίβυσσα — представляютъ чисто случайное сходство съ слов. Кый, Кыяне, Любуша ; что все приведенное нами мѣсто изъ житія, св. Климента — пустая басня, произведеніе досужей и хвастливой фантазіи сочинителя; что выводъ, полученный нами изъ соображенія этихъ названій, и выводъ, полученный нами изъ соображеній словъ жизнеописателя св. Климента, имѣютъ сходство случайное же; что явленіе Славянскихъ поселеній въ М. Азіи въ VII—VIII в., въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ были города Κιος, Λίβυσσα, гдѣ, по свидѣтельству, жизнеописателя св. Климента, давно когда-то, въ сѣдой древности жили Славяне, что такое явленіе тоже ничто болѣе, какъ чистая случайность; прежде, чѣмъ стать рѣзко толковать о такихъ случайностахъ и оставлять ихъ безъ вниманія, какъ таковыя, нельзя забывать, что въ Пафлагоніи, другой, пограничной Виѳиніи, М. Азійской области, находилась мѣстность подъ названіемъ Ζάγορον — по свидѣтельству Маркіана; Ζάγειρα — по Птоломею; Zacoria — по Певтингеровой картѣ; Ζάγωρα — по Арріану — т. е. Загора, опять чисто Славянское названіе, понынѣ извѣстное всѣмъ Славянамъ. Конечно и это сходство могло быть случайнымъ, однако не можетъ же добросовѣстный изслѣдователь не вспомнить при семъ, что въ области Пафлагоніи жили Генеты (Омиръ, Ирод. и пр.) и Венеты (Помпоній), что подъ этимъ именемъ слыли Славяне въ Европѣ. Конечно и это сходство могло быть чисто случайнымъ, и Шафарикъ нашъ былъ вполнѣ правъ, пиша въ 1837 г.: — «Нѣкоторые писатели, видя сходство названія ихъ (Венетовъ Адріатическихъ) съ Азіятскими Генетами, обитавшими въ Пафлагоніи, близъ моря, въ краѣ называемомъ теперь Кастамунъ, и съ Венетами Арморійскими, жившими въ Галліи, производили ихъ, то отъ тѣхъ, то отъ другихъ, что однако рѣшительно несправедливо. Конечно, имя Генетовъ, какъ уже выше доказано, ничѣмъ не отличается отъ имени Венетовъ и Венедовъ,
![]()
157
тѣмъ болѣе, что и Мела прямо называетъ ихъ Венетами, однако же, бытіе этого народа скрывается во мракѣ вѣковъ, недоступныхъ исторіи, а потому не позволительно на одномъ только имени основывать положительныхъ историческихъ выводовъ». — Шафарикъ, повторяю, былъ вполнѣ правъ, утверждая это, но мы были бы не правы, если бы прямо порѣшили, что сходство Венетовъ Пафлагонскихъ, М. Азійскихъ съ Венетами Европейскими, т. е. Балтійскими и Гальскими было чисто случайное.
Выше мы (I) убѣдились въ возможности и законности вопросовъ: 1) «остались ли у Славянъ слѣды народныхъ преданій объ Азіи, какъ о древнѣйшей ихъ прародинѣ»? 2) «при выселеніи Славянъ изъ Азіи въ Европу, не осталось ли болѣе или менѣе значительная ихъ часть въ Азіи?» — Присемъ мы нашли тогда нужнымъ замѣтить: «при возможности въ настоящее время двоякаго рѣшенія этого вопроса, необходимо признать за истину несомнѣнную, что Славяне Азійскіе и Европейскіе долго не теряли сознанія единства своего происхожденія и также долго не прерывали и своихъ связей».
Разсмотрѣвъ судьбу Славянъ въ М. Азіи, мы пришли къ выводу, кажется, довольно твердому, что Славянская стихія въ М. Азіи хотя и переживала различныя фазы, однако существовала безпрерывно съ VII в. по настоящее время включительно.
Обратившись къ разсмотрѣнію вопроса — когда Славяне впервые стали проникать въ М. Азію, мы, перебравъ въ умѣ нашемъ всѣ данныя, намъ извѣстныя, пришли къ тому твердому убѣжденію, что нѣтъ никакой возможности указать на время, когда впервые Славянская стихія проникла въ М. Азію.
Въ этомъ отношеніи, смѣю думать, всякой ученый, понимающій возможность и законность выше предложеннаго вопроса о томъ, что при выселеніи Славянъ изъ Азіи въ Европу не осталась ли часть ихъ въ Азіи, всякой ученый, говорю я, одобритъ послѣднее заключеніе наше. Дѣйствительно, вѣдь Славянская - то стихія могла проникнуть въ Малую Азію не только изъ Европы, но и изъ Азіи, гдѣ могла остаться часть Славянъ при выселеніи всего племени въ Европу.
![]()
158
Надѣюсь, пишущій эти строки не проступилъ противъ правилъ осторожной критики, когда, найдя сходство названій древнихъ городовъ въ Виѳиніи — Κίος и Λίβυσσα, съ названіями Славянскими, заключилъ, что, хотя это сходство и могло быть чисто случайнымъ, однако, не утверждая ничего положительнаго, не слѣдуетъ терять изъ виду того, что и Κίος и Λίβυσσα — находились въ тѣхъ самыхъ мѣстностяхъ, гдѣ были Славянскія поселенія не только въ XVII—XIX в., но и въ VII, VIII и въ слѣд. вѣка. Полагаю, что онъ поступилъ основательно, когда несталъ утверждать рѣзко и положительно, что замѣчаемое эго сходство — чистая случайность ; ибо нѣтъ ничего нелѣпаго, невѣроятнаго и невозможнаго въ томъ предположеніи, что Славянская стихія была издревле въ М. Азіи. Точно также, кажется, благоразумно поступилъ онъ, при разсмотрѣніи извѣстнаго мѣста жизнеописателя Св. Климента, замѣтивъ, что слова его о бытности нѣкогда, въ сѣдой древности, Славянъ въ М. Азіи, должны быть приняты во вниманіе, а не отвергаемы, какъ пустая, нелѣпая выдумка досужаго грамотѣя. Ибо у Славянъ очень легко могли сохраняться смутныя народныя преданія о томъ, что Славянскія поселенія въ Малой Азіи въ VII—VIII в. не были первыми, что задолго до нихъ живали когда-то Славяне въ М. Азіи. Вѣдь мы выше уже видѣли, что Славяне издревле могли жить въ М, Азіи, что Славяне Европейскіе могли издревле посѣщать ее. Отчего же имъ было и не имѣть такого народнаго преданія?
Не безразсудно, кажется, поступилъ авторъ, когда указывая на мѣстность Загору въ Пафлагоніи, онъ вспомнилъ о Венетахъ Пафлагонскихъ.
Шафарикъ былъ правъ, когда не соглашался съ Суровецкимъ, считавшимъ этихъ Венетовъ Славянами; но мы, повторяемъ, были бы неправы, если бы стали теперь повторять слова Шафарика, такъ какъ въ настоящее время въ защиту Славянства Венетовъ Пафлагонскихъ представляются соображенія не безосновательныя, данныя не малозначительныя и совершенно новыя.
«Но Иродотъ, знавшій Венетовъ Пафлагонскихъ, считалъ ихъ Мидійцами». Возраженіе это, смѣемъ думать, не важно,
![]()
159
ибо Иродотъ — Венетовъ Адріатическихъ называлъ Иллирійцами, Славянъ Русскихъ — Скифэми, Сигинновъ, въ коихъ Шафарикъ весьма не безосновательно видитъ Славянъ, Мидійцами. Наконецъ современники Иродота, а по всей вѣроятности и предшественники его, считали Венетовъ Пафлагонскихъ не Мидійцами, а соплеменниками Венетовъ Адріатическихъ [1].
Тацитъ, приступая въ своемъ описаніи Германіи къ Славянамъ, Венедамъ, нашелъ нужнымъ сказать — «сомнѣваюсь, причислить ли Венедовъ къ Сарматамъ или къ Германцамъ». Сообразивъ потомъ ихъ осѣдлый образъ жизни, ихъ щиты, ихъ пристрастіе къ пѣхотѣ, а не къ конницѣ, Тацитъ рѣшилъ причислить ихъ къ Германцамъ; однако онъ не скрылъ, что они многое заимствовали отъ Сарматовъ — Venedi multum ex moribus (Sarmatarum) traxerunt. Такъ-точно и Венеты Пафлагонскіе могли многое заимствовать отъ Мидійцевъ, какъ по малочисленности своей среди множества иноплеменниковъ, такъ и по воспріимчивости своей, столь врожденной Славянамъ. Кажется, нельзя сомнѣваться въ томъ, что Тацитъ въ своихъ выводахъ былъ несравнено строже Иродота, который, какъ очень вѣроятно, поставленный на мѣсто Тацита, рѣшилъ бы прямо, что Венеды — Сарматы, тогда какъ Тацитъ, на мѣстѣ Иродота, весьма вѣроятно Венетовъ Пафлагонскихъ прямо и рѣшительно не назвалъ бы Мидійцами, а Венетовъ Адріатическихъ — Иллирійцами.
Читатель видитъ, что мы говоримъ рѣшительно, называя Венетовъ Пафлагонскихъ соплеменниками Венетовъ Адріатическихъ, Славянами. Мнѣніе такое можно и должно бы было назвать слишкомъ смѣлымъ, если бы оно опиралось только на предъидуіцихъ соображеніяхъ. На основаніи ихъ оно только вѣроятио. Нижеслѣдующіе доводы и соображенія наши, надѣюсь, возводятъ эту вѣроятность на степень прямой исторической достовѣрности.
1.
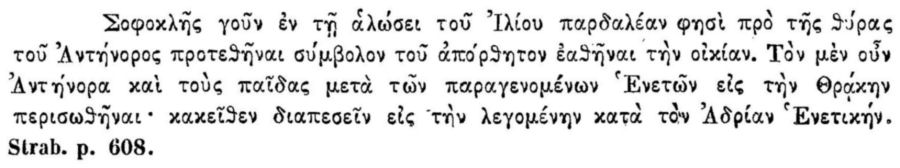
![]()
160
Въ древности существовало мнѣніе, что Венеты Адріатическіе есть ничто иное, какъ иоселеніе, колонія Венетовъ Пафлагонскихъ. Въ настоящее время ученые, достойные глубокаго уваженія и оказавшіе наукѣ услуги незабвенныя, какъ-то Цейссъ, Гротефендъ и Форбигеръ единогласно отвергаютъ это мнѣніе, какъ чистую ложь, пустую басню и нелѣпую выдумку [1].
Пишущій эти строки не станетъ скрывать отъ читателя, что не безъ нѣкотораго страха и трепета рѣшается онъ прямо противорѣчить такимъ замѣчательнымъ ученымъ; но продолжительныя размышленія объ этомъ предметѣ, смѣетъ думать, великой важности не только для исторіи новой, но и древней Европы, убѣдили его несомнѣнно въ справедливости нижеслѣдующихъ доводовъ.
Предварительно считаю долгомъ замѣтить, что ни Цейссъ, ни Гротефендъ, ни Форбигеръ не обратили должнаго вниманія на то, что еще современники Иродота и даже вѣроятно его предшественники полагали, что Веиеты Адріатическіе произошли отъ Венетовъ Пафлагонскихъ; что Страбонъ дѣйствительно считалъ одно время Венетовъ Адріатическихъ за отрасль, за колонію Венетовъ Гальскихъ, но потомъ перемѣнилъ свое мнѣніе
1. Цейссъ, говоря о Венетахъ Адріатическихъ, замѣчаетъ: «Mit welcher aber diese Sprache verwandt sei (т. e. Венет.), forschten die alten nicht, und überliessen sich allerlei Vermuthungen und Fabeleien». Въ примѣчаніи же онъ указываетъ на это мнѣніе. Гротефендъ (Zur Geographie u. Geschichte von Alt-Italien. Hannover. 1840. IV Heft) вотъ что говоритъ объ этомъ : «Die Veneter, welche mit den Liburnen und Istriern die innersten Künsten des adriatischen Meeres besetzten, waren weder asiatischen Paphlagonen, wie ältere Griechen, noch Gallier aus der Bretagne, wie Strabo, noch slawische Wenden, wie Mannert, oder Anten wie der Erzb. von Mohilow Stanisl. Sestrencewicz de Bohusz in seinen Recherches historiques sur l’origine des Sarmates, des Esclavons et des Slaves (Pétersb. 1812) aus blosser Aehnlichkeit des Namens mit den Benennungen anderer Völker schlossen, sondern, wie Herodotos I, 196; V, 9 bemerkt, gleich den andern Völkern an Italiens Ostküste illyrischen Abkunft....» (S. 6—7). Форбигеръ (Handbuch der alten Geographie, III, S. 578 f.), указавъ на древнихъ писателей, державшихся того мнѣнія, замѣтилъ: «Dass aber diese ganze Sage von der Einwanderung der Veneter aus Kleinasien jeder historischen Grundlage entbehrt, bedarf keines weiteren Beweises. Dennoch hielten sie sich selbst allerdings für Asiaten, und zwar nach Herodot, fur Meder» (5,9). Про Венетовъ Адріатическихъ: «Darüber aber, dass sie ein eingewanderter Stamm waren und nicht in den Urvölkern Italiens gehörten, ist das ganze Alterthum einverstanden» (ibid.).
![]()
161
и перешелъ къ противному мнѣнію, производившему Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Пафлагонскихъ ; что наконецъ Венеты Адріатическіе сами въ своихъ народныхъ преданіяхъ производили себя отъ Венетовъ Пафлагонскихъ ; что народность преданія доказываетъ его историческую истину.
Выше мы указали на слова Софокла, сохраненныя намъ Страбономъ; при семъ не можемъ не замѣтить, что нѣтъ ни малѣйшаго основанія полагать, что это преданіе или сказаніе было выдумано самимъ Софокломъ; напротивъ, гораздо вѣроятнѣе, что оно было вообще въ ходу задолго до Софокла; слѣдовательно не только у современниковъ Иродота, но и задолго до него у Грековъ было убѣжденіе, что Венеты Адріатическіе соплеменники Венетовъ Пафлагонскихъ.
Обращаемся къ Gtpaooiiy, писателю почтенному, заслуживающему полнаго нашего уваженія; «Венеты (Гальскіе) произвели, — говоритъ онъ, — по моему мнѣнію, Венетовъ Адріатическихъ; ибо почти всѣ другіе Кельты Итальянскіе перешли изъ-за Альпъ, какъ напр. Бойи и Севоны ; по причинѣ же сходства именъ сами себя они называютъ Пафлагонскими. Впрочемъ я этого не утверждаю; въ такомъ предметѣ довольно одной вѣроятности». —
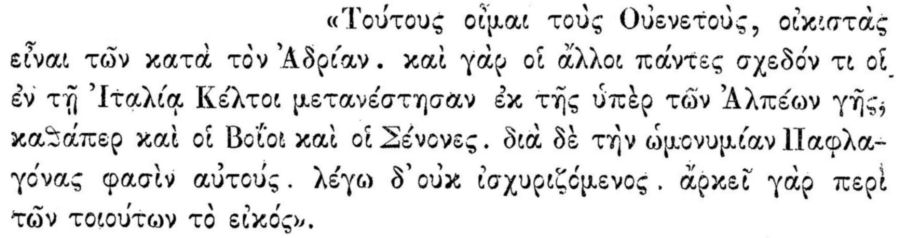
Страбонъ, по всей вѣроятности, имѣлъ передъ собою какія нибудь положительныя данныя, убѣждавшія его въ единствѣ происхожденія Венетовъ Гальскихъ и Адріатическихъ. Первыхъ Венетовъ онъ считалъ Кельтами; въ слѣдствіе же ихъ сходства и едипоплеменности (въ чемъ онъ былъ почти несомнѣнно увѣренъ) съ Венетами Адріатическими, онъ и послѣднихъ считалъ такими же Кельтами [1]. Соображая же извѣстныя ему переселенія съ сѣверо-запада изъ-за Альповь, въ Италію, народовъ Кельтскихъ, напр. Бойевъ, Сеноновъ,
1. καὶ γὰρ οἱ ἄλλοι πάντες σχεδόν τι οἱ ἐν Ἰταλίᾳ Κέλτοι.
![]()
162
онъ легко могъ подумать и предположить, что и Венеты, такіе же Кельты, какъ и Бойи и Сеноны, появились такимъ же образомъ на Адріатическомъ Поморьѣ. Такое предположеніе, въ глазахъ Страбона, не только объясняло единоплеменность Венетовъ Гальскихъ и Венетовъ Адріатическихъ, извѣстную ему изъ другихъ данныхъ, но въ свою очередь и само подтверждалось ею. Такимъ образомъ его догадка, и безъ того всегда дорогая каждому автору, получала въ его глазахъ еще большую цѣну, еще высшее значеніе. Но едва успѣлъ онъ высказать любезную свою мысль, какъ встрѣтился съ положеніемъ, совершенно отвергающимъ справедливость его догадки, столь ему любезной, разбивающимъ въ прахъ только что построенную имъ ипотезу, столь ему дорогую. Не естественно ли въ такихъ случаяхъ первое движеніе мысли писателя заподозрить нежданно представшій ему фактъ? Въ такихъ случаяхъ не является ли въ тотъ же мигъ у человѣка, самаго добросовѣстнаго, желаніе подорвать авторитетъ факта, его обличающаго? Такъ случилось и со Страбономъ: горячимъ слѣдомъ такого, впрочемъ только промелькнувшаго въцемъ, желанія остались эти слова: διὰ τὴν ὡμονυμίαν — «по сходству именъ». Едва лишь представилъ онъ свою догадку, образовавшуюся въ слѣдствіе глубокаго его убѣжденія въ единоплеменности Венетовъ Гальскихъ и Адріатическихъ, какъ тотчасъ же вспомнилъ, что сіи послѣдніе сами производятъ себя отъ Венетовъ Пафлагонскихъ, отнюдь же не отъ Гальскихъ. Съ цѣлью же ограничить значеніе этого мнѣнія, столь сильно ему противурѣчившаго, онъ невольно прибавилъ эти слова: διὰ τὴν ὡμονυμίαν. Но человѣкъ добросовѣстный, всегда готовый для истины пожертвовать своимъ личнымъ мнѣніемъ, Страбонъ вспоминаетъ тутъ древнихъ писателей, выразившихъ то же самое мнѣніе; и невольно встрѣчается съ вопросомъ: неужли весь народъ, производящій себя отъ Венетовъ Пафлагонскихъ, неужли всѣ писатели, выражавшіе до меня это мнѣніе, основывались только на одномъ созвучіи именъ — ὡμονυμία? Страбонъ не испугался такого вопроса и, что еще болѣе дѣлаетъ ему чести и служитъ примѣромъ для насъ, новѣйшихъ изслѣдователей, не рѣшилъ его положительно. Нѣтъ, смѣло поставивъ вопросъ и строго ею обдумавъ, онъ, хотя и не отказался отъ своей догадки
![]()
163
(что для насъ гоже весьма важно и не менѣе поучительно), замѣтилъ однакоже: «я впрочемъ этого не утверждаю», т. е. я не смѣю рѣшительно утверждать, справедливо ли мое мнѣніе относительно происхожденія Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Гальскихъ, — «ибо въ такихъ предметахъ лучше всего довольствоваться одною вѣроятностью».
Такимъ образомъ, очевидно, и самъ Страбонъ не считалъ за пустую басню мнѣніе, производившее Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Пафлагонскихъ; иначе бы онъ совершенно отвергъ столь противуположное ему мнѣніе, иначе бы онъ не сказалъ, что это мнѣніе тоже вѣроятно, хотя и не такъ, какъ то, къ которому онъ склонялся. Къ сожалѣнію Страбонъ не высказалъ всѣхъ причинъ, заставлявшихъ его предпочитать одно мнѣніе другому. Но, зная добросовѣстность славнаго географа, рѣшительно можемъ утверждать, что главнѣйшею тому причиною была не аналогія Бойевъ и Сеноновъ, а какія нибудь данныя, совершенно независимыя и самостоятельныя, хорошо ему извѣстныя и потому заставлявшія его принимать, какъ почти несомнѣнный фактъ, однородство Венетовъ Адріатическихъ съ Венетами Гальскими. Одно только обстоятельство — пріурочиваніе ихъ къ Кельтамъ, помѣшало ему совершенно подойдти къ истинѣ, пріурочиваніе совершенно ошибочное, такъ какъ еще Поливій прямо выразился: «Венеты (Адріатическіе) нравами и образомъ жизни мало чѣмъ отличаются отъ Кельтовъ, говорятъ однако другимъ языкомъ» — οἱ Οὐενέτοί τοῖς ἒθεσι καὶ τῷ κόσμῳ βραχὺ διαφέροντες Κελτῶν, γλώττῃ δ’ἀλλοίᾳ χρώμενοι. 2, 17. Пріурочивши же ихъ къ Кельтамъ, Страбонъ уже не могъ и помыслить о противуположномъ движеніи, изъ Италіи въ земли за-Альпійскія.
Строгая критика, смѣю думать, никогда не дозволитъ отвергать, какъ совершенную басню, слова Страбона о томъ, что Венеты Адріатическіе пошли отъ Венетовъ Гальскихъ. Она только разобьетъ ихъ на двѣ части: первая — фактъ несомнѣнный — единоплеменность тѣхъ и другихъ Венетовъ, вторая часть — личное мнѣніе Страбона о нихъ, какъ о Кельтахъ, и личное же его мнѣніе, хотя основанное на истинномъ фактѣ,
![]()
164
но только неправильно понятомъ, о выселеніи Венетовъ Адріатическихъ изъ Галліи.
Мы видѣли, какое значеніе придавалъ Страбонъ своему мнѣнію, на которое онъ имѣлъ основаніе, и что же? лишь только привелъ онъ себѣ на память другое мнѣніе о Пафлагонствѣ Венетовъ Адріатическихъ, какъ тотчасъ же нашелъ нужнымъ присовокупить, что не смѣетъ рѣшительно утверждать своего мнѣнія, а только держится его, какъ наиболѣе вѣроятнаго. Страбонъ, если не изъ любознательности, въ которой конечно ему никто не откажетъ, то изъ желанія опровергнуть противуположное ему мнѣніе, безъ сомнѣнія пытался подорвать мнѣніе о Пафлагонствѣ Венетовъ Адріатическихъ, и конечно больше насъ имѣлъ возможности провѣрить и обсудить это мнѣніе. Наконецъ однажды онъ уже кинулъ тѣнь на эти мнѣніе, сказавъ, что оно основано на одномъ созвучіи именъ, и противупоставиль ему другое мнѣніе, болѣе по его понятіямъ вѣроятное и конечно основанное не на созвучіи именъ. И все таки Страбонъ не только не выдаетъ за пустой вымыслѣ это Пафлаі онство, но въ продолженіе своего труда не разъ къ нему возвращается.
Обращаемся къ другимъ мѣстамъ Страбона для того, чтобы лучше ознакомиться съ его мнѣніемъ о преданіи, производившемъ Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Пафлагонскихъ; такъ какъ мнѣніе его весьма важно для новѣйшихъ изслѣдователей вопроса о народности Венетовъ Адріатическихъ, ибо, повторяемъ, Страбонъ не былъ расположенъ въ пользу этого преданія и больше насъ имѣлъ и побужденій и возможности отвергать его, какъ чистую басню, пустую выдумку.
На стр. 61-й Страбонъ, представивъ примѣры разныхъ физическихъ переворотовъ на землѣ, переходитъ за тѣмъ къ переселеніямъ народовъ. Такъ, говоритъ онъ, Иберы западные поселились на мѣстахъ за Понтомъ и Колхидою, и по словамъ Аполлодора Араксъ отдѣляетъ ихъ отъ Арменіи, еще болѣе, еще вѣрнѣе Киръ (Κῦρος δὲ μᾶλλον) и горы Мосхійскія; Египтяне къ Эѳіопамъ и Колхамъ; Венеты изъ Пафлагоніи на Адрію. «Οἷον Ἰβήρων μὲν τῶν ἑσπερίων εἰς τοὺς ὑπὲρ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Κολχίδος τόπους μετῳκισμένων, οὕς καὶ ὁ Ἀράξης, ὢς φησιν Ἀπολλοδώρος,
![]()
165
ἀπὸ τῆς Ἀρμενίας ὀρίζει : Κῦρος δὲ μᾶλλον, καὶ τὰ ὂρη τὰ Μοσχικά. Αἰγυπτίων δ᾿εἰς τε Αἰθίοπας καὶ Κόλχους. Ἑνετῶν δ᾿ἐκ Παφλαγονίας ἐπὶ τὸν Ἀδρίαν». — Здѣсь, мы видимъ, Страбонъ еще не сомнѣвается (это мѣсто раньше предыдущаго) въ истинѣ преданія о выходѣ Венетовъ Адріатическихъ изъ Пафлагоніи. Напротивъ того, онъ считаетъ его вѣрнѣе другихъ подобныхъ преданій о переселеніяхъ разныхъ иныхъ народовъ.
На стр. 212-й Страбонъ, сказавъ, что равнина за рѣкою По населена Кельтами и Венетами, продолжаетъ: «Кельты эти однородны съ Кельтами за-Альпійскими. О Венетахъ существуетъ двоякое мнѣніе. Одни говорятъ, что они пошли (собственно колонисты, поселенцы) отъ соплеменныхъ имъ Кельтовъ, живущихъ при океанѣ; другіе же говорятъ, что послѣ Троянской войны съ Антиноромъ часть Венетовъ Пафлагонскихъ бѣжала сюда; въ доказательство сего приводятъ ихъ ревностный уходъ за лошадьми, что теперь совершенно пропало, а прежде весьма ими уважалось, по примѣру предковъ, занимавшихся выводомъ лошаковъ, о чемъ уже Омиръ вспоминаетъ :
Изъ Венетовъ, родины дикихъ лошаковъ.
А Діонисій, тиранъ Сицилійскій, завелъ тамъ табуны коней для ристалищъ, такъ что у Грековъ пользовались славою лошади Венетскія и долгое время этотъ родъ былъ у нихъ въ цѣнѣ».
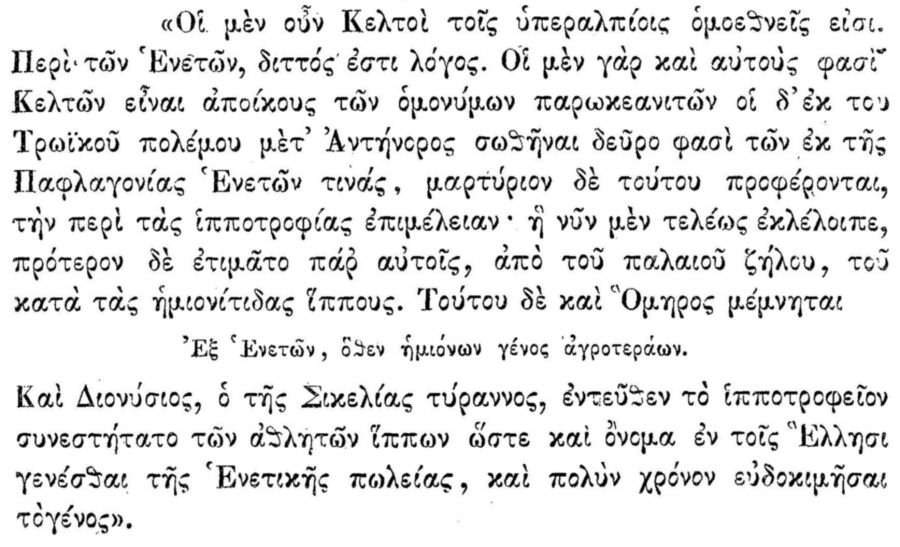
![]()
166
Эго мѣсто Страбона весьма важно во многихъ отношеніяхъ. Оно доказываетъ справедливость замѣчанія нашего о томъ, что Страбонъ зналъ, что не одно сходство именъ (ὡμονυμία) было причиною производства Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Пафлагонскихъ. Изъ него видать также, что и до Страбона были люди, которые считали Венетовъ Адріатическихъ и Гальскихъ одноплеменниками, что и до него уже въ защиту мнѣнія о выходѣ Венетбвъ Адріатическихъ изъ Пафлагоніи приводили и сходство въ занятіяхъ и образѣ жизни Венетовъ Адріатическихъ съ Венетами Пафлагонскими. Дѣйствительно страсть къ коневодству и искусство въ немъ — доводъ весьма сильный, сохраняющій всю свою цѣнность и въ наше время. При всемъ своемъ пристрастіи къ ипотезѣ противуположной, Страбонъ колеблется однако, и, вспомнивъ этотъ послѣдній доводъ, уже не рѣшается болѣе настаивать на происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ отъ Гальскихъ, а не отъ Пафлагонскихъ.
На стр. 543-й: «Слѣдуютъ Пафлагонія и Генеты. Спрашивается, какихъ разумѣлъ Генетовъ поэтъ, когда сказалъ:
Пилеменъ велъ толпы Пафлагонцевъ
Изъ Генетовъ, родины дикихъ лошаковъ.
Теперь одни говорятъ, что нѣтъ болѣе Генетовъ въ Пафлагоніи, другіе, что есть селеніе на берегу, въ десяти схинахъ отъ Амастри. Зинодотъ изъ Енеты утверждаетъ, что теперь вмѣсто Енеты извѣстенъ городъ Амисъ. Другіе же полагаютъ, что племя, сосѣднее съ Каппадоками, выступило вмѣстѣ съ Киммерійцами и поселилось у Адріи. Но весьма хорошо извѣстно, что Генеты были самымъ знаменитымъ племенемъ Пафлагонцевъ, къ нему же принадлежалъ и Пилеменъ, что весьма многіе отправились съ нимъ на войну, что, по взятіи Трои, потерявши своею вождя, ушли во Ѳракію, потомъ, поскитавшись, достигли нынѣшней Венеціи. Нѣкоторые утверждаютъ даже, что Антипоръ и сыновья его участвовали въ этомъ походѣ и поселились на берегу Адріатики, какъ объ этомъ мы уже упоминали въ статьѣ объ Италіи. Вѣроятно такимъ образомъ и вышли Венеты и не оказывается ихъ теперь въ Пафлагоніи» [1].
1. Еще Генеты жили въ Пафлагоніи при Александрѣ Македонскомъ. Такъ по крайности говоритъ Квинтъ Курцій (с. III): Jamque ad urbem Ancyram ventum erat, ubi numero copiarum inito, Paphlagoniam intrat, huic juncti erant Eneti, unde quidam Venetos trahere originem credunt.
![]()
167
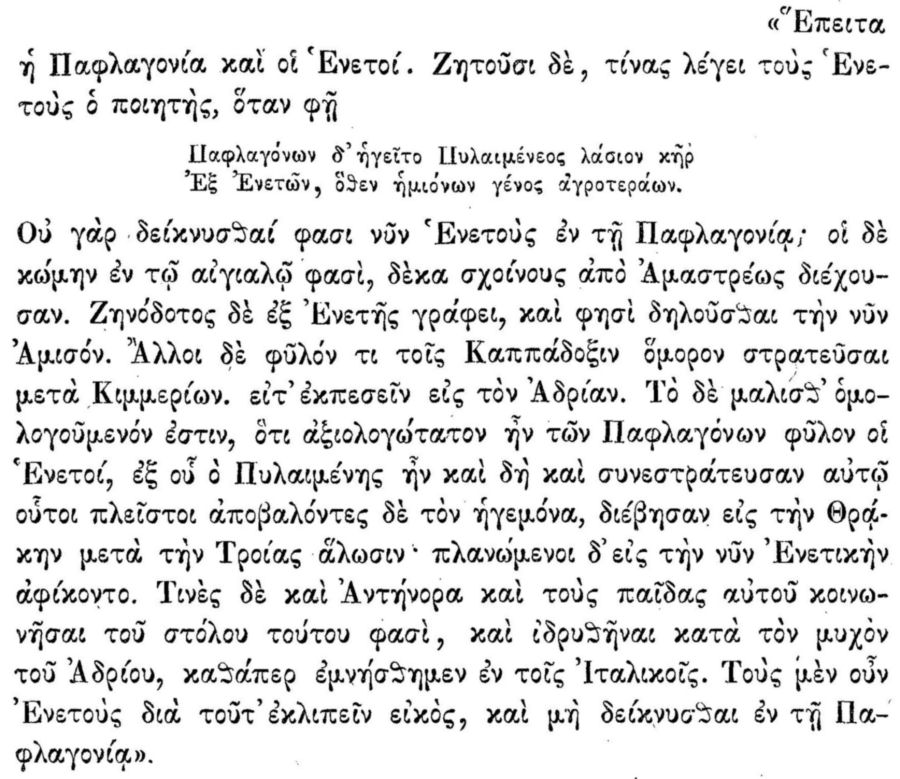
Здѣсь, какъ мы видимъ, Страбонъ не только уже не отвергаетъ мнѣнія о происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Пафлагонскихъ, что сперва онъ совершенно было заподозрилъ, не только ужь не сомнѣвается въ его справедливости, но даже принимаетъ это преданіе, какъ несомнѣнное историческое свидѣтельство и пользуется имъ для объясненія исчезновенія Венетовъ въ Пафлагоніи. Чѣмъ больше станемъ вникать въ слова Страбона, тѣмъ яснѣе раскроется передъ нами весь ходъ его предварительныхъ изслѣдованій и размышленій о вопросѣ, который сильно его занималъ и по которому онъ представлялъ свою ипотезу. Нельзя кажется отрицать, что вопросъ о происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ — сильно занималъ Страбона, вопросъ — вышли ли они изъ Пафлагоніи, или же съ сѣверо-запада, отъ океана Атлантическаго, такъ какъ Аборигенами ихъ никто и не думалъ считать, ни до Страбона, ни при немъ, ни послѣ него, въ чемъ согласенъ и Форбигеръ.
![]()
168
Еще менѣе подвержено сомнѣнію то, что Страбонъ первоначально былъ совершенно противъ перваго рѣшенія этого важнаго въ его глазахъ вопроса, т. е. противъ производства Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Пафлагонскихъ. Еще очевиднѣе перемѣна его мнѣнія объ этомъ предметѣ и конечно она произошла въ немъ вслѣдствіе долгаго размышленія и не безосновательныхъ розысканій.
Смѣю думать, что Страбонъ перемѣнилъ свое мнѣніе и согласился съ противоположнымъ, утверждавшимъ что Венеты Адріатическіе произошли отъ Венетовъ Пафлагонскихъ, на основаніи слѣдующихъ данныхъ и соображеній:
1) Древніе писатели, какъ напр. Софоклъ, а конечно и многіе другіе, отъ которыхъ не дошли до насъ извѣстія, выводили Венетовъ Адріатическихъ изъ Пафлагоніи.
2) Венеты Пафлагонскіе славились своимъ коневодствомъ; точно также и Венеты Адріатическіе.
3) Позднѣйшее исчезновеніе или уменьшеніе Венетовъ въ Пафлагоніи, объясняетъ ихъ выходъ оттуда и тѣмъ подтверждаетъ преданіе о происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Пафлагонскихъ,
4) Сходство именъ ихъ не случайное.
5) Венеты Адріатическіе сами себя производили отъ Венетовъ Пафлагонскихъ не по созвучію именъ — не διὰ τὴν ὡμονυμίαν.
Таковы были, смѣю думать, данныя и соображенія, представлявшіяся Страбону и убѣдившія его въ справедливости преданія, выводившаго Венетовъ Адріатическихъ изъ Пафлагоніи.
Выше мы видѣли, что Страооиъ самъ сказалъ: «впрочемъ по причинѣ сходства именъ сами себя они называютъ Пафлагонскими». Мы объяснили уже, какъ надо понимать здѣсь слова «впрочемъ по причинѣ сходства именъ», Страбонъ зналъ хорошо, что Венеты Адріатическіе сами себя считали выходцами изъ Пафлагоніи; если же онъ былъ бы твердо увѣренъ въ томъ, что такое ихъ мнѣніе основано на созвучіи именъ, то безъ сомнѣнія онъ и не упомянулъ бы о такомъ мнѣніи, и во всякомъ уже случаѣ по сказалъ бы вслѣдъ за тѣмъ: «Впрочемъ я этого не утверждаю, въ такихъ предметахъ довольно одной вѣроятности».
![]()
169
Свою ипотезу о происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ отъ Гальскихъ онъ считалъ тогда основательною, иначе бы онъ не предлагалъ ее читателю. Если же противуположное ему мнѣніе основывалось на одномъ созвучіи именъ, то онъ смѣло бы могъ остаться при своемъ мнѣніи. Такимъ образомъ слова Страбона «впрочемъ по сходству именъ сами себя (т. е. Венет. Адр.) считаютъ Пафлагонцами» — διὰ δὲ τὴν ὡμονυμίαν Παφλαγόνας φασὶν αὐτοὺς — должны быть разбиты на двѣ части — первая — Венеты Адріатическіе сами себя называли выходцами изъ Пафлагоніи — это фактъ несомнѣнный: вторая — они такъ думали на основаніи сходства именъ — это личное мнѣніе Страбона, которое впослѣдствіи времени перемѣнилъ онъ самъ, ибо иначе онъ не присталъ бы къ тѣмъ, которые выводили Венетовъ Адріатическихъ изъ Пафлагоніи.
Но вѣдь это безспорно весьма важный фактъ, если только онъ справедливъ, т. е. что сами Венеты Адріатическіе, самъ народъ смотрѣлъ на Пафлагонію, какъ на первоначальную свою родину.
Ниже мы увидимъ полную возможность убѣдиться въ Славянскомъ происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ.
Выше мы могли не разъ замѣтить, что характеръ изложенія Страбонова всего менѣе изслѣдовательный : выражая какую ни будь мысль, или сообщая какой нибудь фактъ, онъ не приводитъ всѣхъ своихъ основаній или источниковъ, а иногда и вовсе проходитъ ихъ молчаніемъ. Такъ, говоря о мнѣніи, производившемъ Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Гальскихъ и склоняясь въ то время болѣе на его сторону, онъ очевидно считалъ дѣломъ въ высшей степени вѣроятнымъ, если не несомнѣннымъ, единоплеменность тѣхъ и другихъ Венетовъ, однако онъ ничего не сообщилъ намъ о ней. Точно также въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ, что существуетъ двоякое мнѣніе о происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ, такъ напр, нѣкоторые вели ихъ отъ Гальскихъ, другіе отъ Пафлагонскихъ. Очевидно, что Страбону были извѣстны писатели древности, державшіеся того или другаго мнѣнія, однако онъ прошелъ ихъ молчаніемъ. Точно также слова его «Венеты Адріатическіе сами себя называютъ Пафлагонщами», заставляютъ
![]()
170
предполагать, что много фактовъ, хорошо извѣстныхъ Страбону, пройдено здѣсь молчаніемъ. Иначе надо предположить, что Страбонъ это выдумалъ, т. е. отъ Венетовъ Пафлагонскихъ они себя не производили. Но возможно ли это? Скорѣе Страбону было вовсе молчать объ этомъ.
Боязнь сказать великую нелѣпость заставляетъ насъ принимать то, что Венеты Адріатическіе дѣйствительно производили сами себя отъ Венетовъ Пафлагонесихъ. Страбонъ только умолчалъ о тѣхъ источникахъ, изъ коихъ заимствовалъ онъ это свѣдѣніе.
По счастью до насъ дошли другія свидѣтельства, доказывающія то же самое.
Знаменитый Римскій историкъ Т. Ливій, быть можетъ самъ Венетъ, по крайности уроженецъ Патавія (Падуа) города Венетскаго, начинаетъ свою исторію разсказомъ о томъ, что по разрушеніи Трои, Антеноръ со множествомъ Генетовъ, изгнанныхъ изъ Пафлагоніи и потерявшихъ своего вождя Пилемена, поселился у Адріатическаго залива, что, вытѣснивши Евганейевъ, жившихъ между Альпами и моремъ, Генеты и Троянцы заняли эти земли, и то мѣсто, въ которое они прежде всего пришли, называется Троею, отсюда же произошло названіе Троянской волости, весь же народъ назвался Венетами [1]».
Если бы и не было свидѣтельства Страбона о народномъ преданіи Венетовъ Адріатическихъ, по которому они выводили себя изъ Пафлагоніи, то и тогда мы не имѣли бы никакого права сомнѣваться въ народности этого преданія, такъ какъ имѣемъ передъ собою слова Т. Ливія, изъ которыхъ весьма ясно открывается, что ни онъ самъ, ни никто изъ его современниковъ не сомнѣвался въ достовѣрности этого преданія.
1. T. Liv. I, 1. «Jam primum omnium satis constat Troja capta in ceteros saevitum esse Trojanos; duobus Aeneae Anterorique, et vetusti jure hospitii, et quia pacis reddendaeque Helenae semper auctores fuerant, omne jus belli Achivos abstinuisse. Casibus deinde variis Antenorem cum mullitudine Henetum, qui seditione ex Paphlagonia pulsis et sedes et ducem rege Pylaemene ad Trojam amisso, quaerebant, renisse in intimum maris Hadriatici sinum; Euganeisque qui inter mare Alpesque incolebant, pulsis Henetos Trojanosque cas tenuisse terras: et in quem primum egressi sunt locum, Troja vocatur, pagoque inde Trojano nomen est, gens universa Veneti appellati».
![]()
171
Иначе онъ не сказалъ бы: jam primum omnium satis constat. Если бы наконецъ то было преданіе не народное, если же то была басня, выдуманная учеными и книжниками, то могло ли статься, что при Т. Ливіѣ и до него не встрѣтилось бы людей, которые бы возвысили свой голосъ съ цѣлью обличить и опровергнуть неправду и ложь этого мнѣнія? Положимъ, Т. Ливій, по многимъ причинамъ, между прочимъ по чувству патріотизма и народной гордости, могъ добродушно вѣрить этой баснѣ, мудро сплетенной хитрыми книжниками, однако, если бы были скептики (а они непремѣнно должны были быть въ томъ случаѣ, если то было не народное преданіе), то конечно при изложеніи этого преданія знаменитый историкъ обронилъ бы не одинъ намекъ на нихъ, безъ сомнѣнія тѣмъ скорѣе онъ имѣлъ бы ихъ въ виду, чѣмъ больше цѣны придавалъ онъ этому сказанію. Между-тѣмъ ничего подобнаго не находимъ мы въ словахъ Ливія, напротивъ того, онъ говоритъ объ этомъ, какъ о дѣлѣ, всѣмъ извѣстномъ, несомнѣнность котораго всѣми признана. Но не одинъ тонъ разсказа Ливія и характеръ его изложенія убѣждаютъ насъ въ томъ, что сказаніе о происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Пафлагонскихъ не было изобрѣтеніемъ пустаго тщеславія, считавшаго лестнымъ родство съ такимъ древнимъ и знаменитымъ народомъ, каковы были Венеты Пафлагонскіе, не было выдумкою ученыхъ и книжниковъ, но было чистымъ народнымъ преданіемъ, переходившимъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, изъ рода въ родъ.
Нѣтъ и не можетъ быть народа въ мірѣ, который бы не имѣлъ когда либо своихъ преданій о первоначальныхъ своихъ жилищахъ, о родствѣ своемъ съ другими соплеменниками, если въ слѣдствіе какихъ либо обстоятельствъ онъ разлучился съ ними. Колонисты, переселенцы должны имѣть преданія, сохраняющія память объ ихъ митрополіи. Отчего же Венеты Адріатическіе, которые Аборигенами не были, не могли имѣть такихъ преданій? Отчего думать, что ни одинъ изъ писателей древности не сохранилъ до насъ настоящихъ ихъ преданій? Зачѣмъ предполагать, что древніе писатели, вмѣсто того, чтобы сообщить намъ эти настоящія народныя преданія, выдумали свои басни?
![]()
172
Переселенцы, колонисты не только долго сохраняютъ воспоминанія о своей митрополіи, но и стараются память о ней увѣковѣчить разными признаками, напр. даютъ старыя мѣстныя названія новымъ своимъ жилищамъ. Изъ словъ Ливія мы могли уже замѣтить, что еще въ его время въ области Венетовъ были названія, напоминавшія старую ихъ родину — in quem primum egressi sunt locum, Troja vocatur, pagoque inde Trojano nomen est. Названія мѣстныя даются народомъ, а не учеными, не книжниками. Если бы сказаніе о происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Пафлагонскихъ было пустою, хвастливою баснею, вымысломъ книжниковъ, а не народнымъ преданіемъ, то ни коимъ образомъ въ области Венетовъ не могло быть и мѣстныхъ Азіатскихъ названій, не существовалъ бы во времена Т. Ливія и этотъ pagus Trojanus. Если же это поселеніе и его названіе не было очень стародавнимъ, то Т. Ливій былъ на столько уменъ и добросовѣстенъ, что никогда бы не упомянулъ о немъ; для повѣрки же этой стародавности онъ имѣлъ и полную возможность, какъ уроженецъ и житель области Венетовъ, и всѣ побужденія, какъ человѣкъ просвѣщенный и любознательный.
До насъ дошли другія свидѣтельства, доказывающія народность сказанія о происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Пафлагонскихъ.
Тацитъ передаетъ намъ весьма любопытное извѣстіе о томъ, что въ городѣ Патавіи (Падуѣ), столицѣ Венетовъ, были особыя игры, кулачные бои — ludi caestici, начало и устройство которыхъ было приписываемо Антинору. Idem Thrasea Patavii, unde ortus erat, ludis ceasticis, a Trojano Antenore institutis, habitu triagico cecinerat. (Ann. XVI, 21). Надѣюсь, эго извѣстіе довольно убѣдительно доказываетъ справедливость словъ Страбона о томъ, что Венеты Адріатическіе сами себя называли Пафлагонцами, вѣрность нашего объясненія вышеприведеннаго мѣста Ливія. Кажется извѣстіе это способно убѣдить всякаго въ томъ, что Венеты Адріатическіе сохраняли воспоминанія о связи своей съ Венетами Пафлагонскими.
Плиній, отличавшійся огромною начитанностью, говоритъ въ одномъ мѣстѣ своего обширнаго труда:
![]()
173
«Катонъ свидѣтельствуетъ, что Венеты происхожденія Троянскаго — Venetos Trojana stirpe ortos auctor est Cato. Plin. Hist. Nat. 3, 19. 23. — Эти слова служатъ также въ пользу народности преданія о происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ отъ Пафлагонскихъ. Если бы то было не преданіе народное, а простая сказка, пустая выдумка хвастливыхъ книжниковъ, какъ то утверждать разсудили за благо Цейссъ, Гротефендъ, Форбигеръ, то конечно Катонъ заимствовалъ это свѣдѣніе не изъ устнаго [1], а изъ письменнаго источника, напр. изъ какого нибудь Греческаго писателя, а въ такомъ случаѣ Плиній конечно не сослался бы на Катона, а на того или другаго Греческаго писателя, такъ какъ намъ хорошо извѣстно, что еще Софоклъ (488—407-6 г. до Р. X), современникъ Иродота, говорилъ о переселеніи Венетовъ изъ Пафлагоніи къ Адріатическому морю, и нѣтъ ни возможности, ни основанія утверждать, что ни одинъ Греческій писатель послѣ Софокла никогда уже не упоминалъ объ этомъ. Какъ бы Плиній ни былъ слабъ въ критикѣ, сама громадная начитанность его не дозволила бы ему, по поводу Пафлагонства Венетовъ Адріатическихъ, ссылаться на Катона, по крайности на него одного, и пройти молчаніемъ тѣхъ Греческихъ писателей, изъ которыхъ Катонъ заимствовалъ это свѣдѣніе. Ссылка же Плинія на одного Катона служитъ прямымъ доказательствомъ того, что Катонъ заимствовалъ это извѣстіе о выходѣ Венетовъ Адріатическихъ изъ М. Азіи, о родствѣ ихъ съ Венетами Пафлагонскими не изъ Греческихъ сочиненій, не изъ письменнаго, а изъ устнаго источника,
1. Корнелій Непотъ говоритъ о Катонѣ: senex historias scribere inslituit, quarum sunt libri seplem. Primus continet res gestas regum populi Romani. Secundus et tertius, unde quaeque civitas orta sit ltalica: ob quam rem omnes Origines videtur appellasse. (Μ. P. Cat. Vita с. III). Положительно и достовѣрно извѣстно, что Катонъ собиралъ устныя народныя преданія Италійцевъ: такъ онъ бранитъ Лигурійцевъ за то, что они ничего не знаютъ о своемъ происхожденіи. Сервій говоритъ : Cato Originum II, cum de Liguribus loqueretur: Sed ipsi, unde oriundi sunt exacta memoria illiterati, mendacesque sunt et vera minus meminere (Serv. Аen. XI, 715). См. Vitae et Fragmenta veterum historicorum Romanorum; composuit Aug. Krause. Berolini. MDCCCXXXIII, p. 108. Справлялся ли Катонъ y Венетовъ — unde oriundi sunt? Отвѣчали ли они ему немогузнайствомъ? Зная слова Страбона, мѣсто Ливія, извѣстіе Тацита, мы убѣждены, что Катону они указали на Пафлагонію, Малую Азію, какъ на первоначальную свою родину — unde oriundi sunt. А Плиній намъ положительно говоритъ: Venetos Trojana stirpe ortos auctor est Cato.
![]()
174
изъ народныхъ преданій самихъ Венетовъ, о бытности которыхъ находятся прямыя, положительныя и несомнѣнныя доказательства въ Страбонѣ, Т. Ливіѣ, Тацитѣ [1].
1. Авторъ рѣшается замѣтить: если Кельты, Нѣмцы и Славяне не только могли, но и должны были долго въ Европѣ сохранять народныя преданія о востокѣ, объ Азіи, какъ о первоначалной своей родинѣ, колыбели; если при выселеніи ихъ въ Европу, болѣе или менѣе значительная часть каждаго изъ этихъ великихъ племенъ могла, остаться въ Азіи; если Кельты, Нѣмцы, Славяне Европейскіе долго не могли утратитѣ сознанія единства своего происхожденія съ своими соплеменниками, оставшимися въ Азіи; если такимъ образомъ они долго старались по возможности не прерывать своихъ сношеній съ своими Азійскими братьями; если такія связи могли долго въ Азійскихъ и Европейскихъ братьяхъ поддерживать, укрѣплять и освѣжать воспоминанія, память и сознаніе единства ихъ общаго происхожденія; если наконецъ въ такихъ вопросахъ относительно Кельтовъ, Нѣмцевъ и Славянъ нѣтъ ничего непозволительнаго, невѣроятнаго, нелѣпаго, дикаго и безразсуднаго, то не будетъ ли то же самое съ такими же вопросами относительно такъ называемыхъ древнихъ классическихъ народовъ, т. е. Грековъ и Римлянъ, которые тоже, подобно младшимъ своимъ братьямъ, Кельтамъ, Нѣмцамъ и Славянамъ, пришли въ Европу изъ Азіи? Наконецъ слѣдуетъ ли непремѣнно рѣзко и положительно утверждать, что въ нижеприводимомъ мѣстѣ Тацита содержится одна только хвастливая, нелѣпая ложь, ни на чемъ не основанная? Нельзя ли предполагать, что нѣкоторые народы Индо-Европейскіе проникли изъ Азіи на югъ и западъ Европы не непремѣнно черезъ южную Россію, а напримѣръ черезъ Дарданеллы, изъ Малой Азіи, этого классическаго моста цивилизацій, по удачному выраженію К. Риттера? Не могли ли тѣ Индо-Европейцы, что населили Италію, проникнуть въ Европу изъ Малой Азіи? Не могла ли болѣе или менѣе значительная часть ихъ племени остаться въ Малой Азіи? и т. д. Не смѣя болѣе злоупотреблять терпѣніемъ читателя, привожу обѣщанное мѣсто Тацита. При Тиверіѣ явились въ Римъ послы Азійскіе,
ambigentes quanam in civitate templum statueretur. «Undecim urbes certabant, pari ambitione, viribus diversae: neque multum distantia inter se memorabant, de vetustate generis, studio in populum Romanum, per bella Persi et Aristonici aliorumque regum. Verum Hypaepeni Trallianique, Laodicenis ac Magnetibus simul, tramissi, ut parum validi. Ne Ilienses quidem, quum parentem urbis Romae Trojam referrent, nisi antiquitatis gloria, pollebant: paullum addubitatum, quod Halicarnassii mille et ducentos per annos nullo motu terrae nutavisse sedes suas, vivoque in saxo fundamenta templi, asseveraverant. Pergamenos (eo ipso nitebantur) aede Augusto ibi sita satis adeptos creditum. Ephesii Milesiique, hi Apollinis, illi Dianae caerimonia, occupavisse civitates visi. Ita Sardianos inter Smyrnaeosque deliberatum. Sardiani decretum Etruriae recitavere, ut consanguinei: nam «Tyrrhenum Lydumque, Atye, rege genitos, ob multitudinem divisisse gentem: Lydum patriis in terris resedisse: Tyrrheno datum novas ut conderet sedes: et ducum e nominibus indita vocabula, illis per Asiam, his in Italia: auctamque adhuc Lydorum opulentiam, missis in Graeciam populis, cui mox a Pelope nomen». Simul literas imperatorum, et icta nobiscum foedqra bello Macedonum, ubertatemque fluminum suorum, temperiem coeli, ac dites circum terras, memorabant». (Ann. IV, LV).
![]()
175
Добросовѣстное, смѣю думать, разсмотрѣніе дошедшихъ до иасъ былей и историческихъ свидѣтельствъ несомнѣнно увѣряетъ въ томъ, что у Венетовъ Адріатическихъ существовали народныя преданія, хранившія въ ихъ сознаніи память объ ихъ родствѣ съ Венетами Пафлагонскими, объ ихъ выходѣ изъ М. Азіи. Чтобы отрицать народность этого сказанія и напротивъ того утверждать, что то была сказка, басня, выдуманная Греческими и Римскими учеными и книжниками, подобная баснямъ, пущеннымъ въ ходъ нашими книжниками о родствѣ Рюрика съ Августомъ, о Мосохѣ и т. п., для того потребуется исказить всѣ историческія свидѣтельства и были, толковать ихъ по личному благоусмотрѣнію и по собственному, ничѣмъ не стѣсняемому произволу, чего, полагаю, никогда не позволитъ строгая критика. Посмотримъ теперь, сколько понадобится всякаго рода натяжекъ и нелѣпыхъ предложеній для того, чтобы принять это сказаніе за выдумку отдѣльныхъ лицъ и за басню, произведеніе досужей фантазіи древнихъ книжниковъ.
Во времена Нерона были въ Падуѣ, въ области Венетовъ, такъ называемые ludi caestici. — Эти игры были недавняго или древняго происхожденія. Кто нибудь изъ Венетовъ вычиталъ у Софокла или у Катона, что они де происходятъ отъ Венетовъ Пафлагонскихъ, что при переселеніи ихъ изъ М. Азіи были у нихъ товарищами Троянцы, у которыхъ былъ какой-то Антипоръ. Вычитавши такое лестное извѣстіе о своемъ народѣ, Венетъ этотъ сообщилъ его тотчасъ же своимъ землякамъ, тѣ конечно этому очень порадовались, и рѣшили или устроить новыя игры (ludi caestici) и честь ихъ устройства приписать Антинору, или же какія нибудь древнія игры, слѣд. народныя, окрестить именемъ Антиноровскихъ, пущай молъ ихъАнтииоръ устроилъ. И согласились тогда всѣ Венеты, на вопросъ — кѣмъ заведены ваши игры, ваши ludi caestici, отвѣчать— Троянцемъ Антиноромъ. Тацитъ потому-то и сказалъ такъ утвердительно — ludis caesticis а Trojano Antenore institutis. А можетъ быть Тацитъ это выдумалъ или же какой нибудь другой писатель, изъ котораго онъ заимствовалъ это извѣстіе? Прочиталъ тотъ извѣстную сказку о Венетахъ Адріатическихъ и заключилъ, что играмъ Венетскимъ кого другого и имѣть своимъ виновникомъ и учредителемъ, какъ не Антинора.
![]()
176
— Развѣ не крайне нелѣпы всѣ эти и подобныя имъ предположенія, совершенно однако необходимыя и неминучія, если станемъ утверждать, что у Венетовъ Адріатическихъ никогда не было народныхъ преданій объ ихъ родствѣ съ Венетами Пафлагонскими?
Во время Т. Ливія въ области Венетовъ, его родинѣ, была какая-нибудь вилла, которую хвастливый хозяинъ, вычитавши нелѣпую сказку о происхожденіи Венетовъ изъ Пафлагоніи, назвалъ pagus Trojanus. Т. Ливій, самъ добродушно вѣрившій этой сказкѣ, привелъ, въ подтвержденіе ея, указаніе на эту частную дачу, на эго помѣстье. Предположеніе крайне нелѣпое, а его необходимо держаться, если хотимъ утверждать, что мѣстное названіе «pagus Trojanus» было дано не народомъ, который бы однако не могъ дать такого названія, если бы у него не было преданій о родствѣ его съ Венетами Пафлагойскими.
Точно также слѣдуетъ предположить, что Плиній, удивляющій своею громадною начитанностью и трудолюбіемъ насъ, современниковъ Гумбольдтовъ, Риттеровъ, Гриммовъ, Шафариковъ, Палацкихъ, что этотъ Плиній не читалъ трагедіи Софокла «Разрушеніе Трои», въ которой по словамъ почтеннаго Страбона содержится также извѣстіе о выходѣ Венетовъ Адріатическихъ изъ Пафлагоніи. Надо предположить, что послѣ Софокла ни одинъ изъ Греческихъ писателей не говорилъ объ этомъ, а если послѣ Софокла и были писатели, говорившіе объ этомъ, то Плиній и ихъ значитъ не читалъ. Забыть сдѣлать выписку Плиній могъ, но вовсе забыть такое обстоятельство рѣшительно невозможно. Онъ изъ Катона вѣдь не приводитъ же выписки, а просто говоритъ: «Venetos Trojana stirpe ortos auctor est Cato». Очевидно Плиній не читалъ трагедіи Софокла «Разрушеніе Трои», ни одного изъ древнѣйшихъ или позднѣйшихъ Греческихъ Свидѣтельствъ, упоминавшихъ о Пафлагонствѣ Венетовъ Адріатическихъ (и до насъ недошедшихъ). Очевидно Плиній по всей литературѣ этого вопроса зналъ одного только Катона, да и его-то врядъ ли читалъ, а зналъ лишь по наслышкѣ, ибо тотъ конечно уже указалъ бы на того Греческаго писателя или вообще на тотъ письменный источникъ, изъ котораго опъ заимствовалъ это свѣдѣніе.
![]()
177
Въ такомъ случаѣ Плиній бы не сказалъ тогда: auctor est Gato. Предположенія крайне неосновательныя и совершенно необходимыя въ томъ случаѣ, если не принимать, что Катонъ, собиравшій народныя преданія Италійцевъ и бранившій Лигурійцевъ за то, что они ничего не помнятъ о своемъ происхожденіи, что Катонъ заимствовалъ это свѣдѣніе изъ источника устнаго, изъ народныхъ преданій Венетовъ Адріатическихъ, которые не были Иллирійцами, т.е. предками нынѣшнихъ Албанцевъ, но Славянами, какъ то ниже увидимъ. Соплеменники Венетовъ Сѣверныхъ, Венеты Адріатическіе имѣли народныя преданія и воспоминанія о Пафлагоніи, о М. Азіи, какъ о древней своей родинѣ [1]. Изъ того, что Иродотъ сказалъ, что Венеты Пафлагоненіе были Мидійцы, еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы они и дѣйствительно ими были. Венетовъ Адріатическихъ Иродотъ назвалъ Иллирійцами, однако они сами себя считали и слѣдовательно дѣйствительно были соплеменниками Венетовъ Пафлагонскихъ, которые слѣдовательно должны быть такого же Славянскаго происхожденія, что и безъ того было весьма вѣроятно.
Здѣсь позволяю себѣ выразить надежду, что предложенные мною доводы противъ мнѣнія Цейсса, Гротефенда, Форбигера не лишены нѣкоторой силы и основательности и что единоплеменность Венетовъ Адріатическихъ и Пафлагонскихъ должна быть принимаема за истину несомнѣнную, по крайности до тѣхъ поръ, пока не будетъ представлено дѣльныхъ и рѣшительныхъ возраженій противъ нижеслѣдующихъ положеній нашихъ :
1. Современники Иродота, считавшаго Венетовъ Пафлагонскихъ — Мидійцами, а Венетовъ Адріатическихъ — Иллирійцами, слѣдовательно тѣхъ и другихъ иноплеменниками, современники Иродота, какъ напр. Софоклъ, а по всей вѣроятности и предшественники ихъ,
1. Любопытно, что въ XXIX Новеллѣ императора Юстиніана (De Praetore Paphlagoniae) сказано въ самомъ началѣ: Τὸ Παφλαγόνων ἔθνος ἀρχαῖόν τε καὶ οὐκ ἀνώνυμον καθεστώς (καθέστηκεν Hal.) ἀλλὰ τοσούτον, ὡς καὶ ἀποικίας μεγάλας ἐκπέμψαι, καὶ τὰ ἐν τ᾿Ιταλοῖς συνοικίσαι Βενετίας, ἐν αἷς δή καὶ Ἀκυληΐα πὸλις τῶν ἐπὶ τῆς ἑσπέρας μεγίστη κατῴκισται, καὶ βασιλικὴν πολλάκις δίαιταν δεξαμένη. — Corpus Juris Civilis recognovit et brevi annolatione instructum edidit D. I. Lud. Guil. Beck. Lipsiae. MDCCCXXXVI. T, II. p. 866.
![]()
178
считали тѣхъ и другихъ Венетовъ — единоплеменниками.
2. Страбонъ производилъ одно время Венетовъ Адріатическихъ отъ Венетовъ Гальскихъ, при чемъ онъ основывался не только на аналогіи Бойевъ и Семноновъ, но и на другихъ данныхъ или соображеніяхъ намъ неизвѣстныхъ, которыя убѣждали его въ единоплемениости Венетовъ Гальскихъ и Адріатическихъ.
3. Слова Страбона διὰ τὴν ὡμονυμίαν не могутъ быть понимаемы иначе, какъ внушеніе промелькнувшаго въ немъ желанія подорвать довѣріе къ противуположному мнѣнію, выводившему Венетовъ Адріатическихъ изъ Пафлагоніи.
4. Страбонъ самъ впослѣдствіи присталъ къ этому послѣднему мнѣнію, на основаніи такихъ данныхъ и соображеній, которыя понынѣ имѣютъ цѣнность и значеніе.
5. Слова Страбона, извѣстія Ливія, Тацита, Плинія несомнѣнно доказываютъ, что у Венетовъ Адріатическихъ существовали народныя преданія и воспоминанія о выходѣ ихъ изъ М. Азіи и Пафлагоніи.
Очень хорошо понимая всю важность такого вывода не только для науки Славянскихъ древностей, я не рѣшаюсь теперь указывать на тѣ послѣдствія, которыя онъ неминуемо долженъ оставить за собою въ томъ случаѣ, если дѣйствительно лежитъ на немъ печать такой несомнѣнности, какъ то мнѣ кажется въ настоящее время. Вмѣстѣ съ тѣмъ не могу однако удержаться отъ изъявленія едва ли суетнаго желанія услыхать строгое, но всегда правдивое сужденіе славнаго свѣтильника и мудраго вожатая нашего — о доводахъ своихъ въ пользу Славянства Венетовъ Пафлагонскихъ. Защищая положеніе это, авторь не разставался съ мучительнымъ и тревожнымъ для него воспоминаніемъ о словахъ Шафарика, назвавшаго однажды всякіе поиски Славянъ въ Пафлагоніи суетными и безплодными. Въ продолженіи труда успокоивало его однако сознаніе твердое и неколебимое, что внимательное и добросовѣстное изученіе представлявшихся данныхъ, само привело его къ необходимости вновь поднять забытый и оставленный вопросъ о возможности и вѣроятности Славянскаго происхожденія Венетовъ Пафлагонскихъ.
![]()
179
Слѣдующія данныя и соображенія, другъ отъ друга независимыя, привели его къ этой необходимости;
1. Замѣчательное мѣсто жизнеописагеля св. Климента, ясно и просто понимаемое, заставляетъ думать, что Славяне Задунайскіе X—XII в. сохраняли смутныя народныя преданія о томъ, что Славянскія поселенія въ М. Азіи VII—VIII в. не первыя поселенія Славянъ въ М. Азіи, что напротивъ за долго до нихъ, когда-то въ сѣдой древности, жили уже въ ней ихъ предки. Жизнеописатель св. Климента, какъ на древнія жилища Славянъ указалъ на Виѳинію, окрестности Бруссы и Олимпа.
2. Въ древней Виѳиніи находились два города Кίος и Λίβυσσα (жители Κιανοί); названія прямо указывающія на такія же Славянскія названія. Они лежали въ тѣхъ же самыхъ мѣстностяхъ, гдѣ находились Славянскія поселенія не только въ XVII—XIX в., но и въ VII—VIII и въ слѣд. вѣка.
3. Въ древней Пафлагоніи, на берегу морскомъ, находилась мѣстность Ζάγωρον, Ζάγειρα, Zacoria, Ζάγορα, напоминающія любимое мѣстное Славянское названіе — Загора.
4. При современномъ состояніи науки, весьма, кажется, понятны и законны вопросы -гсохранились ли у Славянъ какіе нибудь слѣды народныхъ преданій и воспоминаній объ Азіи, какъ о древнѣйшей ихъ прародинѣ? при выселеніи изъ Азіи Славянскаго племени въ Европу, не осталась ли болѣе или менѣе значительная его часть въ Азіи? при возможности въ настоящее время двоякаго рѣшенія этого вопроса, въ случаѣ отвѣта положительнаго не слѣдуетъ ли утверждать, что разлученные соплеменники долго не могли утратить сознанія единства своего происхожденія и потому старались не прерывать своихъ связей.
5. Разсмотрѣвъ, по имѣвшимся въ распоряженіи нашемъ даннымъ и силамъ, судьбу Славянскихъ поселеній въ М. Азіи съ VII в. по настоящее время включительно, мы пришли къ тому заключенію, что во все это время Славянская стихія дѣйствовала тамъ непрерывно.
6. Свѣдѣнія наши о тѣхъ путяхъ, которыми проникали Славяне въ М. Азію въ этотъ послѣдній періодъ, въ связи съ извѣстіями
![]()
180
о жилищахъ Славянъ въ Европѣ и съ нѣкоторыми историческими соображеніями привели насъ къ тому заключенію, что въ настоящее время нѣтъ никакой возможности указать на время, когда впервые стали проникать Славяне въ М. Азію.
7. Послѣднее заключеніе о томъ, что первое появленіе Славянъ въ М. Азіи, что называется, теряется во мракѣ вѣковъ, тѣмъ болѣе вѣроятно, что болѣе или менѣе значительная часть Славянъ, при выселеніи этого племени въ Европу, могла остаться на востокѣ и впослѣдствіи появиться въ М. Азіи. Память и воспоминанія о единствѣ происхожденія очень легко могли поддерживать сношенія Славянъ Европейскихъ съ М. Азійскими.
8. Какъ ни смѣло послѣднее предположеніе, хотя въ немъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, однако оно находитъ себѣ оправданіе въ первыхъ трехъ положеніяхъ ;— въ важномъ мѣстѣ краткаго житія съ. Климента, въ мѣстныхъ собственныхъ названіяхъ — Κιος, Κιανοί, Λίβυσσα, Ζάγωρα.
9. Допустивъ однажды возможность древнихъ поселеній Славянъ въ М. Азіи, найдя чисто Славянскимъ названіе одной мѣстности въ Пафлагоніи, авторъ уже не могъ не вспомнить, что въ Пафлагоніи издревле жилъ какой-то народъ, называвшійся Генеты, Венеты; что подъ этимъ послѣднимъ названіемъ слыли Славяне въ Европѣ; что уже за долго до насъ Суровецкій, ученый весьма замѣчательный (котораго Шафарикъ называетъ «глубокомысленнымъ, осторожнымъ изслѣдователемъ»), считалъ Венетовъ Пафлагонесихъ Славянами.
Такимъ-то путемъ пришелъ авторъ къ необходимости снова поднять вопросъ о происхожденіи Венетовъ Пафлагонскихъ. Онъ не можетъ не признаться, что приступалъ къ нему не безъ тяжелаго чувства, которое не можетъ не сопровождать всякаго изслѣдователя, вступающаго иногда по чистой необходимости въ темныя, едва освѣщаемыя области вѣдѣнія. Скорбное чувство безъисходности и безплодности предпринимаемаго имъ дѣла совершеино имъ овладѣло, какъ только вспомнилъ онъ слова ученаго, котораго онъ навсегда избралъ своимъ руководителемъ, слова Шафарика о томъ, что въ изученіи Славянскихъ древностей надо довольствоваться землями между Карпатами и Балтійскимъ моремъ.
![]()
181
«Это необъятное поле, большею частію по сю пору непочатое, ожидаетъ руки прилежнаго и опытнаго дѣлателя. Всякое-же противуположное тому занятіе, усиливающееся отыскать Славянъ въ прочихъ странахъ и давнопротекшихъ вѣкахъ, въ ковчегѣ Ноя, въ Индіи, Пафлагоніи, Ѳракіи, Галліи, Скиѳіи предъ и за Имаусомъ, и т. н., останется навсегда суетнымъ и безплоднымъ. Таково уже свойство человѣческаго ума, что онъ, достигши вершины своихъ пламенныхъ желаній, стремится еще къ большему. А потому, очень можетъ быть, что многіе изслѣдователи, недовольные этими предѣлами времени и пространства, назначенными нами Славянскимъ древностямъ, будутъ все далѣе и далѣе стремиться и искать Славянъ тамъ, гдѣ ихъ не бывало. Но благоразумный изслѣдователь, взвѣшивающій все безъ увлеченія и забвенія своей обязанности, долженъ обращаться къ наукамъ плодотворнымъ, а не гоняться за невозможнымъ».
Читатель, понимающій всю цѣну этого мудраго совѣта, повѣритъ пишущему эти строки, если онъ скажетъ, что не разъ онъ кидалъ свою работу... Но зная, съ одной стороны, что всякое отрицаніе есть вмѣстѣ съ тѣмъ и утвержденіе, съ другой же стороны поставивъ себѣ за правило никогда и ничего не утверждать положительно, безъ ясныхъ на то доводовъ, авторъ предпочелъ тяжелый путь изслѣдованія, ибо имѣлъ предъ собою — мнѣніе глубокомысленнаго и осторожнаго Суровецкаго, видѣвшаго Славянъ въ Венетахъ Пафлагонскихъ и мнѣніе Шафарика, не видящаго въ нихъ Славянъ и объясняющаго сходство именъ случайностью. Не рѣшаясь повторять Суровецкаго, авторъ не смѣлъ однако и согласиться съ Шафарикомъ, ибо считая свои положенія (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) справедливыми, онъ былъ увѣренъ, что въ настоящее время Шафарикъ не сказалъ бы, что тѣ, которые считаютъ Венетовъ Пафлагонскихъ Славянами, основываются въ этомъ случаѣ на одномъ сходствѣ именъ, которое могло быть случайно. Соображая свои положенія съ мнѣніемъ Суровецкаго, авторъ пришелъ къ тому заключенію, что оно не содержитъ въ себѣ ничего нелѣпаго, страннаго и безразсуднаго, что напротивъ того оно гораздо вѣроятнѣе, въ настоящее но крайности время, нежели мнѣніе Шафарика,
![]()
182
который однажды выразился о бытности Славянъ въ Пафлагоніи, какъ о чистой невозможности и о крайней нелѣпости. Такимъ образомъ Шафарикъ былъ справедливѣе, въ другой разъ, когда сказалъ: «Если Адріатическіе Венеты, Пафлагонскіе Генеты, Альпійскіе Винделики и Арморійскіе Венеты были дѣйствительно народы племени Виндскаго или Славянскаго (какъ то можно предполагать по нѣкоторымъ даннымъ), то мы съ радостію дадимъ имъ мѣсто въ святилищѣ предковъ нашихъ; если же, напротивъ, не были, если должно вовсе отказаться отъ сходства съ ними и обратиться къ своимъ соплеменникамъ»... Положенія автора кажется нѣсколько увеличили число тѣхъ данныхъ, по которымъ можно предполагать о Славянскомъ происхожденіи Венетовъ Пафлагонскихъ, и вмѣстѣ съ послѣдними словами Шафарика убѣдили его, что предпринятый имъ трудъ былъ не совсѣмъ безплоденъ и суетенъ, покрайности не такъ, какъ если бы онъ сталъ искать Славянъ, напр. въ Индіи или въ ковчегѣ Ноя. Внимательное же разсмотрѣніе словъ Страбона, Ливія, Тацита и Плинія убѣдило его въ возможности окончательно рѣшить вопросъ о Венетахъ Пафлагонскихъ. Они были соплеменниками Венетовъ Адріатическихъ, которые сами себя производили изъ Пафлагоніи и долго сохраняли о ней народныя преданія и воспоминанія.
Однако Цейссъ, Гротефендъ, Форбигеръ, основываясь на словахъ Иродота (Ἰλλυριῶν Ἐνετοί I. 196), называютъ ихъ Иллирійцами, не Славянами, а предками нынѣшнихъ Албанцевъ.
Маннертъ и Суровецкій называли ихъ Славянами; Шафарикъ находилъ ихъ мнѣніе вѣроятнымъ.
Иродотъ, который лучше могъ знать Венетовъ Пафлагонскихъ, нежели Адріатическихъ, называлъ первыхъ Мидійдами. Такъ какъ соплеменность тѣхъ и другихъ Венетовъ несомнѣнно доказана, то, если вѣрить Иродоту, надо Венетовъ Адріатическихъ признавать за Мидійцевъ; Страбонъ, увѣренный въ ихъ единоплеменности съ Венетами Гальскими и видя въ послѣднихъ Кельтовъ, считалъ одно время Кельтами и Венетовъ Адріатическихъ, впрочемъ совершенно неосновательно, такъ какъ Поливій, очевидно близко знакомый и съ тѣми и съ другими, прямо выразился: «Венеты мала отличаются отъ Кельтовъ нравами
![]()
183
и образомъ жизни, однако говорятъ другимъ языкомъ». Это свидѣтельство весьма важно въ томъ отношеніи, что удаляетъ всякую мысль объ ихъ Мидійскомъ происхожденіи, которое впрочемъ и безъ того совершенно невѣроятно: ни ихъ бытъ, ни исторія, ни мѣстныя названія, ничто не обличаетъ въ нихъ Мидійскаго происхожденія. «А коневодство?» Но оно только блистательно подтверждаетъ историческую истину сказанія о выходѣ Венетовъ Адріатическихъ изъ Пафлагоніи, гдѣ Венеты сосѣдили съ народами Мидійскими — Veneti multum ex moribus Sarmatarum traxerunt. — И такъ Иродотъ ошибся, назнавъ Венетовъ Пафлагонскихъ — Мидійцами. Положительно можно сказать, что ими они не были. Но Иродоту гораздо удобнѣе и легче было знать Венетовъ Пафлагонскихъ, чѣмъ Адріатическихъ; если онъ ошибался относительно первыхъ, то еще легче могъ ошибиться относительно послѣднихъ; отъ тогото и никоимъ образомъ не могу согласиться съ слѣдующими словами достопочтеннаго ученаго Нѣмецкаго, Цейсса : «Herodots Auctoritat ist... hinreichend, die Veneter dem benachbarten Stamme am Adriaufer zuzustellen und sie für die äussersten Illirier im Nordwest zu rechnen» (S. 251). Указавъ на то, что еще Скилаксъ (IV в. до P. X.) Венетовъ Адріатическихъ отдѣлялъ отъ Иллирійцевъ [1], мы позволимъ себѣ раскрыть тѣ побужденія и доводы, которые заставляютъ насъ не соглашаться съ мнѣніемъ Цейсса, Гротефенда и Форбигера на счетъ Иллиризма или Албанизма этихъ Венетовъ, а признавать ихъ за Славянъ.
Имя ихъ одно уже наводитъ ыа мысль видѣть въ нихъ соплеменниковъ Венетовъ Балтійскихъ, какъ извѣстно, несомнѣнныхъ Славянъ. Торговля янтаремъ, который къ нимъ шелъ отъ Венетовъ Балтійскихъ, извѣстія Нестора и Богухвала, указывающія на древность Славянскихъ поселеній въ Панноніи,
1. См. Scylacis Periplus ex recensione P. Fabricii. Dresdae. MDCCCXLVIII.
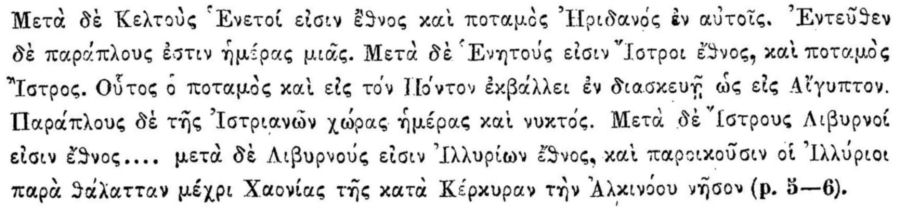
![]()
184
въ свою очередь подтверждаемыя мѣстными именами, а также и сношенія Венетовъ Адріатическихъ съ Панноніею и черезъ Панионію съ Венетами Балтійскими — все это можетъ служить нѣкоторымъ подтвержденіемъ едипоплеменности Венетовъ Адріатическихъ съ Балтійскими: сходство языка, единство происхожденія обыкновенно служатъ главнѣйшимъ облегченіемъ и внѣшнихъ международныхъ сношеній [1]. И въ позднѣйшее время мы замѣчаемъ у Славянъ какое-то тяготѣніе къ Венеціи, ничего подобнаго не видимъ у Албанцевъ. Два слова Иродота еще не даютъ намъ никакого права утверждать, что Адріатическіе Венеты случайно носили то имя, подъ которымъ слыли Славяне въ Европѣ. Цейссъ заблуждался, думая видѣть различіе въ словахъ Venedi и Veneti (S. 67—68), Шафарикомъ положительно доказано, что эти слова употреблялись безразлично. Нельзя также не замѣтить, что ни Цейссъ, ни тѣмъ болѣе Гротефендъ или Форбигеръ не могли быть вполнѣ компетентными судьями въ вопросѣ о томъ, на сколько Венетскія названія могутъ служить въ пользу или противъ Славянизма Венетовъ Адріатическихъ. Они на это даже вовсе не обратили никакого вниманія, и напрасно! Въ области Венетовъ находилась Gradus (гавань у Аквилеи); изъ того, что это имя впервые упоминается Павломъ Дьякономъ, еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы оно не было древнимъ, потому что другія, отъ древности дошедшія до насъ мѣстныя названія, также чисто Славянскія: Tergeste — тръгъ, тръжище; Belunum и Bellunum (Βελοῦνον и Βελλοῦνον) —Велынь и Волынь, рѣки — Plavis — Plave, нынѣ Piave, Плава и пр., Timavus — тьмавый (нынѣ Timavo).
1. См. Forbiger — Handb. d. alt. Geogr. — Несторъ — «Иллюрикъ Словѣне» — «Норци, еже суть Словѣне. По мнозѣхъ же времянѣхъ сѣли суть Словѣни по Дунаеви, гдѣ есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. Отъ тѣхъ Словѣнъ разидошася по землѣ и прозвашася имены своими, гдѣ сѣдше на которомъ мѣстѣ....» Богухвалъ — Scribitur enim in vetustissimis codicibus, quod Pannonia sit mater et origo omnium Slavonicarum nationum. Шафарикъ. Древн. § 11. 9. Мѣстныя названія въ Панноніи — Pelso; Tsierna, Διερνα, Tierna; Pathissus; Serbinum, Σέρβινον, Serbetium, Servitium; Bersovia; Granua; Pelva; Bustricius и пр. Страбонъ говоритъ про Аквилею: Ἀνεῖται ἐμπορεῖον τοῖς περὶ τὸν Ἴστρον τῶν Ἰλλυρικῶν ἔθνεσι · κομίζουσι δ’οὗτοι μὲν τὰ ἐκ θαλάττης, καὶ οἷνον ἐπὶ ξυλίνων πίθων ἁρμαμάξαις ἀναθέντες, καὶ ἒλαιον. ἐκεῖνοι δ’ἀνδράποδα, καὶ βοσκήματα καὶ δέρματα (p. 214).
![]()
185
Наконецъ нельзя не обратить вниманія и на слѣдующее обстоятельство: понынѣ у Славянъ постоянный эпитетъ моря — синее; въ Латинскомъ же языкѣ venetus — означалъ голубой, синій цвѣтъ (см. Слов. Роберта Стефана: color venetus (ut ait Vegetius lib. 4. de Re Mil. cap. 34 extr,) caeruleus dicitur, qui color est marinis fluctibus similis.... Hic color etiam thalassicus id est marinus dicitur). — Оттого-то и партія синихъ въ Римскомъ циркѣ назывались Veneti. Mare Venetum, было море синее; такъ и понынѣ слыветъ у Славянъ море Адріатическое. — Выше мы видѣли, что Страбонъ держался прежде того мнѣнія, что Венеты Адріатическіе пошли отъ Гальскихъ; въ послѣдствіи онъ оставилъ его, потому что убѣдился въ справедливости того мнѣнія, что производило ихъ изъ Пафлагоніи. Однако Страбонъ считалъ его весьма вѣроятнымъ; кромѣ того, изъ словъ его ясно, что и до него существовало такое мнѣніе. Очевидно, что еще въ древности считали Венетовъ Адріатическихъ и Гальскихъ одноплеменниками.
Замѣчательно, что Шафарикъ, совершенно независимо отъ этихъ соображеній, уже признавалъ вѣроятнымъ Славянизмъ Венетовъ Гальскихъ [1]. Съ своей стороны не могу не указать на слѣдующія обстоятельства, которыя въ свою очередь подтверждаютъ догадку Суровецкаго и Шафарика. Именно, собственныя имена князей въ древней Бретани (въ V—VI в. по P. X.): такъ князь Соломонъ носилъ еще имена Victric, Vitric, Quicquel, Guitol, Witol; при семъ нельзя не вспомнить и домысла Шафарика о Летахъ въ Галліи, подтверждаемаго по видимому извѣстнымъ замѣчаніемъ Тацита, — Budic, Biudic, Budec, Budecius, Budoix, Dubric, Debrok, Deroch, — въ первой своей формѣ чисто Славянское [2];
1. Древн. § 11. 12.
2. Шаф. Древн. § 19. 6. § 11. 11. Hist. de Bretagne, par M. Daru. Paris. 1826. I, 64, 81. — Budic, см. въ Хорв. грам. Кресимира (ок. 1068 г.) — «actum est in Nona civitate his coram testibus Boleslaus, Tepa testis... Budic, Postelnic testis.» см. y Луція De R. Dalm. et Cr. libri sex. Amstelodami. MDCCLXVIII. p. 76. въ грам. 1069 г. Budec, Postelnic (ib. p. 77). Срвн. Чешск. Zbud и Zbudek; также Богубудъ, Будимиръ и Будивой. Тацитъ (Germ. с. XLV): Ergo jam dextro Suevici maris littore Аestyorum gentes alluuntur; quibus ritus habitusque Suevorum, lingua britannicae propior.
![]()
186
несомнѣнная единоплеменность Венетовъ Гальскихъ съ Британскими также подтверждаетъ догадку объ ихъ Славянскомъ происхожденіи: въ древней Британніи, именно въ области Венетовъ, находились, какъ открывается изъ Путев. имп. Антонина (II или IV в.), слѣдующія мѣстности съ названіями, вполнѣ обличающими Славянское происхожденіе: Delgovitia (= Delgnitia), Sorbioduni (вм. Sorbiodunum) [1]. Такимъ образомъ и съ этой стороны находитъ себѣ подтвержденіе само по себѣ вѣроятное предположеніе о Славянскомъ происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ [2].
Такъ разсѣялось въ авторѣ тяжелое чувство безнадежности, навѣянное на него словами Шафарика, однажды даже назвавшаго суетнымъ и безплоднымъ занятіемъ всякое разсмотрѣніе вопроса о Венетахъ Пафлагонскихъ. При ясномъ пониманіи словъ Страбона, Тацита, Плинія, нельзя, кажется, не утверждать, что единоплеменность Венетовъ Адріатическихъ и Пафлагонскихъ окончательно, такъ сказать, пріобрѣтена для науки; подтверждая Славянство Венетовъ Пафлагонскихъ, она въ свою очередь разбиваетъ сомнѣнія и недоумѣнія относительно вопроса объ Албанизмѣ Венетовъ Адріатическихъ. Какъ ни убѣжденъ пишущій эти строки въ справедливости своихъ выводовъ, однако высокое уваженіе къ великому нашему ученому, одной изъ блестящихъ современныхъ знаменитостей всего нашего племени,
1. Monum. historica Britannica or Materials for the history of Britain from the earliest Period to the end of the reign of king Henry VII. Published by command of her Majesty. MDCCCXLVIII (p. XX—XXII). Смѣю не согласиться съ незабвеннымъ Шафарикомъ, замѣтившимъ, что «позднѣйшія поселенія Славянскихъ Венетовъ въ Батавіи и Британіи не имѣютъ никакой связи съ этими древними Венетами». Венеты Гальскіе, по свидѣтельству Юлія Цезаря, были отличные моряки, слѣд. имѣли полную возможность находиться въ живыхъ сношеніяхъ съ Венетами Балтійскими. Обо всемъ этомъ я буду впрочемъ имѣть случай говорить подробно въ особомъ изслѣдованіи о Славянахъ въ Англіи.
2. Любопытно, что этого мнѣнія держались еще въ старину не только Славяне, но и сами, кажется, Венеціанцы. Такъ въ предисловіи къ изданію Длугоша (1615 г.), посвященномъ Венец. дожу: «Principem Historiae Slavicae Dlugossurn vobis, о qua sol habitabiles illustrat terras, maximi et liberrimi omnium aetatum orbis terrarum, Veneti adfero et quod ejusdem Venetae gentis et generis pars magna estis; nam majores vestri ex Paphlagonia ad Timavum illyricum amnem nostro Slavico sanguini permixti unam ex duabus gentibus fecere, et quod maximum et liberrimum historicorum non nisi apud maximos et liberrimos lucem aspicere debeat,.. etc.
![]()
187
не позволяетъ ему разстаться съ вопросами, дѣйствительно ли разсмотрѣніе вопроса о Славянскомъ происхожденіи Венетовъ Пафлагонскихъ и въ настоящее время въ глазахъ Шафарика есть занятіе суетное и безплодное, и что искать Славянъ въ Пафлагоніи все одно, что искать Славянъ въ Индіи, въ ковчегѣ Ноя? — вопросъ о происхожденіи Венетовъ Адріатическихъ остается ли и понынѣ въ его мнѣніи «предметомъ вѣчныхъ гаданій и споровъ ученыхъ изслѣдователей?» — дѣйствительно ли, что и въ настоящее время Венетамъ Арморійскимъ, Адріатическимъ и Пафлагонскимъ не рѣшается Шафарикъ дать подобающее мѣсто въ «святилищѣ предковъ нашихъ?» Увѣренность автора, быть можетъ конечно напрасная, въ вѣрности и справедливости своихъ выводовъ, и его толкованіе, конечно быть можетъ ошибочное, словъ Шафарика (въ изданіи краткаго Житія св. Климента — pro svou nevšednost а vzácnost, neméně některých míst velikou v historii důležitost), не даютъ ему права ни смѣло и рѣзко отвѣчать на эти вопросы положительно, ни думать о совершенной безплодности настоящаго изслѣдованія о Славянахъ въ Малой Азіи, если и не относительно данныхъ и соображеній, въ немъ предложенныхъ, то хоть относительно возбужденныхъ въ немъ вопросовъ, которые и могутъ и даже кажется должны вызвать, какъ въ Русской, такъ и въ другихъ Славянскихъ литературахъ, новыхъ, несравненно способнѣйшихъ дѣятелей. Они, безъ сомнѣнія не теряя изъ виду общей исторіи Славянской стихіи въ Малой Азіи, преимущественно однако обратятъ свое вниманіе на отдѣльные ея періоды и на частные, весьма важные и необходимые ея вопросы и задачи. Нельзя кажется не отмѣтить въ исторіи Славянской стихіи въ М. Азіи нѣсколько весьма различныхъ періодовъ: первый — съ древнѣйшихъ временъ, съ перваго о нихъ (Венетахъ) извѣстія у Омира, до новѣйшей эпохи, до к. V—VI в. по P. X., т. е. до перехода Славянъ черезъ Дунай. Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ первый періодъ на всегда останется темнымъ; однако нельзя и не надѣяться, что со временемъ, послѣ тщательныхъ розысканій и новыхъ открытій, нѣкоторыя данныя, намеки и соображенія въ состояніи будутъ нѣсколько разсѣять этотъ первобытный мракъ
![]()
188
и вскрыть нѣсколько тайнъ. Такъ, кажется, еще нельзя безусловно довѣрять словамъ Страбона о томъ, что въ его время (I в. по P. X.) уже совершенно исчезли Венеты въ Пафлагоніи, Здѣсь представляются изслѣдователю слѣдующіе главнѣйшіе вопросы и задачи: справедливо ли, что Славяне, по выселеніи своемъ въ Европу, должны были долго сохранять воспоминанія и преданія объ Азіи, какъ о своей прародинѣ? и чувствовать къ ней какое-то влеченіе или стремленіе, которое непремѣнно заставляло ихъ изыскивать средства для своего удовлетворенія? Для полнѣйшаго и основательнѣйшаго разсмотрѣнія и уясненія этихъ вопросовъ потребуются, смѣю думать, весьма подробныя и точныя изысканія не только въ области Славянскихъ, но и Кельтскихъ, Германскихъ, даже Греческихъ и Римскихъ древностей; для аналогіи надо будетъ вникнуть и въ позднѣйшія исторически извѣстныя переселенія народовъ, что особенно необходимо по слѣдующему вопросу: справедливо ли, что болѣе или менѣе значительная часть “племени Славянскаго, при выселеніи своемъ въ Европу, могла остаться въ Азіи, и, оставшись, не могла уже, такъ сказать, не притягивать къ себѣ своихъ Европейскихъ братьевъ, которые въ свою очередь едва ли и безъ того могли не стремиться на востокъ? Также слѣдуетъ, кажется, сдобразить всѣ начальныя свѣдѣнія о Венетахъ въ Пафлагоніи съ исторіею М. Азіи вообще [1] и разсмотрѣть подробнѣе вопросъ о доступности Чернаго моря, Кавказа и Ѳракіи для Славянъ Европейскихъ въ древности. Также нельзя, кажется, не поднять снова вопроса о томъ, въ какой именно степени заслуживаетъ вѣроятія странное и довольно загадочное извѣстіе Прусскаго лѣтописца Луки Давида, или лучше епископа Христіана, который заимствовалъ его изъ какихъ-то Римскихъ записокъ, сообщенныхъ ему Ярославомъ, Плоцкимъ пробстомъ въ Мазовіи, извѣстіе о путешествіи въ царствованіе Августа Виѳинскихъ астрологовъ въ область Венедовъ и Аланъ въ Ливоніи.. Они были уроженцами города Салуры въ Виѳиніи (гдѣ находились города Κίος съ жителями Κιανοί, Λίβυσσα, и гдѣ, по свидѣтельству краткаго Житія св. Климента, давно когда-то жили Славяне).
1. См. у Грота: History of Greece. Third edition. London. 1851. V. III. Ch. XVI.
![]()
189
Отсюда переправившись черезъ море, они пристали къ пустынному краю, не имѣющему постояннаго названія, потому что онъ назывался то Саргатіей, то Гелидой, то Ватиной. Странствуя тамъ и сямъ по этой землѣ, они не могли говорить ни съ однимъ человѣкомъ, пока не пришло къ нимъ изъ Сарматіи нѣсколько Вендовъ, языкъ коихъ, хотя съ трудомъ, однако все же немного понимали» [1].
Второй періодъ: съ VI—VII до XIV в. — до владычества Турецкаго. Здѣсь особенно обратятъ на себя вниманіе: исторія Мало-Азійскихъ провинцій вообще, переходы Славянъ къ Арабамъ, отысканіе Арабскихъ свидѣтельствъ о Славянахъ въ Азіи, сношенія Славянъ Русскихъ и Задунайскихъ съ Малою Азіею. Какъ бы въ доказательство того, что еще много можетъ найтиться новыхъ извѣстій и данныхъ для исторіи отношеній Славянъ къ Малой Азіи въ этотъ періодъ, позволяю себѣ указать на слѣдующее обстоятельство. Почтенный любитель Сербской старины Верковичь нашелъ не такъ давно въ Кратовскомъ монастырѣ одинъ любопытный памятникъ относительно раздѣленія монархіи Душана между его вельможами. «Это большой листъ, на которомъ начерчено 8 круговъ; въ каждомъ кругѣ надпись». На верхней части листа, въ третьемъ кругѣ, читаемъ слѣдующую надпись: «Богданȣ мȣжȣ искȣснȣ во воинственныхъ потребахъ ѿдалъ градъ ассокь в’ троади» [2].
1. Ни Шафарикъ (Древн. § 8. 12), ни Фойгтъ (Gesch. Preussens. I, 33. 623—624) не отвергали голословно всего этого сказанія. Напротивъ того, первый, сознавая вполнѣ всю его загадочность, замѣтилъ даже: «безразсудно бы было вовсе отвергать это сказаніе, какъ обыкновенную басню». Говорятъ, что въ настоящее время Фойгтъ перемѣнилъ свое мнѣніе; едва ли это что нибудь доказываетъ. Здѣсь весьма любопытно то обстоятельство, что Римляне Виѳинскіе нѣсколько понимали Вендовъ. Невольно рождается вопросъ: съ чего, зачѣмъ и для чего выдумывать было Прусскимъ лѣтописцамъ такую странную басню? Считать все это сказаніе отъ начала до конца за чистый вымыселъ просто мнѣ кажется невозможно. Какъ бы въ подтвержденіе подложности этого извѣстія указывали даже на имя Ярослава (Плоцкаго пробста), которое будто бы у Поляковъ никогда не употреблялось. Такое мнѣніе крайне неосновательно: не говоря уже объ Ярославѣ Ласскомъ, укажу на извѣстнаго Гнѣзненскаго архіепископа Ярослава Скотницкаго († 1372 г.), бывшаго еще ректоромъ въ Болонскомъ университетѣ. Вообще имя это у Поляковъ въ обычаѣ.
2. Изв. II Отд. Акад. Наукъ. T. VI. Вып. V. С. 400. Городъ Ассокъ есть ничто ипое, какъ древній городъ Троады — Assus, ἡ Ἄσσος (Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II, 142–143). Здѣсь надобно замѣтить, что въ Славянскомъ языкѣ переходъ с въ ц и ч и обратно довольно обыченъ; такъ: цвѣсти и свѣсти, царапать и сарапатъ, камселарія, пансыръ, опрись и опричь, палесъ и пальсы, черпь и серпъ, зычно и зысно, чвара и свара. Какъ Санскритскій нёбный звукъ ç, происшедшій отъ звука к, отвѣчаетъ часто въ Греческомъ, Латинскомъ, Кельтскомъ, Германскомъ и Славянскомъ языкахъ звуку -к, такъ точно и внутри самого Славянскаго языка есть случаи перехода к въ с и обратно, что впрочемъ облегчалось и переходомъ с въ ц, ч и обратно. Такъ Обл. сл. ропакъ и ропасъ, дундукъ и дунгусъ (г и д мѣняются очень часто: для и гля и пр.), рыбакъ и рыбасъ, власъ и влак-но, лакомый и ласа, ласовать, дуракъ, дураситъ (Дурасовъ), карманъ и сара (деньги), келепъ и селепъ, Оѳенск. куребро — серебро, тетеревъ косачъ и сосачь, ис Келистрѣи їдетъ (Спмб. Сб. Малор. Д. С. 39); Сербск. заклонити и заслонити:
Бог те здраво и мирно носио
Од душмапске руке заклоино.
(Сбора. Вука. 2-е изд. III, 393) ;
«вьси въсланı-аѥм’сѧ, и тебѣ славѫ и благодарениѥ въздаѥмъ». (Cod. Supr. ed. Miklosich. 252, 21). Срвн. въ Лавр. сп. : «Вротанию, Сикилию, Явию, Родока, Хиѡна» и пр. Такъ и Ассокь вм. Ассосъ.
![]()
190
Понынѣ, сколько мнѣ извѣстно, еще не имѣлось никакихъ свѣдѣній не только о Славянскихъ владѣніяхъ, но и о Славянскихъ поселеніяхъ въ древней Троадѣ. Когда и какимъ путемъ пріобрѣлъ себѣ Стефанъ Душанъ это владѣніе, сказать теперь трудно; быть можетъ, оно было уступлено Византійскимъ дворомъ за какую нибудь услугу или помощь, оказанную Сербами Грекамъ, при Милутинѣ и его преемникѣ, или при самомъ Душанѣ, который, твердо задумавъ завоеваніе Цареграда, не могъ не пользоваться всѣми случаями, благопріятствовавшими этой цѣли; а въ этомъ отношеніи для него, конечно, было весьма важно имѣть какую нибудь точку опоры въ Малой Азіи.
Третій періодъ: въ Турецкое владычество до настоящаго времени, когда съ преобразованіемъ и разложеніемъ Оттоманской Порты готова настать новая эпоха въ исторіи отношеній Славянъ къ Малой Азіи. Главнѣйшею задачею въ изслѣдованіи этого періода представляется путешествіе въ М. Азію этнографа, близко знакомаго съ языками Турецкимъ, Греческимъ и Славянскимъ, съ цѣлью изучить не только нынѣ имѣющіяся Славянскія поселенія въ Малой Азіи, но и вообще христіанское и мусульманское ея населеніе, его языкъ, напѣвы, домашній быть и пр.; такъ какъ, зная многочисленныя Славянскія поселенія въ Малой Азіи, не только во второй,
![]()
191
но и въ третій періодъ исторіи отношеній Славянъ къ Малой Азіи (такъ Магометъ II увелъ изъ Сербіи и Босніи около 200,000 жителей и множество изъ нихъ поселилъ въ М. Азіи) [1], нельзя не предполагать, что и понынѣ сохранились въ Мало-Азійскомъ населеніи болѣе или менѣе значительные слѣды переродившихся Славянъ. Вообще, кажется, Малая Азія заслуживаетъ вниманія ученыхъ Русскихъ, какъ въ этнографическомъ, такъ и въ археологическомъ и даже въ экономическомъ отношеніяхъ, ибо эта классическая земля, столь справедливо и издавна привлекающая къ себѣ любознательныхъ ученыхъ, изъ числа коихъ каждый Русскій конечно вспомнитъ съ признательностію и своихъ замѣчательныхъ соотечественниковъ М. Вронченка и Чихачева, эта классическая земля, столь тщательно изучаемая напр. Англичанами и въ видахъ торговыхъ, экономическихъ, можетъ и даже должна вызывать и насъ Русскихъ на такія же старательныя изысканія, ибо неминучіе дальнѣйшіе наши успѣхи на Кавказѣ и столь для насъ желанное и во всякомъ случаѣ необходимое нравственное и соціальное возрожденіе Славянъ Турецкихъ все болѣе и болѣе должны сближать Россію и весь міръ Славянскій съ М. Азіею.
Въ заключеніе нельзя не замѣтить, что отношенія Славянъ къ Малой Азіи и въ прошедшемъ и въ будущемъ — предметъ, заслуживающій великаго вниманія, возбуждающій множество самыхъ разнообразныхъ вопросовъ, которые ждутъ и требуютъ своего разрѣшенія главнѣйше, почти исключительно, отъ Русскихъ и вообще Славянъ. Такимъ образомъ, кажется, очевидна тѣсная и неразрывная связь всѣхъ этихъ многочисленныхъ вопросовъ съ двумя другими, изъ коихъ одинъ — о распространеніи Русскаго языка внѣ предѣловъ Россіи — составляетъ предметъ постоянныхъ желаній каждаго Русскаго, а другой — объ изученіи Славянскихъ языковъ и литературъ въ Россіи и объ умственномъ и литературномъ ея общеніи съ міромъ Славянскимъ — въ глазахъ большинства образованныхъ Русскихъ людей понынѣ представляется какъ бы дѣломъ пустымъ, ничтожнымъ и не стоющимъ почти никакого вниманія.
1. Zinkeisen (Joh. Wilh.) Gesch. d. Osm. Reiches in Europa. Gotha. 1855. II, 177.